| СТИХИ | СТАТЬИ | ПЕРЕВОДЫ | ПИСЬМА | АВТОБИОГРАФИИ | ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ |
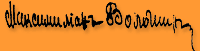
| ЖИВОПИСЬ | ВОСПОМИНАНИЯ | ФОТОЛЕТОПИСЬ | БИБЛИОГРАФИЯ | КАТАЛОГИ | СЛОВНИК |
|
Валентина ВяземскаяНАШЕ ЗНАКОМСТВО С МАКСОМВ первый раз мы увидели Макса в Севастополе у Натальи Александровны Липиной1. Мы заезжали к ней проездом в Петербург. Ему было года три или четыре. Это был маленький увалень, который верил всему, что бы ни выдумывали, и прятался и удирал от несуществующих чудовищ. Он показался странным ребенком и малоинтересным. Через три года Елена Оттобальдовна привезла его к нам в Москву2, где мы тогда проживали. Как же я была удивлена, увидав вместо маленького увальня красавчика в русском вкусе. Как водится, он сначала стеснялся. Чтобы его занять, дать ему освоиться, я предложила ему играть, в карты. Он сказал, что умеет играть в «Никитки». Я и по сие время не знаю, в чем игра эта заключалась, но цели своей она достигла: мой маленький гость разболтался и так мило учил ей, так очаровательно говорил: «Кла-а-ади, би-и-ири», что я до сих пор это помню. Он так разошелся, что рассказал мне про Сороку Белобоку (он говорил «Сароку Билабоку»). Тут я пришла в восторг и потащила его ко взрослым рассказывать про «Сороку». В его манере говорить было что-то чарующее. Он своеобразно выговаривал слова, растягивая гласные, и то выражение, которое он давал произносимому, было так оригинально, что все взрослые с интересом слушали. Это посещение положило начало нашей дружбе. После этого он стал часто у нас бывать и был и чувствовал себя на положении близкого родственника. Весною они совсем переехали к нам. Я была чуть не вдвое старше его (ему был 7-й, а мне 12-й год), но мне было веселее с ним, чем со своими сверстницами. В нем было такое интересное сочетание наивной простоватости с острым умом и наблюдательностью. Он мог тут же подряд поразить то нелепостью, то мудростью не по летам своих мыслей и суждений. Вскоре он начал декламировать уже не «Сороку», а Пушкина и Лермонтова — «Полтавский бой», «Бородино», отрывки из «Демона» Как-то, когда я завела для Макса свой «граммофон»3, он сказал: «Да, я прежде лучше говорил стихи, чем теперь». Конечно, надо быть Максом, чтобы говорить подобные вещи, но верно то, что слова из «Демона»: «Когда он верил и любил» — маленький Макс говорил с такою силою и убедительностью, с какой не сказать взрослому поэту, особенно в наше время. В этом возрасте Макс приходил в азарт, декламируя. Мой дядя Митрофан Дмитриевич4, с которым мы тогда жили, человек с сильной юмористической жилкой, чтобы его подзадорить, предлагал ему состязания: кто лучше скажет, например, «Бородино». Макс относился к этим состязаниям вполне серьезно. Однажды, когда для большего эффекта декламации ему посоветовали влезть на стол, он, спускаясь после прекрасно выполненной задачи, обратился к дяде: «Ну, Митрофан Дмитриевич, теперь вы полезайте на стол». Как-то моя мать его спросила, что ему особенно нравится в «Полтаве», которую он с таким подъемом декламировал. Он, не задумавшись, сказал: «Сии птенцы гнезда Петрова» (до «полудержавный властелин») Тогда она его спросила, что все это, по его мнению, значит. Он сказал, что не знает. Это вышло очень комично, но, в сущности, в поэзии прелесть непонятных, то есть действующих не на сознание, а на подсознание, строк пленяет очень многих, и в наше время это-то и считается поэзией. И его казавшиеся смешными слова были глубоки. У него в то время определенно чувствовалось пристрастие к красивому стиху. Он шутя запоминал большие отрывки из Пушкина и Лермонтова. У него в большом ходу в то время была еще книжечка Даля, из которой он восхитительно рассказывал про Совушку, Петушка и Лисичку, Бабушкиного бычка — на прекрасном народном языке. Он также любил повторять отрывок из «Конька-Горбунка» про ерша. Слушать он умел удивительно, не сводя глаз с чтеца. Чаще всего — того же Митрофана Дмитриевича, с которым он состязался, и ужасно любил, чтобы ему рассказывали сказки. Как-то в сумерки Люба5 стала сочинять для него сказку про Большую Медведицу и хотела оставить без конца, потому что нас чем-то прервали. Не тут-то было... Он пристал к ней, как репешек, и не отстал, пока заинтересовавшая его сказка не получила достодолжного окончания. Он любил смотреть картинки и подолгу мог сидеть и их рассматривать. У него были любимые игрушки: кукла и обезьяна, которую он торжественно называл Обезьяна Ивановна. По внешности он обращался с ними довольно небрежно, и они были у него довольно-таки потрепанными, но он их как-то вочеловечивал, особенно обезьяну, и я до сих пор помню Максину Обезьяну Ивановну как личность. Лето Макс с матерью провели в Москве, мы же уезжали на юг. Осенью мы снова встретились и заметили, что Макс опять стал проявлять странности, а именно — бояться сверхъестественного. Он отворачивался от некоторых мест, произносил заклинания и показывал все внешние проявления ужаса по разным, весьма неожиданным, поводам. Объяснялось это влиянием Туркина и Валериана6, которые шутки ради внушали ему подобные мысли. Старание его разубедить, объяснить, что его зря морочат, ни к чему не вело. Он пресерьезно, садясь за стол, простирал руки и говорил: «Аминь, аминь, рассыпься, чур, мое место свято» Однажды в середине заклинания Валериан взял да пере вернул его кверх ногами. Вышло ужасно комично, а он как будто искренно стал приписывать духам то, что он взлетел на воздух, и рассказывал другие подобные факты. Заставить его одного в темноту выйти в сад было невозможно... Казалось, он весь был во власти нелепого суеверия!.. Но тут являлся вопрос: в самом ли деле это было так, действительно ли он верил или только делал вид, что верит? Наблюдая за ним, мы чувствовали, что ему казалось интересным верить в сверхъестественное, жизнь при такой вере казалась ему красочнее и увлекательнее обыденной. Он такой жизни желал, к ней стремился и поэтому верил. Но... рядом с чудачком, которого можно было обмануть чем угодно и над которым все потешались, уже и тогда жил умный, трезвый человечек, который отлично знал, что его морочат, но молчал об этом, ибо жизнь, если дать уму руководить ею, казалась ему скучнее. Да и сказать ли? Макс любил, чтобы все кругом него были заняты им, а при старании проводить его и морочить, разумеется, окружающие были очень заняты и заинтересованы им. Поэтому еще вопрос, кто кого водил за нос: те ли, кто дразнил его, или он тех, кто его дразнил. Одно из самых оригинальных качеств Макса всегда было его отношение ко мнению о нем других людей. Его нельзя было задеть, раздражить, раздразнить, напугать, вывести из себя. Все, что ему говорили про него самого, было ему «интересно». Это качество чувствовалось и в детстве. Когда его хотели разозлить, он просто находил, что сказанное «интересно», и так к этому и относился (хотя, конечно, не осознавал своего отношения), и получалось часто не совсем то, чего ожидал его оппонент. Повторяю, у Макса с детства было тяготение к необыденному в жизни. Неопределенное чувство ужаса, вызываемое сверхъестественным, несомненно, было необыденным, и его к этому тянуло. На этой струне играл Туркин, когда пугал его. У одного из французских писателей прошлого столетия (кажется, Бурже или Маргерит) есть рассказ о детстве, очевидно автобиографический, озаглавленный «Пум» («Poum»). Одна глава, где описано, как Пум следует за своим кузеном в сад, темный и страшный, зная, что его будут пугать, что он будет дрожать от ужаса, следует потому, что сам не знает — боится он этого или стремится к этому страху. Тут переживания Пума прекрасно передают переживания Макса. Благодаря этому он и слушал чтение Эдгара По — очевидно, со смесью ужаса и наслаждения, когда Туркин ему читал. Нам же он рассказывал лишь о первом, то есть об ужасе. Но второе, несомненно, было налицо, иначе зачем бы он стал его слушать. Туркин вообще мудрил над ним, и со стороны казалось странным, что Елена Оттобальдовна ему это позволяла. Надо думать, что, с одной стороны, она была очень занята и не во все входила, а с другой, что оригинальность этих отношений ее забавляла и ей любо было, что фокусы учителя выявляют необычайность способностей ученика. И потому она смотрела сквозь пальцы на непедагогичность таких приемов. А может быть, это и не было ошибкой, может, все эти переживания служили его духовному росту и своеобразию его духовного склада. «Chi lo sa»1*, как говорят итальянцы. Во всяком случае, он часто жил в мире, сильно отличающемся от мира детей его возраста, и был одновременно и глупее, и умнее их. Впрочем, главные мудрствования Туркина происходили не на моих глазах (при моей матери он таких вещей не делал). Это происходило в то время, когда мы жили в Петербурге. Несколько лет мы бывали у них проездом через Москву, и Макс был тем же милым ребенком. Потом мы года два не виделись и встретили его уже отроком. Елене Оттобальдовне было лет 35, когда мы с ней познакомились. Она была очень красива. В официальных случаях она надевала прекрасно сшитое черное шелковое платье, а по праздникам красный шелковый запон и бывала идеально красива. Обычно же она носила малороссийский костюм с серым зипуном, и, я думаю, ее оригинальность бросалась больше в глаза, чем ее красота. Она была очень умна и с большим юмором. Слушать ее разговоры с Максом было ужасно смешно, она в такой уморительной форме отвечала на его требования. Хотя в то время, может быть, это и не всегда было приятно Максу, так как она была, в сущности, очень строга, но думаю, что эти разговоры значительно способствовали развитию в нем того юмора, который составлял одну из его столь привлекательных сторон. Она так умела со стороны видеть многое в комическом свете и сама даже не замечала, как метко она подчеркивала чужие нелепости. Я и сейчас замечаю в себе некоторые следы влияния ее оригинального ума. Она была большая спорщица и часто спорила с моим дядей так, как описано у Тургенева в «Дворянском гнезде». В пылу сражения они говорили больше, чем думали. Я помню случай, когда в конце спора Елена Оттобальдовна заявила: «Митрофан Дмитриевич, а помните, на прошлой неделе я говорила то самое, что вы теперь оспариваете, а вы спорили против меня». Так в пылу спора они поменялись ролями. Все в Елене Оттобальдовне было оригинально и своеобразно, ничего в ней не было стереотипного. Когда она говорила серьезно, в ее речах было что-то сверхобыденное и потому поэтичное. Она ездила верхом в мужском костюме и была в нем красавцем юношей, и никак нельзя было принять ее за переодетую женщину. Наталья Александровна Липина — очень интересная личность и большая энтузиастка — была другом как Елены Оттобальдовны, так и моей матери. Она стремилась сблизить этих своих друзей, но это ей удалось не при жизни — очень уж они были разные люди по внешнему складу, — а после смерти. <…> Мама пела, у нее был необыкновенный голос. Эстетка, она искала вокруг красоты и гармонии и идеализировала внешние формы социального строя, а Елена Оттобальдовна не признавала никаких внешних форм. Но вот они обе прочитали в газетах о трагической кончине Натальи Александровны7. Елена Оттобальдовна, обезумев от горя, пришла к маме говорить об общем друге. Трое суток она пробыла у нас, и это было началом дружбы на всю жизнь. Общее горе сблизило их, мама заглянула ей в душу и увидала, какие сокровища доброты и душевной тонкости скрываются под несколько суровой и странной внешностью. <...> Написала все, что могла припомнить о Максе-ребенке. Сейчас прибавляю еще несколько слов о Максе-отроке. Мы были проездом в Москве, когда Максу было 13 лет. Приезжаем к ним, встречает одна Елена Оттобальдовна. «А Макс?» — «У себя в комнате». — «Почему не выходит?» — «Стесняется». Пошли к нему — он сидит под столом. О дальнейшем расскажу словами Елены Оттобальдовны, которые мне лучше запомнились, чем действительные события. «Он от Любы и Лины спрятался под стол. Его вытащили, расцеловали, велели не стесняться». После этого мы провели два дня с ним так же дружно, как и до разлуки. Мама просила его прочитать нам стихи. Но он сказал, что сейчас ничего интересного не помнит и выразил желание почитать вслух. Он стал читать детство Молотова Помяловского8. Он читал так прекрасно, так выразительно, так симпатично и выглядел при этом так умно, что моя мать, которая обладала исключительным артистическим чутьем и вкусом и была очень требовательна к чтению, до конца жизни не могла забыть чтения Макса-отрока. Конечно, он много рассказывал, но что — я уже не помню. Перемена в его внешности была главным образом в том, что он оставил свою детскую прическу и его умный лоб был открыт, и это давало отпечаток мысли его лицу, давало какую-то глубину его взгляду. В остальном он был такой же славненький, как и раньше, только в серой форме. <…> ...В то время, когда я его знала (до школы), Макс всегда был одет стильно: летом в матросском костюме с подходящей фуражкой и пальто, а зимою в русском. Я его помню в рубахе цвета бордо, которая к нему очень пристала. Волосы были зачесаны на лоб, как на фотографиях того времени. Цвет лица у него был восхитительный: белый и румяный, и масса веснушек, которые нисколько его не портили. Глаза его иногда были задумчивы и глубоки, чаще веселы и «смешливы», а подчас они были очень хитренькие. Он никогда не был беспокойным и назойливым ребенком, хотя очень любил болтать, но делал это только тогда, когда его на это вызывали. При его внешности желающие с ним беседовать легко находились. Вот что рассказывают о начале одного такого знакомства в поезде. Одна пассажирка спросила его: «Ну, а как тебя зовут?» — «Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, — отвечает веско пятилетний Макс. — Но, если это вам кажется слишком длинно, можете звать меня просто Макс», — снисходительно добавляет он. Собеседница в восторге от такого ответа, и разговор продолжается до приезда на место назначения. Говорить он мог до бесконечности, есть — тоже мог без конца, и в этом была драма его жизни9, ибо жестокосердная мамаша строго дозировала его пищу. Я его очень жалела и пробовала за него ходатайствовать, но Елена Оттобальдовна очень серьезно мне сказала, что не может позволять Максу есть, сколько он хочет, без серьезного вреда для его здоровья, — и, таким образом, положила конец всяким моим просьбам. Ужасно потешно (но и немного жалко) было слушать разговоры матери с сыном по этому поводу: «Мам, а мам (выговаривалось как-то «мум»), мам-мама, мам-мама, я хочу...» — «Ну хоти, хоти», — отвечала совершенно серьезно, без тени улыбки, эта оригинальная женщина. За вечерним чаем ему выдавалось 3 ломтя хлеба и 3 куска колбасы. Сначала он съедал ломоть хлеба без колбасы, затем — с одним куском колбасы, и, наконец, наступал торжественный момент. Макс старался обратить на себя общее внимание и ел один ломоть хлеба с двумя кусками колбасы. Все это выходило у него до того потешно, что я через бесчисленное количество лет пишу об этом с невольной улыбкой. Кто-то внушил ему, что самые лучшие огурцы — самые спелые, то есть самые большие и желтые, и он ко всеобщему развлечению просил огурец «побольше, да пожелтее, поспелее». При игре в мнения его изречения всегда были очень оригинальны, как французы говорят, saugrenu2*. Но при всей странности, они часто были не лишены известной меткости, а иногда даже глубины. Например, лично обо мне он сказал «Картонка с мозгом». Я действительно была в то время в периоде философствования по всякому поводу. Про меня как-то сказали: «Если Лине поручить описать, например, самовар, она тщательно опишет его внутреннее устройство и ни словом не обмолвится о его внешнем виде». Из чего видно, что, при некоторой нелепости формы, высказывание Макса доказывало его наблюдательность. Максина молитва тоже была очень оригинальна. Как и большинство детей его времени, он утром и вечером читал «Господи, помилуй папу и маму» и кончал: «и меня, младенца Макса, и Несси3*. Услыхав это, Валериан стал рассказывать, как Макс будет молиться в будущем. Сначала: «и меня, гимназиста Макса, и Несси», потом: «и меня, студента Макса, и Несси», и, наконец, когда он станет важным лицом: «и меня, статского советника Макса, и Несси». Как я уже говорила, такие шутки его нисколько не задевали. Он сам входил в них. Сколько веселья вносил он в жизнь даже и тогда. Как-то, гуляя по депо Брестской дороги, мой дядя рассказывал Елене Оттобальдовне о каком-то протоколе, составленном по поводу вентиляционной трубы, мимо которой они проходили и которая лежала, зияя огромной страшной пастью. Макс стал спрашивать, что такое протокол. Увлеченный разговором, дядя махнул в сторону трубы и сказал что-то нечленораздельное, из чего Макс понял, что эта труба и есть протокол. Валериан не преминул укрепить его в этой мысли и прибавить, что туда сажают детей за дурное поведение. Долгое время после этого Макс пуще всего боялся попасть в протокол. Будучи совсем маленьким, он рассказал, что сочинил стихи: «В смехе под землею жил богач с одной ногою». Как-то его спросили о его дне рождения, он долго не мог припомнить и наконец воскликнул: «Знаю, знаю: шестнадцатого мая». Тут уж получилась целая поэма, которой он очень гордился. <…> Когда мы в следующий раз встретились с Максом, он был уже студентом, а я недавно замужем. Мы жили в Севастополе, и моя семья вся гостила у меня. Елена Оттобальдовна с ним приехала повидаться с мамой. Очень странно было увидеть своего друга с бородою... Хотя он был очень юн, но казался солиднее благодаря этому. Мы все вместе на двух извозчиках совершили поездку в Ялту. Какой он был интересный тогда, сколько декламировал стихов, своих и чужих!.. Как приятно было слышать их в чудной обстановке крымской природы! Приведу одно юношеское его стихотворение, которое [хорошо представляет] Макса в то время; Думы непонятные
КомментарииВалентина Орестовна Вяземская (в замужестве Селезнева, 1871—?) — дочь инженера путей сообщения. Воспоминания написаны ею в форме писем к М. С. Волошиной (по ее просьбе) осенью 1934 г
1 Наталья Александровна Липина — подруга Елены Оттобальдовны Волошиной. У Липиной Е. О. Волошина жила с сыном в Севастополе после ухода от мужа. 2 Е. О. Волошина с сыном переехала в Москву в декабре 1881 г. Весной 1883 г. Елена Оттобальдовна и Макс поселяются в квартире Вяземских в Ваганьково. 3 В. Вяземская умела «имитировать» детское чтение стихов Максом Волошиным. 4 Митрофан Дмитриевич Пшенецкий — брат Елены Дмитриевны Вяземской (урожд. Пшенецкой, ?—1929), матери Валентины Орестовны. 5 Сестра Валентины Орестовны — Любовь Орестовна Вяземская (1869—1958) — педагог. 6 Валериан Орестович Вяземский (1868—?) — брат Валентины Орестовны, инженер-путеец, профессор петербургского Института путей сообщения. С В. О. Вяземским в сентябре 1900 года Волошин отправился в Среднюю Азию, на изыскания трассы Оренбург-Ташкентской железной дороги. 7 Н. А. Липина и ее муж погибли 5 декабря 1883 (Чернопятов В. И. Некрополь Крымского полуострова. М., 1910). В Севастополе Волошин дружил с их дочерью Инной. 8 Речь идет о повести Н. Г. Помяловского «Молотов». 9 Волошин с детства страдал неправильным обменом веществ. 10 У Вяземских под Севастополем было имение Еленкой (от имени «Елена» и татарского «кой» — деревня). Е. О. и М. А. Волошины навестили их там в июле 1896 г.
|
||||||
| © 2006 | Cedits | Contacts | Report an error |
 шаг назад
шаг назад предыдущая
предыдущая содержание
содержание вниз
вниз печатать
печатать следующая
следующая вверх
вверх