| СТИХИ | СТАТЬИ | ПЕРЕВОДЫ | ПИСЬМА | АВТОБИОГРАФИИ | ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ |
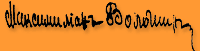
| ЖИВОПИСЬ | ВОСПОМИНАНИЯ | ФОТОЛЕТОПИСЬ | БИБЛИОГРАФИЯ | КАТАЛОГИ | СЛОВНИК |
|
Марина ЦветаеваЖИВОЕ О ЖИВОМ…И я, Лозэн, рукой белей, чем снег,
Одиннадцатого августа — в Коктебеле — в двенадцать часов пополудни — скончался поэт Максимилиан Волошин. Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было, после естественного удара смерти — удовлетворенность: в полдень: в свой час. Жизни ли? Не знаю. Поэтому всегда пора и всегда рано умирать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня. Но, во всяком случае, в свой час суток и природы. В полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира, — в свой час, в волошинский час. И достоверно — в свой любимый час природы, ибо 11 августа (по-новому, то есть по-старому конец июля), — явно полдень года, самое сердце лета. И достоверно — в самый свой час Коктебеля, из всех своих бессчетных обликов запечатлевающегося в нас в облике того солнца, которое как Бог глядит на тебя неустанно и на которое глядеть нельзя. Эта печать коктебельского полдневного солнца — на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб. Солнца такого сильного, что загар от него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами, и такого доброго, что, невзирая на все свои пятьдесят градусов — от первого дня до последнего дня — десятилетиями позволяло поэту сей двойной символ: высшей свободы от всего и высшего уважения: непокрытую голову. Как в храме. Пишу и вижу: голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили (особенно дамы), есть ли или нет под ним штаны1. Парусина, полынь, сандалии — что чище и вечнее, и почему человек не вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина, и сменяющееся, но неизменное, как сандалии и полынь) — чистое и вечное — грязному (городскому) и случайному (модному)? И что убийственнее — городского и модного — на берегу моря, да еще такого моря, да еще на таком берегу! Моя формула одежды: то, что не красиво на ветру, есть уродливо. Волошинский балахон и полынный веночек были хороши на ветру. Итак, в свой час — в двенадцать часов пополудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, ибо любил архаику и весомость слов, в свой час суток, природы и Коктебеля. Остается четвертое и главное: в свой час сущности. Ибо сущность Волошина — полдневная, а полдень из всех часов суток — самый телесный, вещественный, с телами без теней и с телами, спящими без снов, а если их и видящими — то один сплошной сон земли. И, одновременно, самый магический, мифический и мистический час суток, такой же маго-мифо-мистический, как полночь. Час Великого Пана, Demon de Midi2*, и нашего скромного русского полуденного, о котором я в детстве, в Калужской губернии, своими ушами: «Ленка, идем купаться!» — «Не пойду-у: полуденный утащит». — Магия, мифика и мистика самой земли, самого земного состава. Таково и творчество Волошина, в котором, по-женски-гениально-непосредственному слову поэтессы Аделаиды Герцык, меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем реки. Творчество Волошина — плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той — мало насквозь прогретой, — сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек («семь пудов мужской красоты», как он скромно оповещал) был необычайный ходок, и жилистые ноги в сандалиях носили его так же легко и заносили так же высоко, как козьи ножки — козочек. Неутомимый ходок. Ненасытный ходок. Сколько раз — он и я — по звенящим от засухи тропкам, или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок, без помощи рук, с камнем во рту (говорят, отбивает жажду, но жажду беседы он у нас не отбивал), итак, с камнем во рту, но, несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совместность — как только свидевшиеся друзья — в непрерывности беседы и ходьбы — часами — летами — все вверх, все вверх. Пот лил и высыхал, нет, высыхал, не успев пролиться, беседа не просыхала — он был неутомимый собеседник, то есть тот же ходок по дорогам мысли и слова. Рожденный пешеход. И такой же лазун. Не таким он мне предстал впервые, в дверях залы нашего московского дома в Трехпрудном, о, совсем не таким! Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды. Вкрадчивый голос: «Можно мне видеть Марину Цветаеву?» — «Я». — «А я — Макс Волошин. К вам можно?» — «Очень!» Прошли наверх, в детские комнаты. «Вы читали мою статью о вас?» — «Нет». — «Я так и думал и потому вам ее принес. Она уже месяц как появилась»2. Помню имена: Марселина Деборд-Вальмор, Ларю-Мардрюс, Ноайль3 — вступление. Потом об одной мне — первая статья за жизнь (и, кажется, последняя большая) о моей первой книге «Вечерний альбом». Помню о романтике сущности вне романтической традиции — такую фразу: «Герцог Рейхштадский, Княжна Джаваха, Маргарита Готье — герои очень юных лет…», цитату: Если думать — то где же игра?4 — и утверждение: Цветаева не думает, она в стихах — живет, и главный упор статьи, стихи «Молитва»: Ты дал мне детство лучше сказки,
Вся статья — самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию. «Она давно появилась, больше месяца назад, неужели вам никто не сказал?» — «Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат». — «А вы — в гимназии? Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии?» — «Пишу стихи». Некоторое молчание, смотрит так пристально, что можно бы сказать, бессовестно, если бы не широкая, все ширеющая улыбка явного расположения — явно располагающая. — А вы всегда носите это?.. — Чепец? Всегда, я бритая. — Всегда бритая? — Всегда. — А нельзя ли было бы… это… снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы. Ничто так не дает человека, как форма его головы. — Пожалуйста. Но я еще руки поднять не успела, как он уже — осторожно — по-мужски и по-медвежьи, обеими руками — снял. — У вас отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю… Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву — на чурбан — кстати, глаза точь-в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки — и, просительно: — А нельзя ли было бы уж зараз снять и… Я: — Очки? Он, радостно: — Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки. Я, на этот раз опережая жест: — Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу. Он, спокойно: — Вам видеть не надо, это мне нужно видеть. Отступает на шаг и, созерцательно: — Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверное, это часто говорят? — Никогда, потому что никто не видел меня бритой. — Но зачем же вы тогда бреетесь? — Чтобы носить чепец. — И вы… вы всегда будете бриться? — Всегда. Он, с негодованием: — И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова, ведь это — у поэта — главное!.. А теперь давайте беседовать. И вот беседа — о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю — полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого — и каких глаз: светлых почти добела, острых почти до боли (так слезы выступают, когда глядишь на сильный свет, только здесь свет глядит на тебя), не глаз, а сверл, глаз действительно — прозорливых. И оттого, что не больших, только больше видящих — и видных. Внешне же: две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок, за которой бы зажгли — что? ничего, такие брызги остаются на руках, когда по ночному волошинскому саду несутся с криками: скорей! скорей! море светится! Не две капли морской воды, а две искры морского живого фосфора, две капли живой воды. Под дозором этих глаз я, тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь — личное, сплошь — лишнее: о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне II, с Ростановского «Aiglon»3*, о Сарре Бернар5, к которой год назад сорвалась в Париж, которой там не застала и кроме которой там все-таки ничего не видела, о том Париже — с N majuscule4* повсюду — с заглавным N на взлобьях зданий — о Его Париже, о моем Париже. Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, изредка, в перерыве моего дыхания, вставляя: — А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо — вы знаете? — Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и Наполеона II — и какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на Св. Елену и с Вторым в Шенбрунн. Наконец, в секунду, когда я совсем захлебнулась: — Вы здесь живете? — Да, то есть не здесь, конечно, а… — Я понимаю: в Шенбрунне. И на Св. Елене. Но я спрашиваю: это ваша комната? — Это — детская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя сестра — Ася. — Я бы хотел посмотреть вашу. Провожу. Комната с каюту, по красному полю золотые звезды (мой выбор обоев: хотелось с наполеоновскими пчелами6, но так как в Москве таковых не оказалось, примирились на звездах — звездах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами Отца и Сына5* — Жерара, Давида, Гро, Лавренса, Мейссонье, Верещагина — вплоть до киота, в котором богоматерь заставлена Наполеоном, глядящим на горящую Москву). Узенький диван, к которому вплотную письменный стол. И все. Макс, даже не попробовавший втиснуться: — Как здесь — тесно! Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку. Никогда не ощущала ее избытком жира, всегда — избытком жизни, как оно и было, ибо он ее легко носил (хочется сказать: она-то его и носила!) и со своими семью пудами никогда не возбуждал смеха, всегда серьезные чувства, как в женщинах любовь, в мужчинах — дружбу, в тех и других — некий священный трепет, никогда не дававший сходиться с ним окончательно, вплотную, великий барьер божественного уважения, то есть его божественного происхождения, данный еще и физически, в виде его чудного котового живота. — Как здесь тесно! Действительно, не только все пространство, несуществующее, а весь воздух вытеснен его зевесовым явлением. Одной бы его головы хватило, чтобы ничему не уместиться. Так как сесть, то есть пролезть, ему невозможно, беседуем стоя. Вкрадчивый голос: — А Франси Жамма6* вы никогда не читали? А Клоделя вы… В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не Франси Жамму и Клоделю, а — к Ростану, к Ростану, к Ростану. Et maintenant il faut que Ton Altesse dorme.. — Вы понимаете? Ton (любовь) — и все-таки Altesse! Ame pour qui la mort fur une guerison… A для кого — не? Dorme dans le tombeau de sa double prison. De son cercueil de bronze et de son uniforme7* — Вы понимаете, что Римского короля похоронили в австрийском!7 Слушает истово, теперь вижу, что меня, а не Ростана, мое семнадцатилетие во всей чистоте его самосожжения — не оспаривает — только от времени до времени — робко: — А Анри де Ренье вы не читали — «La double maitresse»8*? A Стефана Маллармэ вы не… И внезапно — au beau milieu Victor Hugo9* Наполеону II — уже не вкрадчиво, а срочно: — А нельзя ли будет пойти куда-нибудь в другое место? — Можно, конечно, вниз тогда, но там семь градусов и больше не бывает. Он, уже совсем сдавленным голосом: — У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков, — знаете… задыхаюсь. Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. В зале — совсем пустой и ледяной — вздыхает всей душой и телом и с ласковой улыбкой, нежнейше: — У меня как-то в глазах зарябило — от звезд. Кабинет отца с бюстом Зевеса на вышке шкафа. Сидим, он на диване, я на валике (я — выше), гадаем, то есть глядим: он мне в ладонь8, я ему в темя, в самый темянной водоворот: волосоворот. Из гадания, не слукавя, помню только одно: — Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать. Ушел подальше, чтобы помечтать подольше. Кстати, я должен идти, до свиданья, спасибо вам. — Как? Уже? А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов, я пришел в два, а теперь семь. Я скоро опять приду Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка… Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы ОН ушел, чтобы о нем помечтать. — Барышня, а гость-то ваш — никак ушли? — Только что проводила. — Да неужто вам, барышня, не стыдно — с голой головой — при таком полном барине, да еще кудреватом таком! А в цилиндре пришли — ай жених? — Не жених, а писатель. А чепец снять — сам велел. — А-а-а… Ну, ежели писатель — им виднее. Очень они мне пондравились, как я вам чай подавала: полные, румяные, солидные и улыбчивые. И бородатые. А вы уж, барышня, не сердитесь, а вы им видать — ух! — пондравились: уж так на вас глядел: в са-амый рот вам! А может, барышня, еще пойдете за них замуж? Только поскорей бы косе отрость! Через день письмо, открываю: стихи. К Вам душа так радостно влекома!
Разрываясь от восторга (первые хорошие стихи за жизнь, посвящали много, но плохие) и только с большим трудом забирая в себя улыбку, — домашним, конечно, ни слова! — к концу дня иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двадцать лет 9 и которой я уже, естественно, рассказала первую встречу. Еще в передней молча протягиваю стихи. Читает: — «К вам душа так радостно влекома — О, какая веет благодать — От страниц Вечернего Альбома — Почему альбом, а не тетрадь?» Прерывая: — Почему — альбом? На это вы ему ответите, что в тетрадку вы пишете в гимназии, а в альбом — дома. У нас в Смольном у всех были альбомы для стихов. Почему скрывает чепчик черный
А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: такая молодая девушка, и вдруг — в чепце! (Впрочем, бритая было бы еще хуже!) И эти — ужасные очки! Я всегда вам говорила… — «Я отметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки». — А вот это очень хорошо! Младенческий! То есть на редкость младенческий! «Я лежу сегодня — невралгия — Боль как тихая виолончель — Ваших слов касания благие — И стихи, крылатый взмах качель — Убаюкивают боль. Скитальцы, — Мы живем для трепета тоски…» — Да! Вот именно для трепета тоски! (И вдруг, от слога к слогу все более и более омрачневая и на последнем, как туча): Чьи прохладно-ласковые пальцы
— Ну вот видите — пальцы… Фу, какая гадость! Я говорю вам: он просто пользуется, что вашего отца нет дома… Это всегда так начинается: пальцы… Мой друг, верните ему это письмо с подчеркнутыми строками и припишите: «Я из порядочного дома и вообще…» Он все-таки должен знать, что вы дочь вашего отца… Вот что значит расти без матери! А вы (заминка), может быть действительно, от избытка чувств, в полной невинности, погладили его… по… виску? Предупреждаю вас, что они этого совсем не понимают, совсем не так понимают. — Но — во-первых, я его не гладила, а во-вторых, — если бы даже — он поэт! — Тем хуже. В меня тоже был влюблен один поэт, так его пришлось — Юлию Сергеевичу — сбросить с лестницы. Так и ушла с этим неуютным видением будущего: массивного Максимилиана Александровича, летящего с нашей узкой мезонинной лестницы — к нам же в залу. Дальше — хуже. То есть через день: бандероль, вскрываю: Henri de Regnier, «Les rencontres de Monsieur de Breot»10*. Восемнадцатый век. Приличный господин, но превращающийся, временами, в фавна. Праздник в его замке. Две дамы — маркизы, конечно, — гуляющие по многолюдному саду и ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе не для души, а потому, что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть — уединяются. Подымают глаза: у входа в грот, заслоняя солнце и выход, огромный фавн, то есть тот самый Monsieur de Breot. В негодовании захлопываю книгу. Эту — дрянь, эту — мерзость — мне? С книгой в руках и с неизъяснимым чувством брезгливости к этим рукам за то, что такую дрянь держат, иду к своей приятельнице и ввожу ее непосредственно в грот. Вскакивает, верней, выскакивает, как ожженная. — Милый друг, это просто — порнография! (Пауза.) За это, собственно, следовало бы ссылать в Сибирь, а этого… поэта, во всяком случае, ни в коем случае, не пускайте через порог! (Пауза.) Нечего сказать — маркизы! Вы видите, как я была права! Милый друг, выбросьте эту ужасную книгу, а самого его, с этими (брезгливо) холодными висками… спустите с лестницы! Я вам говорю, как мать, и это же бы вам сказал ваш отец — если бы знал… Бедный Иван Владимирович! Тотчас же садитесь и пишите: «Милостивый государь» — нет, какой же он государь! — просто без обращения: Москва, число. — После происшедшего между нами — нет, не надо между нами, а то он еще будет хвастаться — тогда так: «Ставлю вас в известность, что после нанесенного мне оскорбления в виде присланного мне порнографического французского романа вы навсегда лишились права преступить порог моего дома. Подпись». Всё. — По-моему — слишком торжественно. Он будет смеяться. И я совсем не хочу, чтобы он больше ко мне никогда не пришел. — Ну, как знаете, но предупреждаю вас, что: те стихи, эта книга — а третье будет… словом, он поведет себя как тот Monsieur — как его? — в том… нечего сказать! — гроте. Мое письмо вышло проще, но не кротче. «Совершенно не понимаю, как вы, зная книги, которые я люблю, решились прислать мне такую мерзость, которую вам тут же, без благодарности, возвращаю». На следующий день — явление самого Макса, с большим пакетом под мышкой. — Вы очень на меня сердитесь? — Да, я очень на вас сердилась. — Я не знал, что вам не понравится, вернее, я не знал, что вам понравится, вернее, я так и знал, что вам не понравится — а теперь я знаю, что вам понравится. И книга за книгой — все пять томов Жозефа Бальзамо Дюма11*, которого, прибавлю, люблю по нынешний день, а перечитывала всего только прошлой зимой — все пять томов, ни страницы не пропустив. На этот раз Макс знал, что мне понравится. (Выкладывая пятый том: — Марина Ивановна! Как хорошо, что вы не так пишете, как те, кого вы любите! — Максимилиан Александрович! Как хорошо, что вы не так себя ведете, как герои тех книг, которые вы любите!) Чтобы не оставлять ни тени на безупречном друге стольких женских душ и бескорыстном созерцателе, а когда и строителе стольких судеб, чтобы не оставлять ни пятнышка на том солнце, которым был и есть для меня Макс, установлю, что вопреки опасениям моей заботливой и опытной в поэтах приятельницы — здесь и тени не было «развращения малолетних». Дело несравненно проще и чище. Макс всегда был под ударом какого-нибудь писателя, с которым уже тогда, живым или мертвым, ни на миг не расставался и которого внушал — всем. В данный час его жизни этим живым или мертвым был Анри де Ренье, которого он мне с первой встречи и подарил — как самое дорогое, очередное самое дорогое. Не вышло. Почти что наоборот — вышло. Не только я ни романов Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов Франси Жамма тогда не приняла, а пришлось ему, на двадцатилетие старшему, матёрому, бывалому, провалиться со мной в бессмертное младенчество од Виктора Гюго и в мое бренное собственное и бродить со мною рука об руку по пяти томам Бальзамо, шести Мизераблей12* и еще шести Консуэлы и Графини Рудольштадт Жорж Занд13*. Что он и делал — с неизбывным терпением и выносливостью, и с только, иногда, очень тяжелыми вздохами, как только собаки и очень тучные люди вздыхают: вздохом всего тела и всей души. Первое недоразумение оказалось последним, ибо первый же том Мемуаров Казановы10, с первой же открывшейся страницы, был ему возвращен без всякой обиды, а просто: — Спасибо: гроты, вроде твоего маркиза, возьми, пожалуйста, — в чем меня очень поддержала мать Максимилиана Волошина, Елена Оттобальдовна. «В семнадцать лет — Мемуары Казановы, Макс, ты просто дурак!» — «Но, мама, эпоха та же, что в Жозефе Бальзамо и в Консуэле, которые ей так нравятся… Мне показалось…» — «Тебе казалось, а ей не показалось. Ни одной порядочной девушке в семнадцать лет не могут показаться Мемуары Казановы!» — «Но сам Казанова, мама, нравился каждой семнадцатилетней девушке!» — «Дурам, а Марина умная, итальянкам, а Марина — русская. А теперь, Макс, точка». Каждая встреча начинается с ощупи, люди идут вслепую, и нет, по мне, худших времен — любви, дружбы, брака — чем пресловутых первых времен. Не худших времен, а более трудных времен, более смутных времен. Очередной подарок Макса, кроме Консуэлы, Жозефа Бальзамо и Мизераблей — не забыть восхитительной женской книги «Трагический Зверинец»11 и прекрасного Акселя", — был подарок мне живой героини и живого поэта, героини собственной поэмы: поэтессы Черубины де Габриак. Знаю, что многие это имя знают, для тех же, кто не знает, в двух словах: Жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница, Елизавета Ивановна Димитриева14*, с маленьким физическим дефектом — поскольку помню — хромала. Из ее преподавательской жизни знаю один только случай, а именно вопрос школьникам попечителя округа: — Ну кто же, дети, ваш любимый русский царь? — и единогласный ответ школьников: — Гришка Отрепьев! В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая. Максимилиан Волошин этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной — имя, этой обездоленной — судьбу. Как он это сделал? Прежде всего он понял, что школьная учительница такая-то и ее стихи — кони, плащи, шпаги — не совпадают и не совпадут никогда. Что боги, давшие ей ее сущность, дали ей, этой сущности, обратное — внешность: лица и жизни. Что здесь, перед лицом его — всегда трагический, здесь же катастрофический союз души и тела. Не союз, а разрыв. Разрыв, которого она не может не сознавать и от которого она не может не страдать, как непрерывно страдали: Джордж Эллиот, Шарлотта Бронтё, Жюли де Леспинасс, Мери Вебб15* и другие, и другие, и другие некрасивые любимицы богов. Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре: в свободном самораскрытии души. Очная ставка двух зеркал: тетради, где ее душа, и зеркала, где ее лицо и лицо ее быта. Тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа. Жестокий самосуд ума, сводящийся к двум раскрытым глазам. Я такую себя не могу любить, я с такой собой — не могу жить. Эта — не я. Это о Елизавете Ивановне Димитриевой между двух зеркал: настольным и настенным, Елизавета Ивановна Димитриева насмерть обиженная бы — даже на острове, без единого человека, Елизавета Ивановна Димитриева наедине сама с собой. Но есть еще Елизавета Ивановна Димитриева — с людьми. Максимилиан Волошин знал людей, то есть знал всю их беспощадность, ту — людскую — и, особенно, мужскую — ничем не оправданную требовательность12, ту жесточайшую неправедность, не ищущую в красавице души, но с умницы непременно требующую красоты, — умные и глупые, старые и молодые, красивые и уроды, но ничего не требующие от женщины, кроме красоты. Красоты же — непреложно. Любят красивых, некрасивых — не любят. Таков закон в последней самоедской юрте, за которой непосредственно полюс, и в эстетской приемной петербургского «Аполлона». Руку на сердце положа, — может школьная, скромная, хромая, может Е. И. Д. оплатить по счету свои стихи? Может Е. И. Д. надеяться на любовь, которую не может не вызвать ее душа и дар? Стали бы, любя ее ту, любить такую? На это отвечу: да. Женщины и большие, совсем большие поэты, да и то — большие поэты! — вспомним Пушкина, любившего неодушевленный предмет — Гончарову. Стало быть, только женщины. Но думает ли молодая девушка о женской дружбе, когда думает о любви, и думает ли молодая девушка о чем-либо другом кроме любви? Такая девушка, с такими стихами… Следовательно, надежды на любовь к ней в этом ее теле — нет, больше скажу: это ее физическое явление равняется безнадежности на любовь. Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, то есть влюбись в них, то есть в нее, весь «Аполлон» — и приди она завтра в редакцию «Аполлона» самолично — такая, как есть, прихрамывая, в шапочке, с муфточкой — весь «Аполлон» почувствует себя обкраденным, и, мало разлюбит, ее возненавидит весь «Аполлон». От оскорбленного: «А я-то ждал, что…» — до снисходительного: «Как жаль, что…» Ни этого «ждал», ни «жаль» Е. И. Д. не должна прослышать. Как же быть? Во-первых и в главных: дать ей самой перед собой быть, и быть целиком. Освободить ее от этого среднего тела — физического и бытового, — дать другое тело: ее. Дать ей быть ею! Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть, дать ей тело этой души. Какое же у этой души должно быть тело? Кто, какая женщина должна, по существу, писать эти стихи, по существу, эти стихи писала? Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, о, несметно богатая, явно (Байрон в женском обличии, но даже без хромоты), то есть внешне счастливая, явно, чтобы в полной бескорыстности и чистоте быть несчастной по-своему. Роскошь чисто внутренней, чисто поэтовой несчастности — красоте, богатству, дару вопреки. Торжество самой субстанции поэта: вопреки всему, через все, ни из-за чего — несчастности. И главное забыла: свободная — явно: от страха своего отражения в зеркале приемной «Аполлона» и в глазах его редакторов. Как же ее будут звать? Черубина рождалась в Коктебеле, где тогда гостила Е. И. Д. Однажды, год спустя, держу у Макса на башне какой-то окаменелый корень, принесенный приливом, оставленный отливом. «А это, что у тебя сейчас в руках, это — Габриак. Его на песке, прямо из волны, взяла Черубина. И мы сразу поняли, что это — Габриак». — «А Габриак — что?» — «Да тот самый корень, что ты держишь. По нему и стала зваться Черубина». — «А Черубина откуда?» — «Керубина, то есть женское от Херувим, только мы К заменили Ч, чтобы не совсем от Херувима». Я, впадая: «Понимаю. От черного Херувима». Итак, Черубина де Габриак. Француженка с итальянским именем, либо итальянка с французской фамилией. Единственная дочь, живет в строгой католической семье, где девушки одни не ходят и стихов не пишут, а если пишут — то уж, конечно, не печатают. Гонорара никакого не нужно. В «Аполлон» никогда не придет. Пусть и не пытаются выследить — не выследят никогда, если же выследят — беда и ей, и им. Единственная достоверность: по воскресеньям бывает в костеле, но невидима, ибо поет в хоре. Всё. Как же все это — «Аполлону», то есть людям, то есть всему внешнему миру внушить? Как вообще вещи внушают: в нее поверив. Как в себя такую поверить? Заставить других поверить. Круг. И в таком круге, благом на этот раз, постепенное превращение Е. И. Д. в Черубину де Габриак. Написала, — поверила уже буквам нового почерка — виду букв и смыслу слов поверил адресат, — ответу адресата, то есть вере адресата — многоликого адресата, единству веры многих — поверила Е. И. Д. и в какую-то секунду — полное превращение Елизаветы Ивановны Димитриевой в Черубину де Габриак. Начнемте, Елизавета Ивановна? — Начнемте, Максимилиан Александрович! В редакцию «Аполлона» пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи. Женские. В листке заложен не цветок, пахучий листок, в бумажном листке — древесный листок. Адрес «До востребования Ч. де Г.». В редакцию «Аполлона» через несколько дней пришло другое письмо — опять со стихами, и так продолжали приходить, переложенные то листком маслины, то тамариска, а редакторы и сотрудники «Аполлона» как начали, так и продолжали ходить как безумные, влюбленные в дар, в почерк, в имя — неизвестной, скрывшей лицо. Где-то в Петербурге, через ров рода, богатства, католичества, девичества, гения, в неприступном, как крепость, но достоверном — стоит же где-то! — особняке живет девушка. Эта девушка присылает стихи, ей отвечают цветами, эта девушка по воскресеньям поет в костеле — ее слушают. Увидеть ее нельзя, но не увидеть ее — умереть. И вот началась эпоха Черубины де Габриак. Влюбился весь «Аполлон» — имен не надо, ибо носители иных уже под землей — будем брать «Аполлон» как единство, каковым он и был — перестал спать весь «Аполлон», стал жить от письма к письму весь «Аполлон», захотел увидеть весь «Аполлон». Их было много, она — одна. Они хотели видеть, она — скрыться. И вот — увидели, то есть выследили, то есть изобличили. Как лунатика — окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубининого замка — на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги. — Елизавета Ивановна Димитриева — Вы? — Я. Одно имя назову — Сергея Маковского, поведшего себя, по словам М. Волошина, безупречным рыцарем, то есть не только не удивившегося ей, такой, а сумевшего убедить ее, что все давно знал, а если не показывал, то только затем, чтобы дать ей, Е. И. Д., самораскрыть себя в Черубине до конца. За этот кровный жест — Сергею Маковскому спасибо. Это был конец Черубины. Больше она не писала Может быть, писала, но больше ее никто не читал, больше ее голоса никто не слыхал. Но знаю, что ее дружбе с М. В. конца не было. Из стихов ее помню только уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти строки: В небе вьется красный плащ, —
И еще: Даже Ронсара сонеты
И — в ответ на какой-то букет: И лик бесстыдных орхидей
Образ ахматовский, удар — мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня, — до того правильно мое утверждение, что все стихи, бывшие, сущие и будущие, написаны одной женщиной — безымянной. И последнее, что помню: О, суждено ль, чтоб я узнала
и магически и естественно перекликающееся с моим: Ты дал мне детство лучше сказки
С той разницей, что у нее суждено (смерть), а у меня — дай. Так же странно и естественно было, что Черубина, которой я, под непосредственным ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои, из всех них, в своем ответном письме, отметила именно эти, именно эти две строки. Помню узкий лиловый конверт с острым почерком и сильным запахом духов, Черубинины конверт и почерк, меня в моей рожденной простоте скорее оттолкнувшие, чем привлекшие. Ибо я-то, и трижды: как женщина, как поэт и как неэстет любила не гордую иностранку в хорах и на хорах жизни, а именно школьную учительницу Димитриеву — с душой Черубины. Но дело-то ведь для Черубины было — не в моей любви. Черубина де Габриак умерла два года назад14 в Туркестане. Не знаю, знал ли о ее смерти Макс. Почему я так долго на этом случае остановилась? Во-первых, потому, что Черубина в жизни Макса была не случаем, а событием, то есть он сам на ней долго, навсегда остановился. Во-вторых, чтобы дать Макса в его истой сфере — женских и поэтовых душ и судеб. Макс в жизни женщин и поэтов был providentiel16*, когда же это, как в случае Черубины, Аделаиды Герцык и моем, сливалось, когда женщина оказывалась поэтом, или, что вернее, поэт — женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек со-бытийный. Как вся его душа — прежде всего — сосуществование, которое иные не глубоко глядящие называли мозаикой, а любители ученых терминов — эклектизмом. То единство, в котором было всё, и то всё, которое было единством. Еще два слова о Черубине, последних. Часто слышала, когда называла ее имя: «Да ведь, собственно, это не она писала, а Волошин, то есть он все выправлял». Другие же: «Неужели вы верите в эту мистификацию? Это просто Волошин писал — под женским и, нужно сказать, очень неудачным псевдонимом». И сколько я ни оспаривала, ни вскипала, ни скрежетала — «Нет, нет, никакой такой поэтессы Черубины не было. Был Максимилиан Волошин — под псевдонимом». Нет обратнее стихов, чем Волошина и Черубины. Ибо он, такой женственный в жизни, в поэзии своей — целиком мужественен, то есть голова и пять чувств, из которых больше всего — зрение. Поэт — живописец и ваятель, поэт — миросозерцатель, никогда не лирик как строй души. И он так же не мог писать стихов Черубины, как Черубина — его. Но факт, что люди были знакомы, что один из них писал и печатался давно, второй никогда, что один — мужчина, другой — женщина, даже факт одной и той же полыни в стихах — неизбежно заставляли людей утверждать невозможность куда большую, чем сосуществование поэта и поэта, равенство известного с безвестным, несущественность в деле поэтической силы — мужского и женского, естественность одной и той же полыни в стихах при одном и том же полынном местопребывании — Коктебеле, право всякого на одну полынь, лишь бы полынь выходила разная, и, наконец, самостоятельный Божий дар, ни в каких поправках, кроме собственного опыта, не нуждающийся. «Я бы очень хотел так писать, как Черубина, но я так не умею», — вот точные слова М. В. о своем предполагаемом авторстве. Макс больше сделал, чем написал Черубинины стихи, он создал живую Черубину, миф самой Черубины. Не мистификации, а мифотворчество, и не псевдоним, а великий аноним народа, мифы творящего. Макс, Черубину создав, остался в тени, — из которой его ныне, за руку, вывожу на белый свет своей любви и благодарности — за Черубину, себя, всех тех, чьих имен не знаю, — благодарности. А вот листочки, которыми Черубина перекладывала стихи, — маслина, тамариск, полынь — действительно волошинские, ибо были сорваны в Коктебеле. Эта страсть М. В. к мифотворчеству была, сказалась и на мне. — Марина! Ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и сплошь — замечательных' А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, напечатать от лица какого-нибудь его, ну хоть Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие. И ты никогда (подымает палец, глаза страшные), ни-ког-да не скажешь, что это ты, Марина (умоляюще), ты не понимаешь, как это будет чудесно! Тебя — Брюсов, например, — будет колоть стихами Петухова: «Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать собственные зеленые глаза, обратилась к родимым зеленым полям, как г. Петухов, которому тоже семнадцать лет…» Петухов станет твоей bete noire17*, Марина, тебя им замучат, Марина, и ты никогда — понимаешь? никогда! — уже не сможешь написать ничего о России под своим именем, о России будет писать только Петухов, — Марина! ты под конец возненавидишь Петухова! А потом (совсем уж захлебнувшись) нет! зачем потом, сейчас же, одновременно с Петуховым мы создадим еще поэта, — поэтессу или поэта? — и поэтессу и поэта, это будут близнецы, поэтические близнецы, Крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, чего еще не было, то есть гениальных близнецов. Они будут писать твои романтические стихи. — Макс! — а мне что останется? — Тебе? Все, Марина. Все, чем ты еще будешь! Как умолял! Как обольщал! Как соблазнительно расписывал анонимат такой славы, славу такого анонимата! — Ты будешь, как тот король, Марина, во владениях которого никогда не заходило солнце. Кроме тебя, в русской поэзии никого не останется. Ты своими Петуховыми и близнецами выживешь всех, Марина, и Ахматову, и Гумилева, и Кузмина… — И тебя, Макс! — И меня, конечно. От нас ничего не останется. Ты будешь — все, ты будешь — всё. И (глаза белые, шепот) тебя самой не останется. Ты будешь — те. Но Максино мифотворчество роковым образом преткнулось о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни всё, что пишу, — подписывать. А хороший был бы Петухов поэт! А тех поэтических близнецов по сей день оплакиваю.
Сосуществование поэта с поэтом — равенство известного с безвестным. Я сама тому живой пример, ибо никто никогда с такой благоговейной бережностью не относился к моим так называемым зрелым стихам, как тридцатишестилетний М. В. к моим шестнадцатилетним. Так люди считаются только с патентованным, для них — из-за большинства голосов славы — несомненным. Ни в чем и никогда М. В. не дал мне почувствовать преимуществ своего опыта, не говоря уже об имени. Он меня любил и за мои промахи. Как всякого, кто чем-то был. Ничего от мэтра (а времена были сильно мэтровые!), все от спутника. Могу сказать, что он стихи любил совершенно так, как я, то есть как если бы сам их никогда не писал, всей силой безнадежной любви к недоступной силе. И, одновременно, всякий хороший стих слушал, как свой. Всякая хорошая строка была ему личным даром, как любящему природу — солнечный луч. («Было, было, было», — а как это бывшее несравненно больше есть, чем сущее! Как есть навсегда есть! Как бывшего — нет!) Помню одну, только одну его поправку, попытку поправки — за весь толстый «Вечерний альбом» в самом начале знакомства: И мы со вздохом, в темных лапах,
— А вы не думаете, Марина (пауза, выжидательные глаза)… Ивановна, что это немножко трудно — и сложно — сжигать корабли — в темных лапах? что для этого — в лапах — как будто мало места? Причем, несомненно, в медвежьих, то есть очень сильных лапах, которые сильно жмут. Ведь корабли как будто принято сжигать на море, а здесь — медвежьи лапы — явно — лес, дремучий. Трудно же предположить, что медведь расположился с вами на берегу моря, на котором — тут же — горят ваши корабли. Так это у меня и осталось в памяти: коктебельский пустынный берег, на нем медведь, то есть Макс, со мной, а тут же у берега, чтобы удобнее, целая флотилия кораблей, которые горят. Еще одно, тоже полушуточное, но здесь скобка о шутке. Я о Максе рассказываю совершенно так же, как Макс о тех, кого любил, и я о Максе — нынче, совершенно так же, как о Максе — вчера, то есть с живой любовью, улыбки не только не боящейся, но часто ее ищущей — как отвода и разряда. Итак, из всех изустных стихов одного его посещения мне больше всего, до тоски, понравилось такое двустишие: Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью темной,
— Максимилиан Александрович, а почему не четыре, ведь каждый вспоминает своего! — Четыре головы — это было бы две пары, две пары голов скота, и никаких стихов бы не было, — вежливо, но сдержанно ответил Макс. Сраженная доводом, а еще больше видением четырех рогастых голов в глубине версальского водоема, от поправки отказываюсь. В следующий приход, протягивая ему его же в первый приход подаренную книгу: — Впишите мне в нее те, ну самые чудные, мои любимые: «Вместе в один водоем забредем ли мы осенью темной…» Он негодующе: То есть как — забредем? (убежденно) — заглянем! (спохватываясь) — заглядим! — то есть поглядим, конечно, вы меня совсем сбили! (Пауза. Задумчиво.) А вы знаете, это тоже хорошо: забредем, так, кажется, еще лучше… Я: — Да, как две коровы, которые забрели и пьют (с озарением) — Максимилиан Александрович! да ведь это же те самые и есть! Две пары голов рогатого скота! Помню еще, из сразу полюбленных стихов Макса: Теперь я мертв, я стал листами книги,
Послушно и внимательно перелистываю и — какая-то пометка, вглядываюсь: (ДЕМОН)
Над безрылым, чернилом, увесистое К., то есть бескрылый. Макс этой своей опечаткой всегда хвастался. Максина книга стихов. Вижу ее, тут же отданную в ярко-красный переплет, в один том — в один дом — со стихами Аделаиды Герцык. Не царевич я, похожий
Эти стихи я слушала двойною болью: оставленной и уходящего, нет, еще третьей болью: оставшейся в стороне: не мне! А эту царевну Таиах воочию вскоре увидела в мастерской Макса в Коктебеле: огромное каменное египетское улыбающееся женское лицо, в память которого и была названа та, мне неизвестная, любимая и оставленная земная женщина. Но тут уместен один рассказ матери Макса: — Макс тогда только что женился и вот, приезжает в Коктебель с Маргаритой, а у нас жила одна дама с маленькой девочкой. Сидим все, обедаем. Девочка смотрит, смотрит на молодых, то на Макса, то на Маргариту, то опять на Маргариту, то опять на Макса, и громким шепотом — матери: «Мама! Почему эта царевна вышла замуж за этого дворника?» А Маргарита, действительно, походила на царевну, во Флоренции ее на улице просто звали: Ангел! — И никто не обиделся? — Никто, Маргарита смеялась, а Макс сиял. От себя прибавлю, что дворник в глазах трехлетней девочки существо мифическое и на устах трехлетней девочки слово мистическое. Дворник рубит дрова огромным колуном, на который страшно и смотреть. Дворник на спине приносит целый лес, дворник топит печи, то есть играет с огнем огромной железиной, которая называется кочерга. А кочерга — это Яга. Дворник стоит по шею в снегу и не замерзает, лопаты у дворника вдесятеро больше девочкиной, а сапог выше самой девочки. Дворник и в воде не тонет, и в огне не горит. Дворник может сделать то, на чем кататься, и то, с чего кататься, салазки и гору. Дворник в конце концов единственное видение мужественности в глазах девочки того времени. Папа ничего не может, а дворник — всё. Значит, дворник — великан. А может быть, если рассердится — и людоед. Так, один трехлетний мальчик, пришедший к нам в гости и упорно не желающий играть в нижних комнатах: «Убери того белого людоеда!» — «Но какого?» — «С бородой! На меня со шкафа смотрит! Глаза белые! Убери того страшного дворника!» Страшный дворник — Зевес. Я сказала, что стихи Макса я переплела со стихами А. Герцык. Сказать о ней — мой отдельный живой долг, ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в ее жизни событие, может быть, большее, чем в жизни Макса. Пока же: Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи и судьбы. Бескорыстно, ибо случалось, что двое, им сведенные, скоро и надолго забывали его. К его собственному определению себя как коробейника идей могу прибавить и коробейника друзей. Убедившись сейчас, за жизнь, как люди на друзей скупы (почти как на деньги: убудет! мне меньше останется!), насколько всё и всех хотят для себя, ничего для другого, насколько страх потерять в людях сильнее радости дать, не могу не настаивать на этом рожденном Максином свойстве: щедрости на самое дорогое, прямо обратной ревности. Люди, как Плюшкин ржавый гвоздь, и самого завалящего знакомого от глаз берегут — а вдруг в хозяйстве пригодится? Да, ревности в нем не было никакой -никогда, кроме рвения к богатству ближнего — бывшего всегда. Он так же давал, как другие берут. С жадностью. Давал, как отдавал. Он и свой коктебельский дом, таким трудом добытый, так выколоченный, такой заслуженный, такой его по духовному праву, кровный, внутренне свой, как бы с ним сорожденный, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, — не ощущал своим, физически своим. Комнаты (по смехотворной цене) сдавала Елена Оттобальдовна. Макс физически не мог сдавать комнат друзьям. Еще меньше — чужим. Этот человек, никогда ни перед кем ни за что ни в чем не стеснявшийся, в человеческих отношениях — плавающий, стоял перед вами, как малый ребенок или как бык, опустив голову. — Марина! Я правда не могу. Это невыносимо. Поговори с мамой… Я… — И топот убегающих сандалий по лестнице. Зато море, степь, горы — три коктебельских стихии и собирательную четвертую — пространство он ощущал так своими, как никакой Кламарский рантье свой «павильон». Полынь он произносил как: моя. А Карадаг (название горы) просто как: я. Но одна физическая собственность, то есть собственность признанная и физически, у него была: книги. Здесь он был лют. И здесь, и единственно здесь — капризен, давал, что хотел, а не то, что хотел — ты. «Макс, можно?..» — «Можно, Марина, только уверяю, что тебе не понравится… Возьми лучше…» — «Нет, не не-понравится, а ты боишься, что слишком понравится и что я, как кончу, буду опять сначала, и так до конца лета». — «Марина, уверяю тебя, что…» — «Или что замажу в черешнях. Макс, я очень аккуратна». — «Я знаю, и дело не в том, а в том, что тебе гораздо будет интересней Капитэн Фракасс». — «Но я не хочу Фракасс, я хочу Жанлис18*. Макс, милый Макс, дорогой Макс, Плюшкин-Макс, ведь ты же ее сейчас не читаешь!» — «Но ты мне обещаешь, что никому не дашь из рук, даже подержать? Что ты вернешь ее мне не позже как через неделю, здесь же, из рук в руки и в том же виде…» — «Нет, на три секунды раньше и на три страницы толще! Макс, я ее удлиню!» Давал, голубчик, но со вздохом, вздохом, который был еще слышен на последней ступеньке лестницы. Давал — все, давал — всем. Но сколько выпущенных из рук книг — столько побед над этой единственной из страстей собственничества, для меня священной: страстью к собственной книге. Святая жадность. Возвратимся к Аделаиде Герцык. В первую горячую голову нашего с ним схождения он живописал мне ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит мои стихи, ждет меня к себе20. Пришла и увидела — только неотразимую. Подружились страстно. Кстати, одна опечатка — и везло же на них Максу! В статье обо мне, говоря о моих старших предшественницах: «древние заплатки Аделаиды Герцык»21… «Но, М. А., я не совсем понимаю, почему у этой поэтессы — заплатки? И почему еще и древние?» Макс, сияя: «А это не заплатки, это заплачки, женские народные песни такие, от плача». А потом, А. Герцык мне, философски: «Милая, в опечатках иногда глубокая мудрость: каждые стихи в конце концов — заплата на прорехах жизни. Особенно — мои. Слава богу еще, что древние! Ничего нет плачевнее — новых заплат!» И вот, может быть, год спустя нашего с А. Г. схождения, Макс мне: «Марина! (мы давно уже были на «ты»), а ты знаешь, что я тебя тогда Аделаиде Казимировне — подарил». — «То есть как?» — «Разве ты не знаешь (глубоко серьезно), что можно дарить людей — без их ведома и что это неизменно удается, то есть что тот, кого ты даришь, становится неотъемлемой духовной собственностью того, кому даришь. Но я тебя в хорошие руки подарил». — «Макс, а случайно — не продал?» Он, совершенно серьезно: «Нет. А мог бы. Потому что А. Г. очень жадна на. души, она тебя у меня целый вечер выпрашивала и очень многих предлагала взамен: и Булгакова, и Бердяева, и какую-то переводчицу с польского. Но они, во-первых, мне были не нужны, а во-вторых, я друзьям друзей только дарю… В конце вечера она тебя получила. Ты довольна?» Молчание. Он, заискивающе: «Я ведь знал, кому тебя дарю. Как породистого щенка — в хорошие руки». — «Макс, а тебе не жаль?» — «Нет. Мне никогда не жаль и никогда не меньше. (Пауза.) Марина, а тебе — жаль?» — «Макс, я теперь собака — другого садовника!» А как было жаль, как сердце сжалось — от такой свободы, своей от него, его от меня, его от всех. Хотя и расширилось радостью, что А. Г., которая мне так нравилась, меня целый вечер выпрашивала. Сжалось — расширилось — в этом его, сердца, и жизнь. При первом свидании с Аделаидой Казимировной: «А я теперь знаю, почему вы меня так особенно любите! Нет, нет, не за стихи, не за Германию, не за сходство с собой — и за это, конечно, — но я говорю — особенно любите…» — «Говорите!» — «Потому что Макс вам меня подарил. Не глядите, пожалуйста, такими невинными глазами! Он мне сам рассказал». — «Марина! (Молчит, переводя дыхание.) Марина! Макс Александрович вас мне не подарил, он вас мне проиграл». — «Что-о-о?» — «Да, милая. Когда он мне принес вашу книгу, я сразу обнаружила полное отсутствие литературных влияний, а М. А. настаивал на необнаруженном. Мы целый вечер проспорили и в конце держали пари: если М. А. в течение месяца этого влияния не обнаружит, он мне вас проигрывает, как самую любимую вещь. Потому что он вас очень любил, Марина, и еще любит, но только так и поскольку разрешаю — я. Никакого влияния, кроме Наполеона, который не есть влияние литературное, он обнаружить не мог — потому что, я это сразу знала, никакого литературного влияния и не было — и я вас через месяц, день в день, час в час — получила. О, он очень старался вас отстоять, то есть вашего духовного отца изобличить, он даже пытался представить Наполеона, как писателя, ссылаясь на его воззвания к солдатам: «Soldats, du haut de ces pyramides quarante siecles vous regardent…»19* Но тут я его изобличила и заставила замолчать. Так, милая, вы и сделались моей собственностью. (С неподдельным негодованием:) А сам теперь ходит и хвастается, что подарил… это очень некрасиво». Макс стоял на своем. Аделаида Казимировна стояла на своем. Совместно я их спросить как-то не решилась. Может быть, тайно боясь, что вдруг — в порыве великодушия — начнут меня друг другу передаривать, то есть откажутся оба, и опять останусь собака без хозяина либо, по сказке Киплинга, кошка, которая гуляет сама по себе. Так правды я и не узнала, кроме единственной правды своей — к ним обоим любви и благодарности. Но — проиграл или подарил — «Передайте Марине,— писала она в последнем письме тому, кто мне эти слова передал, — что ее книга Версты22, которую она нам оставила, уезжая, — лучшее, что осталось от России». Это ответственное напутствие я привожу не из самохвальства, а чтобы показать, что она Максиным подарком — или проигрышем — до конца осталась довольна. Так они и остались — Максимилиан Волошин и Аделаида Герцык — как тогда сопереплетенные в одну книгу (моей молодости), так ныне и навсегда сплетенные в единстве моей благодарности и любви. КОКТЕБЕЛЬПятого мая 1911 года, после целого чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельскую землю, перед самым Максиным домом, из которого уже огромными прыжками, по белой внешней лестнице, несся мне навстречу — совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс, в кавычках, «хитона», то есть попросту длинной полотняной рубашки, Макс сандалий, почему-то признаваемых обывателем только в виде иносказания «не достоин развязать ремни его сандалий» и неизвестно почему страстно отвергаемых в быту — хотя земля та же, да и быт приблизительно тот же, быт, диктуемый прежде всего природой, — Макс полынного веночка и цветной подпояски, Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс — Коктебеля. — А теперь я вас познакомлю с мамой. Елена Оттобальдовна Волошина — Марина Ивановна Цветаева. Мама: седые, отброшенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом, белый, серебром шитый, длинный кафтан, синие, по щиколотку, шаровары, казанские сапоги. Переложив из правой в левую дымящуюся папиросу: «Здравствуйте!» Е. О. Волошина, рожденная — явно немецкая фамилия, которую сейчас забыла. Внешность явно германского — говорю германского, а не немецкого — происхождения: Зигфрида23, если бы прожил до старости, та внешность, о которой я в каких-то стихах: — Длинноволосым я и прямоносым
(Что для женщины короткие волосы — то для германца длинные.) Или же, то же, но ближе, лицо старого Гёте, явно германское и явно божественное. Первое впечатление — осанка. Царственность осанки. Двинется — рублем подарит. Чувство возвеличенности от одного ее милостивого взгляда. Второе, естественно вытекающее из первого: опаска. Такая не спустит. Чего? Да ничего. Величественность при маленьком росте, величие — изнизу, наше поклонение — сверху. Впрочем, был уже такой случай — Наполеон. Глубочайшая простота, костюм как прирос, в другом немыслима, и, должно быть, неузнаваема: сама не своя, как и оказалось, два года спустя на крестинах моей дочери24: Е. О., из уважения к куму — моему отцу — и снисхождения к людским навыкам, была в юбке, а юбка не спасла. Никогда не забуду, как косился старый замоскворецкий батюшка на эту крестную мать, подушку с младенцем державшую, как ларец с регалиями, и вокруг купели выступавшую как бы церемониальным маршем. Но вернемся назад, в начало. Все: самокрутка в серебряном мундштуке, спичечница из цельного сердолика, серебряный обшлаг кафтана, нога в сказочном казанском сапожке, серебряная прядь отброшенных ветром волос — единство. Это было тело именно ее души. Не знаю, почему — и знаю, почему — сухость земли, стая не то диких, не то домашних собак, лиловое море прямо перед домом, сильный запах жареного барана, — этот Макс, эта мать — чувство, что входишь в Одиссею. Елена Оттобальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля, доживавшего в Калуге последние дни25 «Ты бы у нас первая красавица была, на Кавказе, если бы у тебя были черные глаза». (Уже сказала — голубые.) Напоминает ему его младшего любимого сына, насильную чужую Калугу превращает в родной Кавказ. Младенчество на коленях побежденного Шамиля — как тут не сделаться кавалером Надеждой Дуровой или, по крайней мере, не породить поэта! Итак, Шамиль. Но следующий жизненный шаг — институт. Красавица, все обожают. «Поцелуй меня!» — «Дашь третье за обедом — поцелую». (Целоваться не любила никогда.) К концу обеда перед корыстной бесстрастной красавицей десять порций пирожного то есть десять любящих сердец. Съев пять, остальными, царственным жестом, одаривала: не тех, кто дали, а тех, кто не дали. Каникулы дома, где уже ходит в мужском, в мальчишеском — пижам в те времена (шестьдесят лет назад!) не было, а для пиджака, кроме куцего уродства, была молода. О ее тогдашней красоте. Возглас матроса, видевшего ее с одесского мола, купающейся: «И где ж это вы, такие красивые, родитесь?!» — самая совершенная за всю мою жизнь словесная дань красоте, древний возглас рыбака при виде Афродиты, возглас — почти что отчаяния! — перекликающийся во мне с недавними строками пролетарского поэта Петра Орешина, идущего полем: Да разве можно, чтоб фуражки
Странно, о родителях Е. О. не помню ни слова, точно их и не было, не знаю даже, слышала ли что-нибудь. И отец, и мать для меня покрыты орлиным крылом Шамиля. Его сын, не их дочь. После института сразу, шестнадцати лет, замужество26. Почему так сразу и именно за этого, то есть больше, чем вдвое старшего и совсем не подходящего? Может быть, здесь впервые обнаруживается наличность родителей. Так или иначе, выходит замуж и в замужестве продолжает ходить — тонкая, как тростинка — в мальчишеском27, удивляя и забавляя соседей по саду. Дело в Киеве, и сады безмерные. Вот ее изустный рассказ: — Стою на лесенке в зале и белю потолок — я очень любила белить сама — чтобы не замазаться, в похуже — штанах, конечно, и в похуже — рубашке. Звонок. Кого-то вводят. Не оборачивая головы, белю себе дальше. К Максиному отцу много ходили, не на всех же смотреть. «Молодой человек!» — Не оборачиваюсь. — «А молодой человек?» Оборачиваюсь. Какой-то господин, уже в летах. Гляжу на него с лестницы и жду, что дальше. «Соблаговолите передать папаше… то-то и то-то…» — «С удовольствием». Это он меня не за жену, а за сына принял. Потом рассказываю Максиному отцу — оказался его добрым знакомым. «Какой у вас сынок шустрый, и все мое к вам дело передал толково, и белит так славно». Максин отец — ничего. «Да, — говорит, — ничего себе паренек». (Кстати, никогда не говорила муж, всегда — Максин отец, точно этим указывая точное его значение в своей жизни — и назначение.) Сколько-то там времени прошло — у нас парадный обед, первый за мою бытность замужем, всё Максиного отца сослуживцы. Я, понятно: уже не в штанах, а настоящей хозяйкой дома: и рюши, и буфы, и турнюр на заду — все честь честью. Один за другим подходят к ручке. Максин отец подводит какого-то господина: «Узнаешь?» Я-то, конечно, узнаю — тот самый, которого я чуть было заодно не побелила, а тот: «Разрешите представиться». А Максин отец ему: «Да, что ты, что ты! Давно знакомы». — «Никогда не имел чести». — «А сынишку моего на лестнице помнишь, потолок белил? Она — самый». Тот только рот раскрыл, не дышит, вот-вот задохнется. «Да я, да оне, да простите вы меня, сударыня, ради Бога, где у меня глаза были?» — «Ничего, — говорю, — там где следует». Целый вечер отдышаться не мог! Из этой истории заключаю, что рожденная страсть к мистификации у Макса была от обоих родителей. Языковой же дар — явно от матери. Помню, в первое коктебельское лето, на веранде, ее возмущенный голос: — Как ужасно нынче стали говорить! Вот Лиля и Вера20*, — ведь не больше, как на двести слов словарь, да еще как они эти слова употребляют! Рассказывает недавно Лиля о каком-то своем знакомом, ссыльном каком-то: «И такой большой, печальный, интеллигентный глаз…» Ну, как глаз может быть интеллигентным? И все у них интеллигентное, и грудной ребенок с интеллигентным выражением, и собака с интеллигентной мордой, и жандармский полковник с интеллигентными усами… Одно слово на всё, да и то не русское, не только не русское, а никаковское, ведь по-французски intelligent — умный. Ну, вы, Марина, знаете, что это такое? — Футляр для очков. — И вовсе не футляр! Зачем вам немецкое искаженное Futteral, когда есть прекрасное настоящее русское слово — очешник. А еще пишете стихи! На каком языке? Но вернемся к молодой Е. О. Потеряв первого ребенка — обожаемую, свою, тоже девочку-мальчика, четырех летнюю дочку Надю28, по которой тосковала до седых и белых волос, Е. О., забрав двухлетнего Макса, уходит от мужа и селится с сыном — кажется, в Кишиневе29. Служит на телеграфе. Макс дома, с бабушкой — ее матерью. Помню карточку в коктебельской комнате Е. О., на видном месте: старинный мальчик или очень молодая женщина являют миру стоящего на столе маленького Геракла или Зевеса — как хотите, во всяком случае нечто совсем голое и очень кудрявое. Два случая из детского Макса. (Каждая мать сына, даже если он не пишет стихов, немного мать Гёте, то есть вся ее жизнь о нем, том, рассказы; и каждая молодая девушка, даже если в этого Гёте не влюблена, при ней — Беттина21* на скамеечке.) Жили бедно, игрушек не было, разные рыночные. Жили — нищенски. Вокруг, то есть в городском саду, где гулял с бабушкой, — богатые, счастливые, с ружьями, лошадками, повозками, мячиками, кнутиками, вечными игрушками всех времен. И неизменный вопрос дома: — Мама, почему у других мальчиков есть лошадки, а у меня нет, есть вожжи с бубенчиками, а у меня нет? На который неизменный ответ: — Потому что у них есть папа, а у тебя нет. И вот после одного такого папы, которого нет, — длительная пауза и совершенно отчетливо: — Женитесь. Другой случай. Зеленый двор, во дворе трехлетний Макс с матерью. — Мама, станьте, пожалуйста, носом в угол и не оборачивайтесь. — Зачем? — Это будет сюрприз. Когда я скажу можно, вы обернетесь! Покорная мама орлиным носом в каменную стену. Ждет, ждет: — Макс, ты скоро? А то мне надоело! — Сейчас, мама! Еще минутка, еще две. — Наконец: — Можно! Оборачивается. Плывущая улыбкой и толщиной — трехлетняя упоительная морда. — А где же сюрприз? — А я (задохновение восторга, так у него и оставшееся) к колодцу подходил — до-олго глядел — ничего не увидел. — Ты просто гадкий непослушный мальчик! А где же сюрприз? — А что я туда не упал. Колодец, как часто на юге, просто четырехугольное отверстие в земле, без всякой загородки, квадрат провала. В такой колодец, как в тот наш совместный водоем, действительно можно забрести. Еще случай. Мать при пятилетнем Максе читает длинное стихотворение, кажется, Майкова, от лица девушки, перечисляющей все, чего не скажет любимому: «Я не скажу тебе, как я тебя люблю, я не скажу тебе, как тогда светили звезды, освещая мои слезы, я не скажу тебе, как обмирало мое сердце, при звуке шагов — каждый раз не твоих, я не скажу тебе, как потом взошла заря», и т. п. и т. д. Наконец — конец. И пятилетний, глубоким вздохом: — Ах, какая! Обещала ничего не сказать, а сама все взяла да и рассказала! Последний случай дам с конца. Утро. Мать, удивленная долгим неприходом сына, входит в детскую и обнаруживает его спящим на подоконнике. — Макс, что это значит? Макс, рыдая и зевая: — Я, я не спал! Я — ждал! Она не прилетала! — Кто? — Жар-птица! Вы забыли, вы мне обещали, если я буду хорошо вести себя… — Ладно, Макс, завтра она непременно прилетит, а теперь — идем чай пить. На следующее утро — до-утро, ранний или очень поздний прохожий мог бы видеть в окне одного из белых домов Кишинева, стойком, как на цоколе — лбом в зарю — младенческого Зевеса в одеяле, с прильнувшей, у изножья, другой головой, тоже кудрявой. И мог бы услышать — прохожий — но в такие времена, по слову писателя, не проходит никто: «Si quelqu'un etait venu a passer… Mais il ne passe jamais personne…»22* И мог бы услышать прохожий: — Ма-а-ма! Что это? — Твоя Жар-птица, Макс, — солнце! Читатель, наверное, уже отметил прелестное старинное Максино «Вы» матери — перенятое им у нее, из ее обращения к ее матери. Сын и мать, уже при мне, выпили на брудершафт: тридцатишестилетний с пятидесятишестилетней — и чокнулись, как сейчас вижу, коктебельским напитком ситро, то есть попросту лимонадом. Е. О. при этом пела свою единственную песню — венгерский марш, сплошь из согласных. Думаю, что те из читателей, знавшие Макса и Е. О. лично, ждут от меня еще одного ее имени, которое сейчас произнесу: Пра — от прабабушки, а прабабушка не от возраста — ей тогда было пятьдесят шесть лет, — а из одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, Кавалерственной Дамы Кириенко (первая часть их с Максом фамилии), — о которой, мистификации, как вообще о целом мире коктебельского первого лета, когда-нибудь отдельно, обстоятельно и увлекательно расскажу30. Но было у слова Пра другое происхождение, вовсе не шутливое — Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых, Верховод всей нашей молодости, Прародительница Рода — так и не осуществившегося, Праматерь — Матриарх — Пра. Никогда не забуду, как она на моей свадьбе, в большой приходской книге, в графе свидетели, неожиданно и неудержимо через весь лист — подмахнула: «Неутешная вдова Кириенки-Волошина». В ней неизбывно играло то, что немцы называют Einfall («в голову пришло»), и этим она походила, на этот раз, уже на мать Гёте, с которым вместе Макс любовно мог сказать: Von Mutterchen — die Frohnatur
А сколько я еще не рассказала! О ней бы целую книгу, ибо она этой целой книгой — была, целым настоящим Bilderbuch'oм24* для детей и поэтов. Но помимо ее человеческой и всяческой исключительности, самоценности, неповторимости — каждая женщина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рассказали, независимо даже от удачности или неудачности этого ращения. Важна сумма усилий, то есть одинокий подвиг одной — без всех, стало быть — против всех. Когда же эта одинокая мать оказывается матерью поэта, то есть высшего, что есть после монаха — почти пустынника и всегда мученика, всякой хвалы — мало, даже моей. На какие-то деньги, уж не знаю, какие, во всяком случае, нищенские, именно на гроши, Е. О. покупает в Коктебеле кусок земли31, и даже не земли, а взморья. Макс на велосипеде ездит в феодосийскую гимназию32, восемнадцать верст туда, восемнадцать обратно. Коктебель — пустыня. На берегу только один дом — волошинский. Сам Коктебель, то есть болгарско-татарская деревня этого наименования, за две версты, на шоссе. Е. О. ставит редким проезжающим самовары и по вечерам, от неизбывного одиночества, выходит на пустынный берег и воет. Макс уже печатается в феодосийском листке, за ним уже слава поэта и хвост феодосийских гимназисток: — Поэт, скажите экспромт! Е. О. В. никогда больше не вышла замуж. Это не значит, что она никого не любила, это значит, что она очень любила Макса, больше любимого и больше себя тоже. Отняв у сына отца — дать ему вотчима, сына обратить в пасынка, собственного сына в чужого пасынка, да еще такого сына, без когтей и со стихами… Были наезды какого-то стройного высокого всадника, были совместные и, нужно думать, очень высокие верховые прогулки в горы. Был, очевидно, последний раз: «Да?» — «Нет!» — после которого высокий верховой навсегда исчез за поворотом. Это мне рассказывали феодосийские старожилы и даже называли имя какого-то иностранца33. Увез бы в свою страну, была бы — кто знает — счастливой… но — Максимилиан Александрович того приезжего терпеть не мог, — это говорит старожил, от которого все это слышала, — всех любил, ко всем был приветлив, а с этим господином сразу не пошло. И господин этот его тоже не любил, даже презирал за то, что мужского в нем мало: и вина не пьет, и верхом не ездит, разве что на велосипеде… А к стихам этот господин был совсем равнодушен, он и по-русски неважно говорил, не то немец, не то чех. Красавец зато! Так и остались М. А. с мамашей, одни без немца, а зато в полном согласии и без всяких неприятностей. Это была неразрывная пара, и вовсе не дружная пара. Вся мужественность, данная на двоих, пошла на мать, вся женственность — на сына, ибо элементарной мужественности в Максе не было никогда, как в Е. О. элементарной женственности. Если Макс позже являл чудеса бесстрашия и самоотверженности, то являл их человек и поэт, отнюдь не муж (воин). Являл в делах мира (примирения), а не в делах войны. Единственное исключение — его дуэль с Гумилевым из-за Черубины де Габриак, чистая дуэль защиты. Воина в нем не было никогда, что особенно огорчало воительницу душой и телом — Е. О. — Погляди, Макс, на Сережу25*, вот — настоящий мужчина! Муж. Война — дерется. А ты? Что ты, Макс, делаешь? — Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я. — Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая — делать. — Такие времена, мама, всегда у зверей — это называется животные инстинкты. Настолько не воин, что ни разу не рассорился ни с одним человеком из-за другого. Про него можно сказать, «qu'il n'epousait pas les querelles de ses amis»1*26. В начале дружбы я часто на этом с ним сшибалась, расшибалась, — о его неуязвимую мягкость. Уже без улыбки, и как всегда, когда был взволнован, подымая указательный палец, даже им грозя: — Ты не понимаешь, Марина. Это совсем другой человек, чем ты, у него и для него иная мера. И по-своему он совершенно прав — так же, как ты — по-своему. Вот это «прав по-своему» было первоосновой его жизни с людьми. Это не было ни мало-, ни равнодушие, утверждаю. Не малодушие, потому что всего, что в нем было, было много — или совсем не было, и не равнодушие, потому что у него в миг такого средостояния душа раздваивалась на целых и цельных две, он был одновременно тобою и твоим противником и еще собою, и все это страстно, это было не двоедушие, а вседушие, и не равнодушие, а некое равноденствие всего существа, то солнце полдня, которому всё иначе и верно видно. О расчете говорить нечего. Не став ни на чью сторону, или, что то же, став на обе, человек чаще осужден обеими. Ведь из довода: «он так же прав, как ты» — мы, кто бы мы ни были, слышим только: он прав и даже: он прав, настолько, когда дело идет о нас, равенства в правоте нету. Не становясь на сторону мою или моего обидчика, или, что то же, становясь на сторону и его, и мою, он просто оставался на своей, которая была вне (поля действия и нашего зрения) — внутри него и au-dessus de la melee27*. Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому, и даже Иисус Навин, остановивший солнце34, остановил его и для врага. Человек и его враг для Макса составляли целое: мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом — всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гущи. А так он видел не только чужую вражду, но и себя с тем, кто его мнил своим врагом, себя — его врагом. Вражда, как дружба, требует согласия (взаимности). Макс на вражду своего согласия не давал и этим человека разоружал. Он мог только противо-стоять человеку, только предстоянием своим он и мог противостоять человеку: злу, шедшему на него. Думаю, что Макс просто не верил в зло, не доверял его якобы простоте и убедительности: «Не все так просто, друг Горацио…»35 Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигантским недоразумением — du bien mal entendu28* — чьим-то извечным и нашим ежечасным недосмотром, часто — просто глупостью (в которую он верил) — прежде всего и после всего — слепостью, но никогда — злом. В этом смысле он был настоящим просветителем, гениальным окулистом. Зло — бельмо, под ним — добро. Всякую занесенную для удара руку он, изумлением своим, превращал в опущенную, а бывало, и в протянутую. Так он в одно мгновение ока разоружил злопыхавшего на него старика Репина, отошедшего от него со словами: «Такой образованный и приятный господин — удивительно, что он не любит моего Иоанна Грозного!» И будь то данный несостоявшийся наскок на него Репина36, или мой стакан — через всю террасу — в дерзкую актрису, осмелившуюся обозвать Сару Бернар старой кривлякой, или, позже, распря русских с немцами, или, еще позже, белых с красными, Макс неизменно стоял вне: за каждого и ни против кого. Он умел дружить с человеком и с его врагом, причем никто никогда не почувствовал его предателем, себя — преданным, причем каждый (вместе, как порознь) неизменно чувствовал всю исключительную его, М. В., преданность ему, ибо это — было. Его дело в жизни было — сводить, а не разводить, и знаю, от очевидцев, что он не одного красного с белым, человечески, свел, хотя бы на том, что каждого, в свой час, от другого спас. Но об этом позже и громче. Миротворчество М. В. входило в его мифотворчество: мифа о великом, мудром и добром человеке. Если каждого человека можно дать пластически, Макс — шар, совершенное видение шара: шар универсума, шар вечности, шар полдня, шар планеты, шар мяча, которым он отпрыгивал от земли (походка) и от собеседника, чтобы снова даться ему в руки, шар шара живота, и молния, в минуты гнева, вылетавшая из его белых глаз, была, сама видела, шаровая. Разбейся о шар. Поссорься с Максом. Да, земной шар, на котором, как известно, горы, и высокие, бездны, и глубокие, и который все-таки шар. И крутился он, бесспорно, вокруг какого-то солнца, от которого и брал свой свет, и давал свой свет. Спутничество: этим продолжительным, протяжным словом дан весь Макс с людьми — и весь без людей. Спутник каждого встречного и, отрываясь от самого близкого, — спутник неизвестного нам светила. Отдаленность и неуклонность спутника. То что-то, вечно стоявшее между его ближайшим другом и им и ощущаемое нами почти как физическая преграда, было только — пространство между светилом и спутником, то уменьшавшееся, то увеличивавшееся, но неуклонно уменьшавшееся и увеличивавшееся, ни на пядь ближе, ни на пядь дальше, а в общем все то же. То равенство притяжения и отдаления, которое, обрекая друг на друга два небесных тела, их неизменно и прекрасно рознит. …Помню, относительно его планетарности, в начале встречи — разминовение. В ответ на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа, вместо одобрения или, по крайней мере, ободрения — самые настоящие соболезнования37, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!) — либо… И его ответ: спокойный, любящий, бесконечно-отрешенный, непоколебимо-уверенный, кончавшийся словами: «Итак, до свидания — до следующего перекрестка!» — то есть когда снова попаду в сферу его влияния, из которой мне только кажется — вышла, то есть совершенно как светило — спутнику. Причем — умилительная наивность! — в полной чистоте сердца неизменно воображал, что спутник в человеческих жизнях — он. Сказанного, думаю, достаточно, чтобы не объяснять, почему он никогда не смог стать попутчиком — ни тамошним, ни здешним. Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был планета. И мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом, большем круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали. Макс был знающий. У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. Она была в его белых, без улыбки, глазах, всегда без улыбки — при неизменной улыбке губ. Она была в нем, жила в нем, как постороннее для нас, однородное ему — тело. Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать. Его поднятый указательный палец: это не так! — с такой силой являл это так, что никто, так и не узнав этого так, в существовании его не сомневался. Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией — не глубоко. Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек — и то, что он знает; здесь же было единство, Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер — своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М. В. — ни в стихах, ни в друзьях, — самотайна, унесенная каждым в землю. Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, и есть, Марина, духи земли. Идем по пустынному уступу, в самый полдень, и у меня точное чувство, что я иду — вот с таким духом земли. Ибо каким (дух, но земли), кроме как вот таким, кем, кроме как вот этим, дух земли еще мог бы быть! Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко бога, на коренастых, точеных как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями в крови («А ты знаешь, Марина, что наша кровь — это древнее море…»38), со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло. Нутро Макса, чувствовалось, было именно нутром земли. Макс был именно земнородным, и все притяжение его к небу было именно притяжением к небу — небесного тела. В Максе жила четвертая, всеми забытая стихия — земли. Стихия континента: сушь. В Максе жила масса, можно сказать, что это единоличное явление было именно явлением земной массы, гущи, толщи. О нем, как о горах, можно было сказать: массив. Даже физическая его масса была массивом, чем-то непрорубным и неразрывным. Есть аэролиты небесные. Макс был — земной монолит, Макс был именно обратным мозаике, то есть монолитом. Не составленным, а сорожденным. Это одно было создано из всего. По-настоящему сказать о Максе мог бы только геолог. Даже черепная коробка его, с этой неистовой, неистощимой растительностью, которую даже волосами трудно назвать, физически ощущалась как поверхность земного шара, отчего-то и именно здесь разразившаяся таким обилием. Никогда волосы так явно не являли принадлежности к растительному царству. Так, как эти волосы росли, растет из трав только мята, полынь, ромашка, всё густое, сплошное, пружинное, и никогда не растут волосы. Растут, но не у обитателей нашей средней полосы, растут у целых народов, а не у индивидуумов, растут, но черные, никогда — светлые. (Росли светлые, но только у богов.) И тот полынный жгут на волосах, о котором уже сказано, был только естественным продолжением этой шевелюры, ее природным завершением и пределом. — Три вещи, Марина, вьются: волосы, вода, листва. Четыре, Марина, — пламя. О пламени. Рассказ. Кто-то из страстных поклонников Макса, в первый год моего с Максом знакомства, рассказал мне почти шепотом, что: …в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, из него — концов пальцев и концов волос — било пламя, настоящее, жгучее. Так, однажды за его спиной, когда он сидел и писал, загорелся занавес39. Возможно. Стоял же над Екатериной Второй целый столб искр, когда ей чесали голову. А у Макса была шевелюра — куда екатерининской! Но я этого огня не видала никогда, потому не настаиваю, кроме того, такой огонь, от которого загорается занавес, для меня не в цене, хотя бы потому, что вместо и вместе с занавесом может неожиданно спалить тетрадь с тем огнем, который для меня только один и в цене. На огне не настаиваю, на огнеиспускаемости Макса не настаиваю, но легенды этой не упускаю, ибо каждая — даже басня о нас — есть басня именно о нас, а не о соседе. (Низкая же ложь — автопортрет самого лжеца.) Выскакивал или не выскакивал из него огонь, этот огонь в нем был — так же достоверно, как огонь внутри земли. Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный тепловой очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда было жарко — как от костра, и волосы его, казалось, так же тихонько, в концах, трещали, как трещит хвоя на огне. Потому, казалось, так и вились, что горели (crepitement29*). Не могу достаточно передать очарования этой физики, являвшейся целой половиной его психики, и, что важнее очарования, а в жизни — очарованию прямо обратно, — доверия, внушаемого этой физикой. О него всегда хотелось потереться, его погладить, как огромного кота, или даже медведя, и с той же опаской, так хотелось, что, несмотря на всю мою семнадцатилетнюю робость и дикость, я однажды все-таки не вытерпела: «М. А., мне очень хочется сделать одну вещь…» — «Какую вещь?» — «Погладить вас по голове…» — Но я и договорить не успела, как уже огромная голова была добросовестно подставлена моей ладони. Провожу раз, провожу два, сначала одной рукой, потом обеими — и изнизу сияющее лицо: «Ну что, понравилось?» — «Очень!» И, очень вежливо и сердечно: «Вы, пожалуйста, не спрашивайте. Когда вам захочется — всегда. Я знаю, что многим нравится», — объективно, как о чужой голове. У меня же было точное чувство, что я погладила вот этой ладонью — гору. Взлобье горы. Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, — каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину40, но ничего не вышло, из-за явного наличия широченной бороды, которой профиль и уходил в море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала огромному телу, скрытому под всем Черным морем. Голова спящего великана или божества. Вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы — пустившего бы волну, смывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и остался. СКОБКА О РУКЕКогда я писала о том, как гладила Макса, я невольно поглядела на свою руку и вспомнила, как, в одно из наших первых прощаний, Макс — мне: — М. И., почему вы даете руку так, точно подкидываете мертвого младенца?41 Я, с негодованием: — То есть? Он, спокойно: — Да, да, именно мертвого младенца — без всякого пожатия, как посторонний предмет. Руку нужно давать открыто, прижимая вплоть, всей ладонью к ладони, в этом и весь смысл рукопожатия, потому что ладонь — жизнь. А не подсовывать как-то боком, как какую-то гадость, ненужную ни вам, ни другому. В вашем рукопожатии отсутствие доверия, просто обидеться можно. Ну дайте мне руку, как следует! Руку дайте, а не… Я, подавая: — Так? Он, сияя: — Так! Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожатия и с ними пришедшему доверию к людям. Жила бы, как прежде, — не доверяла бы, как прежде, может быть, лучше было бы — но хуже. И, чтобы кончить о руке, один Максин возглас, дающий весь тон наших отношений: — Марина! Почему у тебя рука так удивительно похожа на заднюю ногу Одноглаза?! Макс с мифом был связан и через коктебельскую землю — киммерийскую, родину амазонок. Недаром его вечная мечта о матриархате42. Вот, со слов очевидца, разговор в 1920 году, накануне разгрома Крыма43. Феодосийский обыватель: «М. А., вы, который все знаете, чем же все это кончится?» Макс, спокойно: «Матриархатом». Феодосиец, испуганно: «Как?» Макс, невозмутимо: «Просто, вместо патриархата будет матриархат». Шутка, конечно, ибо что же иное ответить, когда к тебе идут, как к гадалке, но, как та легенда о сгоревшем занавесе, — не случайная шутка. О женском владычестве слышала от Макса еще в 1911 году, до всяких германских и гражданских войн. Киммерия. Земля входа в Аид Орфея. Когда Макс, полдневными походами, рассказывал мне о земле, по которой мы идем, мне казалось, что рядом со мной идет — даже не Геродот, ибо Геродот рассказывал по слухам, шедший же рядом повествовал, как свой о своем. Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество: внутренним оком — всех времен. Очевидец всех времен есть тайновидец. И никакой тут «тайны» нет. Этому, по полицейским и литературным паспортам, тридцатишестилетнему французскому модернисту в русской поэзии было, по существу, много тысяч лет, те много тысяч лет назад, когда природа, создав человека и коня, женщину и рыбу, не окончательно еще решила, где конец человеку, где коню, где женщине, где рыбе, — своих творений не ограничила. Макс мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами, которые скорее являлись принадлежностью его сознания. Макс сам был миф. Макс, я. На веслах турки-контрабандисты. Лодка острая и быстрая: рыба-пила. Коктебель за много миль. Едем час. Справа (Максино определение, — счастлива, что сохранила) реймские и шартрские соборы скал, чтобы увидеть вершины которых, необходимо свести затылок с уровнем моря, то есть опрокинуть лодку — что бы и случилось, если бы не противовес Макса: он на носу, я на корме. Десятисаженный грот: в глубокую грудь скалы. — А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. — Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только искры морской воды, забрасываемой нашими веслами на наседающие, наседающие и все-таки расступающиеся — как расступились и тогда — базальтовые стены входа. Конца гроту, то есть выхода входу, не помню; прорезали ли мы скалу насквозь, то есть оказался ли вход воротами, или, повернув на каком-нибудь морском озерце свою рыбу-пилу, вернулись по своим, уже сглаженным следам, — не знаю. Исчезло. Помню только: вход в Аид44. Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала от человека, которого — как тогда решила — первого любила, ибо надо же установить первого, чтобы не быть потом в печальной необходимости признаться, что любил всегда или никогда. Это был переводчик Гераклита и гимнов Орфея30*. От него я тогда и уехала в Коктебель, не «любить другого», а не любить — этого. И уже перестрадав, отбыв — вдруг этот вход в Аид, не с ним! И в ответ на мое молчание о нем — так издалека — точно не с того конца лодки, а с конца моря: — В Аид, Марина, нужно входить одному. И ты одна вошла, Марина, я — как эти турки, я не в счет, я только средство, Марина, как эти весла… Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея — сама не знаю. Но Макса, введшего меня в Аид на деле, введшего с собой и без себя, — мне никогда не забыть. И каждый раз, будь то в собственных стихах или на «Орфее» Глюка, или просто слово Орфей — десятисаженная щель в скале, серебро морской воды на скалах, смех турок при каждом удачном весловом заносе — такой же высокий, как всплеск45… Сколькие водили меня по черным ходам жизни, заводили и бросали, — выбирайся как знаешь. Что я в жизни видела, кроме черного хода? и чернейших людских ходов? А вот что: вход в Аид! Еще одно коктебельское воспоминание. Большой поход46, на этот раз многолюдный. По причуде бесед и троп и по закону всякой русской совместности, отбились, разбрелись, и вот мы с Максом, после многочасового восхождения — неизвестно на какой высоте над уровнем моря, но под самым уровнем неба, с которого непосредственно нам на головы льет сильный отвесный дождь, на пороге белой хаты, первой в ряду таких же белых. — Можно войти переждать грозу? — Можно, можно. — Но мы совершенно мокрые. — Можно ошаг посушить. Так как снять нам нечего: Макс в балахоне, а я в шароварах, садимся мокрые в самый огонь и скромно ждем, что вот-вот его загасим. Но старушка в белом чепце подбрасывает еще кизяку. Огонь дымит, мы дымимся. — Как барышня похош на свой папаш! (Старичок.) Макс авторски-скромно: — Все говорят. — А папаш (старушка) ошень похош на свой дочк. У вас много дочк? Макс уклончиво: — Она у меня старшая. — А папаш и дочк ошень похош на свой царь. Следим за направлением пальца и сквозь дым очага и пар одежды различаем Александра III, голубого и розового, во всю стену. Макс: — Этот царь тоже папаш: нынешнего царя и дедушка будущего. Старичок: — Как вы хорошо сказаль: дэдушек будущий! Дай бог здорофь и царь, и папаш, и дочк! Старушка, созерцательно: — А дочк ф панталон. Макс: — Так удобнее лазить по горам. Старичок, созерцательно: — А папаш в камизоль. Макс, опережая вопрос о штанах: — А давно вы здесь живете? Старички (в один голос): — Дафно. Сто и двадцать лет. КОЛОНИСТЫ ВРЕМЕН ЕКАТЕРИНЫ.…Полдневных походов было много, больше чем полуночных. Полночные были приходы — после дня работы и, чаще уединенных, восхождений на Карадаг или другую гору — полночные приходы к друзьям, рассеянным по всему саду. Я жила в самой глубине47. Но тут не миновать коктебельских собак. Их было много, когда я приехала, когда я пожила, то есть обжилась, их стало — слишком много. Их стало — стаи. Из именных помню Лапко, Одноглаза и Шоколада48. Лапко — орфография двойная: Лапко от лапы и Лобко от лоб, оправдывал только последнюю, от лба, ибо шел на тебя лбом, а лапы не давал. Сплошное: иду на вы. Это был крымский овчар, что то же, огромный волк, порода, которую только в издевку можно приставлять к сторожбе овец. Но, слава богу, овец никаких не было. Был огромный красавец-волк, ничего и никого не стороживший и наводивший страх не на овец, а на людей. Не на меня. Я сразу, при первом его надвижении лбом, взяла его обеими руками за содрогающиеся от рычания челюсти и поцеловала в тот самый лоб, с чувством, что целую, по крайней мере, Этну. К самому концу лета я уже целовала его без рук и в ответ получала лапу. Но каждый следующий приезд — та же гремящая морда под губами, — Лапко меня за зиму забывал наглухо, и приходилось всю науку дружбы вбивать — вцеловывать ему сызнова. Таков был Лапко. Вторым, куда менее казистым, был Одноглаз, существо совершенно розовое от парши и без никаких душевных свойств, кроме страха, который есть свойство физическое. Третий был сын Одноглаза (оказавшегося Одноглазкой) — Шоколад, в детстве дивный щенок, позже — дикий урод. Остальных никак не звали, потому что они появлялись только ночью и исчезали с зарей. Таких были — сонмы. Но — именные и безымянные — все они жили непосредственно у моего дома, даже непосредственно у порога. И вот однажды утром, на большой террасе, за стаканом светлого чая с бубликом и даже без бублика (в Коктебеле ели плохо, быстро и мало, также, как спали), Макс мне: «Марина! ты знаешь, что я к тебе вечером шел» (вечером на коктебельском языке означало от полуночи до трех). — «Как — шел?» — «Да, шел и не дошел. Ты расплодила такое невероятное количество… псов, что я всю дорогу шел по живому, то есть по каким-то мертвым телам, которые очень гнусно и грозно рычали. Когда же я, наконец, протолкался через эту гущу и захотел ступить к тебе на крыльцо, эта гуща встала и разом, очень тихо, оскалила зубы. Ты понимаешь, что после этого…» Никогда не забуду, как я в полной черноте ночи, со всего размаху кинувшись на раскинутое плетеное кресло, оказалась лежащей не на раскидном кресле, а на огромной собаке, которой тут же была сброшена — и с нее и с шезлонга. Макс собак не то чтобы любил. Не любил, но убеждена, что без людей с собакой, с тем же Лапко, беседовал совершенно как со мной, вовсе не интонациями, а словами, и не пропуская ни одного. К примеру, выгоняя Одноглаза с плантажа: «Одноглаз! Я тебе советую убираться, пока тебя не видела мама», — так же подняв палец, не повышая голоса, холодно, как когда выгонял с плантажа мальчишку. И Одноглаз так же слушался, как мальчишка: не от страха мамы, а от священного страха Макса. Для Макса собака была человеком, сам же Макс был больше чем человеком. И Одноглаз Макса слушался не как родного бога, а как чужого бога. Никогда не помню, чтобы Макс собаку гладил, для него погладить собаку было так же ответственно, как погладить человека, особенно чужого! Лапко, самая надменная, хмурая и несобачья из коктебельских собак, ибо был волк, нехотя, за версту назад, но за Максом — ходил. В горах высоко жили овчары, разрывавшие на части велосипедиста и его велосипед. Когда Макс был вдвое моложе и тоньше, он тоже был велосипедист с велосипедом. И вот однажды — нападение: стая овчаров на велосипед с велосипедистом. А пастух где-то на третьем холму, профилем в синей пустоте, изваянием, как коза. Овец — ни следу… «Как же ты, Макс, отбился?» — «Не буду же я, в самом деле, драться с собаками! А я с ними поговорил». Если Керенского когда-то, в незлую шутку, звали Главноуговаривающим, то настоящим главноуговаривающим был Макс — и всегда успешным, ибо имел дело не с толпами, а с человеком, всегда одним, всегда с глазу-на-глаз: с единоличной совестью или тщеславием одного. И будь то комиссар, предводитель отряда, или крымский овчар, вожак стаи, — успех был обеспечен. Уговоры, полагаю, происходили вот как: Макс, отведя самого лютого в сторону: — Ты, как самый умный и сильный, скажи, пожалуйста, им, что велосипед, во-первых, невкусен, во-вторых, мне нужен, а им нет. Скажи еще, что очень неприлично нападать на безоружного и одинокого. И еще непременно напомни им, что они овчары, то есть должны стеречь овец, а не волки, — то есть не нападать на людей. Теперь позволь мне пожать твою благородную лапу и поблагодарить за сочувствие (которое, пока что, вожак изъявил только рычанием). Так ли уж убежден был Макс в человечности овчара или озверевшего красного или белого командира, во всяком случае он их в ней убеждал. Не сомневаюсь, что когда, годы спустя, к его мирной мифической даче подходили те или иные банды, первым его делом, появившись на вызовы, было длительное молчание, а первым словом: — Я бы хотел поговорить с кем-нибудь одним, — желание всегда лестное и требование всегда удовлетворимое, ибо во всякой толпе есть некий (а иногда даже несколько), ощущающий себя именно тем одним. Успех его уговоров масс был только взыванием к единственности. Чтобы кончить о собаках. Два года спустя — я ту зиму жила в Феодосии — редкий праздник явления Макса, во всем тирольском рубчатом — как мельник, или сын мельника, или Кот в сапогах. — Марина! А я к тебе гостей привел. Угадай! Скорей, скорей! Они очень волнуются. Выбегаю. За спиной Макса — от крыльца до калитки, в три сторожевых поста, в порядке старшинства и красоты: Лапко — Одноглаз — Шоколад. — Марина! Ты очень рада? Ты ведь по ним соскучилась? Нужно знать всю непонятность для Макса такого моего скучанья и степень уродства Шоколада и Одноглаза, с которыми ему пришлось идти через весь город, чтобы по достоинству оценить этот приход и привод. В революцию, в голод, всех моих собак пришлось отравить, чтобы не съели болгары или татары, евшие похуже. Лапко участи избежал, ибо ушел в горы — сам умирать. Это я знаю из последнего в Москве письма Макса, того, с которым ходила в Кремль, по вызову Луначарского, доложить о голодающих писателях Крыма49 …К зиме этого собачьего привода относится единственная наша новогодняя встреча с Максом за всю нашу дружбу. Выехали в метель, Сережа Эфрон, моя сестра Ася и я. В такой норд-ост никто бы не повез, а пешком восемнадцать верст и думать нечего — сплошной сногосшиб. И так бы Макс нас и не дождался, если бы не извозчик Адам, знавший и возивший Макса еще в дни его безбородости и половинного веса и с тех пор, несмотря на удвоенный вес и цены на феодосийском базаре, так и не надбавивший цены. Возил, можно сказать, даром — и с жаром. Взгромоздились в податливый разлатый рыдван, Адам накрыл чем мог — поехали. Поехали и стали. Лошади на свежем снегу скользили, колеса не скользили, но чего не могут древнее имя Адам, пара старых коней и трое неудержимых седоков, которым всем вместе пятьдесят четыре года. Так или иначе, до заставы доехали. Но тут-то и начинались те восемнадцать верст пространства — между нами и Максиной башней, нами и новым 1914 годом. Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком не ощущаемую. Норд-ост, ударив в грудь, вылетал между лопаток, ни тела, ни дороги, никакой достоверности не было: было поприще норд-оста. Нет, одна достоверность была: достоверная снеговая стена спины Адама, с появлявшейся временами черно-белой бородой: «Что, как, панычи, живы?» Холодно не было, нечему было, ничего не было, ехали голые веселые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего не делается. «Ася!» — «Да, Марина, так будем ехать после смерти!» Ехала, впрочем, еще веская достоверная корзина, с которой всё делается и которой есть чем вывалиться. Если мы тогда — все с конями, с повозкой, с Адамом — не сорвались в небо, то только из-за новогоднего фрахта Максиного любимого рислинга, который нужно было довезти. А этот смех! Как метель — мела, так мы от смеха — мотались, как норд-ост — налетал, так смех из нас — вылетал. Метель вожатого из «Капитанской дочки». И у Адама та же борода! Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Макс. — Сережа! Ася! Марина! Это — невозможно. Это — невероятно. — Макс, а разве ты забыл: Я давно уж не приемлю чуда,
Тройным чудом, то есть тремя мокрыми чудами выпрастываемся из повозки, метели, корзины, вожжей, стоим в жаркой Максиной мастерской, обтекаем лужами. Поим рислингом Адама так же щедро, как он нынче вечером будет поить коней. Макс совсем один, Е. О. в Москве. Дом нетопленый, ледяной и нежилой — что мрачнее летних мест зимою, прохладных синих от лета белых стен — в мороз? — Море еще ближе, чем было, ворочается у изножья башни, как зверь. Мы на башне. Башня — маяк. Но нужно сказать о башне. Была большая просторная комната, со временем Макс надстроил верх, а потолок снял50, — получилась высота в два этажа и в два света. Внизу была мастерская, из которой по внутренней лестнице наверх, в библиотеку, расположенную галереей. Там же Макс на чьем-то рыжем, цвета песка и льва, спал. На вышке башни, широкой площадке с перилами, днем, по завистливому выражению дачников, «поклонялись солнцу», то есть попросту лежали в купальных костюмах, мужчины и дамы отдельно, а по ночам, в той же передаче дачников, «поклонялись луне», то есть беседовали и читали стихи. Мастерская пустая, только мольберт и холсты, верх, с подавляющей головою египтянки Таиах, полон до разрыва. Много тысяч томов книг, чуда и дива из всех Максиных путешествий — скромные ежедневные чуда тех стран, где жил: баскский нож, бретонская чашка, самаркандские четки, Севильские кастаньеты — чужой обиход, в своей стране делающийся чудом, — но не только людской обиход, и морской, и лесной, и горный, — куст белых кораллов, морская окаменелость, связка фазаньих перьев, природная горка горного хрусталя… В башне жара. Огромный Макс носится вверх и вниз с чашками без ручек и с ножами без черенков. — Мама, уезжая, все заперла, чтобы не растащили, а кому растаскивать? — собаки вилками не едят. — Макс, а где же… — Все на даче Юнге31*, потому что, ты знаешь, от меня и объедков не остается (делая страшные глаза): Je mange tout!32*. Пожили, пожили со мною недели две и, видя, что это верная голодная смерть, ушли к Юнге. Просыпаюсь — ни одной. Красное жерло и вой чугунной печки. Но об этой печке — рассказ. До моего знакомства с Волошиными Е. О. и Максу по летам, когда съезжались, прислуживала пара: татарин и его жена, с татарским именем, в Максином переводе Животея. Животея эта была старая, тощая и страшная: татарин решил жениться на молодой. Некоторые антропософские девушки, гостившие тогда у Макса, стали татарина уговаривать: «Как тебе не стыдно! Она тебе так предана, ты всю жизнь с нею прожил, и теперь хочешь, жениться на молодой. Разве молодость важна? Красота важна? Важна душа, Селим, понимаешь. Душа, которая всегда полна и всегда молода!» Татарин слушал, слушал и, поняв, что они указывают ему на то, что он не может внести калыма за невесту: «Твоя правда, баришня, бедному человеку и с душой жить приходится». Эта самая душа, с которой бедному человеку приходится жить, была страшная воровка, по-научному сказали бы: клептоманка, по-народному — сорока. Макс задумал ставить печь. Сам купил, сам принес, сам стал ставить. Поставил. Зажег. Весь дым в дом. Ничего, в первый раз, обживется. На второй и третий день, — дымит, как паровоз! Думал, гадал, главное нюхал, проверил трубы, колена — разгадки нет. И вдруг озарение: Животея! Бежит, бычьи опустив голову, в ее камору; лезет под кровать, в самую ее грабиловку, — в самой глубине — колено, крохотное, не колено, а коленце, самое необходимое, то. «Зачем же ты взяла, Животея? — Молчит. — Зачем оно тебе? — Молчит. — Ты понимаешь, что я из-за тебя мог угореть. Умереть». Та молча перекатывает на желтом лице черные бусы-глаза. Рассказывают, что Макс от обиды — плакал. Глядим в красное жерло чугуна, загадываем по Максиной многочитанной Библии на Новый, 1914 год. За трехгранником окна — норд-ост. Море бушует и воет. Печка бушует и воет. Мы на острове. Башня — маяк. У Макса под гигантской головой Таиах его маленькие преданные часики. Что бы они ни показывали — правильно, ибо других часов нет. Еще двадцать минут, еще пятнадцать минут. «Давай погадаем, доехал Адам или нет». С некоторой натяжкой и в несколько иносказательной форме выходит, что доехал. Еще десять минут. Еще пять. Наполняем и сдвигаем три стакана и одну чашку и пьем за Новый — 1914-й — тогда еще не знали, какой — первый из каких годов — год. И Ася: «Макс, ты не находишь, что странно пахнет?» — «Здесь всегда так пахнет, когда норд-ост». Читаем стихи. Макс, я. Стихов, как всегда, много, особенно у меня. И — что это? Из-под пола, на аршин от печки, струечка дыма. Сначала думаем, что заметает из печки. Нет, струечка местная, именно из данного места пола — и странная какая-то, легкими взрывами, точно кто-то, засев под полом, пускает дымные пузыри. Следим. Переглядываемся, и Сережа, внезапно срываясь: — Макс, да это пожар! Башня горит! Никогда не забуду ответного, отсутствующего лица Макса, лица, с которого схлынула всякая возможность улыбки, его непонимающих-понимающих глаз, сделавшихся вдруг большими. — Внизу ведро? Одно? — Неужели же ты думаешь, Сережа, что можно затушить ведрами? Мчимся — Сережа, Ася, я — вниз, достаем два ведра и один кувшин, летим, гремя жестью в руках и камнями из-под ног, к морю, врываемся, заливая лестницу — и опять к морю, и опять на башню… Дым растет, уже два жерла, уже три. Макс, как сидел, так и не двинулся. Внимательно смотрит на огонь, всем телом и всей душой. Этот пожар — конец всему. В секундный перерыв между двумя прибегами, кто-то из нас: — Да неужели ты не понимаешь, что сгореть не может. Ну?? И в ответ — первый проблеск жизни в глазах. Очнулся! Проснулся. — Мы — водой, а ты… Да ну же! И опять вниз, в норд-ост, гремя и спотыкаясь, в явном сознании, что раз мы — только водой, так эта вода быть — должна. И на этот раз, взбежав — молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой — воздетой рукой, что-то неслышно и раздельно говорящего в огонь. Пожар — потух. Дым откуда пришел, туда и ушел. Двумя ведрами и одним кувшином, конечно, затушить нельзя было. Ведь горело подполье! И давно горело, ибо запах, о котором сказала Ася, мы все чувствовали давно, только за радостью приезда, встречи года, осознать не успели. Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восставленный любовью и волей одного человека, уцелел весь. Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти одно и оставить другое, Максимилиан Волошин, и здесь не пожелавший выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это всё, и весь в каждой данной вещи, Максимилиан Волошин сохранил всё51. Что наши ведра? Только добрая воля тех, кто знает, что он огня не остановит подъятием руки, что ему руки даны — носить. Только выход энергии: когда горит — не сидеть руки сложа. Самое замечательное в этой примечательной новогодней ночи, что мы с Асей, принеся очередное, уже явно ненужное ведро, внезапно и каменно заснули. Каждая, где стояла. Так потихонечку и сползли. И до того заспались, что, увидев над собой широченную во все лицо улыбку Макса — в эту секунду лицо равнялось улыбке и улыбка — лицу, — невольно зажмурились от него, как от полдневного солнца. МАКС И СКАЗКАЧем глубже я гляжусь в бездонный колодец памяти, тем резче встают мне навстречу два облика Макса: греческого мифа и германской сказки. Гриммовской сказки. Добрый людоед, ручной медведь, домовитый гном и, шире: дремучий лес, которым прирученный медведь идет за девушкой, — Макс был не только действующим лицом, но местом действия сказки Гримма. Медведь-Макс за Розочкой и Беляночкой пробирался по зарослям собственных кудрей52. Помню картинку над своей детской кроватью: в лесу, от роста лежащего кажущемуся мхом, в мелком и курчавом, как мох, лесу, на боку горы, как на собственном, спит великан. Когда я десять лет спустя встретила Макса, я этого великана и этот лес узнала. Этот лес был Макс, этот великан был Макс. Так, через случайность детской картинки над кроватью, таинственно восстанавливается таинственная принадлежность Макса к германскому миру, моим тем узнаванием в нем Гримма — подтверждается. О германской крови Макса я за всю мою дружбу с ним не думала, теперь, идя назад к истокам его прародины и моего младенчества — я эту кровь в нем знаю и утверждаю. В его физике не было ничего русского. Даже курчавые волосы его (в конце концов не занимать-стать: у нас все добрые молодцы и кучера курчавые) за кучерские не сошли. (Свойство русского русого волоса — податливость, вьются как-то от всего, у Макса же волос был неукротимый.) И такие ледяные голубо-зеленые глаза никогда не сияли под соболиными бровями ни одного доброго молодца. Никому и в голову не приходило наградить его «богатырем». Богатырь прежде всего тяжесть (равно как великан прежде всего скорость). Тяжесть даже не физическая, а духовная. Физика, ставшая психикой. Великан — шаг, богатырь — вес. Богатырь и по земле ступить не может, потому что провалится, ее, землю, провалит. Богатырю ничего не остается, кроме как сидеть на коне и на печке сиднем. (Один даже от собственной силы, то есть тяжести, ушел в землю, сначала по колено, потом по пояс, а потом совсем.) Сила богатыря есть сила инерции, то есть тяжесть. В Максе ни сидня, ни тяжести, ни богатыря. Он сам был конь! Помню, как на скамейке перед калиткой — я сидела, он стоял — он, читая мне свой стих, кончающийся названием греческих островов, неожиданно — Наксос — прыжок, Делос — прыжок и Микэн — до неба прыжок!53 Его веское тело так же не давило землю, как его веская дружба — души друзей. А по скалам он лазил, как самая отчаянная коза. Его широкая ступня в сандалии держалась на уступе скалы только на честном слове доверия к этой скале, единстве с этой скалой. Еще особенность наших сказок: полное отсутствие уюта: страшные — скрызь. Макс же в быту был весь уют. И чувство, которое он вызывал даже в минуты гнева, был тот страх с улыбкой, сознание, что хорошо кончится, которое неизменно возбуждают в нас все гриммовские великаны и никогда не возбудит Кащей или другое какое родное чудовище. Ибо гнев Макса — как гнев божества и ребенка — мог неожиданно кончиться смехом — дугой радуги! Гнев же богатыря неизменно кончается ударом по башке, то есть смертью. Макс был сказка с хорошим концом. Про Макса, как про своего сына, — кстати, в детстве они очень похожи, — могу сказать, что: …славянской скуки —
Позднеславянской, то есть интеллигентской. Физика Макса была широкими воротами в его сущность, физическая обширность — только введением в обширность духовную, физический жар его толстого тела только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели; вся физическая сказочность его — только входом и вводом в тот миф, который был им и которым он был. Но этим Макс и сказка не исчерпан. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник: мифотворец. О, сказочник прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет «условий», сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения — Максом, человеком и нами — только их. Всё остальное: мелкое, пришлое, случайное, отметалось. То есть тот же творческий принцип памяти, о которой, от того же Макса, слышала: «La memoire a bon gout»33*, то есть несущественное, то есть девяносто сотых — забывает. Макс о событиях рассказывал, как народ, а об отдельных людях, как о народах. Точность его живописания для меня всегда была вне сомнения, как несомненна точность всякого эпоса. Ахилл не может быть не таким, иначе он не Ахилл. В каждом из нас живет божественное мерило правды, только перед коей прегрешив человек является лжецом. Мистификаторство, в иных устах, уже начало правды, когда же оно дорастает до мифотворчества, оно — вся правда. Так было у Макса в том же случае Черубины. Что не насущно — лишне. Так и получаются боги и герои. Только в Максиных рассказах люди и являлись похожими, более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так и не там, где встречаешь не их, где они просто сами-не-свои и — неузнаваемы. Помню из уст Макса такое слово маленькой девочки. (Девочка впервые была в зверинце и пишет письмо отцу:) — Видела льва — совсем не похож. У Макса лев был всегда похож. Кстати, чтобы не забыть. У меня здесь, в Кламаре, на столе, на котором пишу, под чернильницей, из которой пишу, тарелка. Столы и чернильницы меняются, тарелка пребывает, вывезла ее в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала еще на двадцать лет старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, старинная, английская, с коричневым побелу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо, даже лик: лев. Собственно, весь лев, но от величины головы тело просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы маленькие белые сверла глаз. Этот лев самый похожий из всех портретов Макса. Этот лев — Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс. На этот раз жизнь занялась мифотворчеством. Один-единственный пример на живой мне. В первый же день приезда в Коктебель — о драгоценных камнях его побережья всякий знает — есть даже бухта такая: Сердоликовая, — в первый день приезда в Коктебель я Максу: «М. А., как вы думаете, вы могли бы отгадать, какой мой самый любимый камень на всем побережье?» И уже час спустя, сама о себе слышу: — «Мама! Ты знаешь, что мне заказала М. И.? Найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье!» Ну, не лучше ли так и не больше ли я? Я была тот черновик, который Макс мгновенно выправил. Острый глаз Макса на человека был собирательным стеклом, собирательным — значит зажигательным. Всё, что было своего, то есть творческого, в человеке, разгоралось в посильный костер и сад. Ни одного человека Макс — знанием, опытом, дарованием — не задавил. Он, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. «Когда мне нужен я — я ухожу, если я к тебе прихожу — значит, мне нужен ты». Хотела было написать «ненасытность на подлинное», но тут же вспомнила, даже ушами услышала: «Марина! Никогда не употребляй слово «подлинное». — «Почему? Потому что похоже на подлое?» — «Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подлинное, подлинная правда, та правда, которая под линьками, а линьки — те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добиваясь признания, лжепризнания. Подлинная правда — правда застенка». Всё, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда. Итак, Макс, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. Знаю, что для молодых поэтов, со своим, он был незаменим, как и для молодых поэтов — без своего. Помню, в самом начале знакомства, у Алексея Толстого литературный вечер. Читает какой-то титулованный гвардеец: луна, лодка, сирень, девушка… В ответ на это общее место — тяжкое общее молчание. И Макс вкрадчиво, точно голосом ступая по горячему: «У вас удивительно приятный баритон. Вы — поете?» — «Никак нет». — «Вам надо петь, вам непременно надо петь». Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было; баритону, действительно, надо петь. А вот еще рассказ о поэтессе Марии Паппер. — М. И., к вам еще не приходила Мария Паппер? — Нет. — Значит, придет. Она ко всем поэтам ходит: и к Ходасевичу, и к Борису Николаевичу34*, и к Брюсову. — А кто это? — Одна поэтесса. Самое отличительное: огромные, во всякое время года, калоши. Обыкновенные мужские калоши, а из калош на тоненькой шейке, как на спичке, огромные темные глаза, на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с черного хода, еще до свету, и прямо на кухню. «Что вам угодно, барышня?» — «Я к барину». — «Барин еще спят». — «А я подожду». Семь часов, восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. Иногда кухарка, сжалившись: «Может, разбудить барина? Если дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иногда только к часу выходит. А то и вовсе не встают». — «Нет, зачем, мне и так хорошо». Наконец, кухарка, не вытерпев, докладывает: «К вам барышни одни, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются». — «Так чего ж ты, дура, в гостиную не провела?» — «Я было хотела, а оне: мне, мол, и здеся хорошо. Я их и чаем напоила — и сама пила, и им налила, обиды не было». Наконец встречаются: «барин» и «барышня». Глядят: Ходасевич на Марию Паппер, Мария Паппер на Ходасевича. «С кем имею честь?» — Мышиный голос, как-то всё на и: «А я — Мария Па-аппер». — «Чем могу служить?» — «А я стихи-и пи-ишу…» И неизвестно откуда, огромный портфель, департаментский. Ходасевич садится к столу, Мария Паппер на диван. Десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов. Мария Паппер читает. Ходасевич слушает. Слушает — как зачарованный! Но где-то внутри — пищевода или души, во всяком случае, в месте, для чесания недосягаемом, зуд. Зуд всё растет, Мария Паппер всё читает. Вдруг, нервный зевок, из последних сил прыжок, хватаясь за часы: «Вы меня — извините — я очень занят — меня сейчас ждет издатель — а я — я сейчас жду приятеля». — «Так я пойду-у, я еще при-иду-у». Освобожденный, внезапно поласковевший Ходасевич: — У вас, конечно, есть данные, но надо больше работать над стихом… — Я и так все время пи-ишу… — Надо писать не все время, а надо писать иначе… — А я могу и иначе… У меня есть… Ходасевич, понимая, что ему грозит: — Но, конечно, вы еще молоды и успеете… Нет, нет, вы не туда, позвольте я провожу вас с парадного… Входная дверь защелкнута, хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг — бурей — пронося над головой обутые руки — из кухни в переднюю — кухарка: — Ба-а-арышни! Ба-арышни! Ай, беда-то какая! Калошки забыли! …Вы знаете, М. И., не всегда так хорошо кончается, иногда ей эти калоши летят вслед… Иногда, особенно если с верхнего этажа, попадают прямо на голову, но на голову или на ноги, Ходасевич или (скромно) со мной тоже было — словом: неделю спустя сидит поэт, пишет сонет… «Барин, а барин?» — «Что тебе?» — «Там к вам одне барышни пришли, с семи часов дожидаются.. Мы с ними уже два раза чайку попили… Всю мне свою жизнь рассказали… (Конфузливо.) Писательницы». Так, некоторых людей Макс возводил в ранг химер Книжку ее мне Макс принес. Называлась «Парус» Из стихов помню одни: Во мне кипит, бурлит волна
И еще такое четверостишие: Я великого, нежданного,
Сказка у него была на всякий случай жизни, сказкой он отвечал на любой вопрос. Вот одна, на какой-то — мой: Жил-был юноша, царский сын. У него был воспитатель, который, полагая, что все зло в мире от женщины, решил ему не показывать ни одной до его совершеннолетия. («Ты, конечно, знаешь, Марина, что на Афоне нет ни одного животного женского пола, одни самцы».) И вот в день его шестнадцатилетия воспитатель, взяв его за руку, повел его по залам дворца, где были собраны все чудеса мира. В одной зале — все драгоценные камни, в другой — всё оружие, в третьей — все музыкальные инструменты, в четвертой — все драгоценные ткани, в пятой, шестой (ехидно) — и так до тридцатой — все изречения мудрецов в пергаментных свитках, а в тридцать первой — все редкостные растения и, наконец, в каком-то сотом зале — сидела женщина. «А это что?» — спросил царский сын своего воспитателя. «А это, — ответил воспитатель, — злые демоны, которые губят людей». Осмотрев весь дворец со всеми его чудесами, к концу седьмого дня воспитатель спросил у юноши: — Так что же тебе, сын мой, из всего виденного больше всего понравилось? — А, конечно, те злые демоны, которые губят людей! — Марина! Марина! слушай! Когда же вырос Гакон,
Сейчас пытаюсь восстановить: что? откуда? Явно, раз Гакон — норвежское, явно, раз «шибче, шибче, мальчик мой» — колыбельная или скаковая песня мальчику — матери, некоей вдовствующей Бианки — обездоленному Гакону, который все-таки потом добился престола. Начало песенки ушло, нужно думать: о врагах, отнявших престол и отцовского коня, ничего не оставивших, кроме престола и коня материнских колен. Перевод — Макса. Вижу, как сиял. Так сияют только от осуществленного чуда перевода. А вот еще песенка из какой-то детской книжки Кнебеля35*: У Мороза-старика
— Марина, нравится? — Очень. — К сожалению, не я написал. И еще одна, уже совсем умилительная, которую пел — мне: Баю-баю-бай,
Все, что могло тогда понравиться мне, Макс мне приволакивал как добычу. В зубах. Как медведь медвежонку. У Макса для всякого возраста был свой облик. Моему, тогда, почти детству он предстал волшебником и медведем, моей, ныне — зрелости или как это называется — он предстает мифотворцем, миротворцем и мiротвор-цем57. Всё Макс давал своим друзьям, кроме непрерывности своего присутствия, которое, при несчетности его дружб, уже было бы вездесущием, то есть физической невозможностью. Из сказок, мне помнится, Макс больше всего любил звериные, самые старые, сказки прародины, иносказания — притчи. Но об отдельной любви к сказке можно говорить в случае, когда существует не-сказка. Для Макса не-сказки не было, и он из какой-нибудь лисьей истории так же легко переходил к случаю из собственной жизни, как та же лиса из лесу в нору. Одним он не был: сказочником письменным. Ни его сказочность, ни сказочничество в его творчество не перешли. Этого себя, этих двух себя он в своем творчестве — очень большом по охвату — не дал. Будь это, я бы так на его сказочности не настаивала. Он сам был из сказки, сам был сказка, сама сказка, и, закрепляя этот его облик, я делаю то же, что все собиратели сказок, с той разницей, что собиратели записывают слышанную, я же виденную и совместно с Максом житую: vecue36*. На этом французском незаменимом и несуществующем слове (vie vecue — житая жизнь, так у нас не говорят, а прожитая — уже в окончательном прошлом, не передает) остановлюсь, чтобы сказать о Максе и Франции. Явным источником его творчества в первые годы нашей встречи, бывшие последними до войны, была бесспорно и явно Франции. Уже хотя бы по тем книгам, которые он давал друзьям, той же мне: Казанова или Клодель, Аксель или Консуэла — ни одной, за годы и годы, ни немецкой, ни русской книги никто из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме как из жизни французов — писателей или исторических лиц, — никто из его уст тогда не слышал. Ссылка его была всегда на Францию. Оборот головы всегда на Францию58. Он так и жил, головой, обернутой на Париж. Париж XIII века или нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времен был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома не был. (Не говорю о вечном Коктебеле, из которого потом разрослось — всё.) Его ношение по Москве и Петербургу, его всеприсутствие и всеместность везде, где читались стихи и встречались умы, было только воссозданием Парижа. Как некоторые из нас, во всяком случае, русские няни, Arc de Triomphe37* превращают в Триумфальные или даже Трухмальные ворота и Пасси в Арбат, так и Макс в те годы превращал Арбат в Пасси и Москву-реку в Сену. Париж прошлого, Париж нынешний, Париж писателей, Париж бродяг, Париж музеев, Париж рынков, Париж парижан, Париж — калужан (был и тогда такой!), Париж первой о нем письменности и Париж последней песенки Мистенгетт38*, — весь Париж, со всей его, Парижа, вместимостью, был в него вмещен. (Вмещался ли в него весь Макс?) Одного, впрочем, Макс в Париж не вместил. Сейчас увидите, чего. «М. А., что вам больше всего нравится в Париже?» Макс, молниеносно: «Эйфелева башня», — «Неужели?» — «Да, потому что это единственное место, откуда ее не видать». Макс Эйфелеву ненавидел так, как никогда не мог ненавидеть живое лицо. «Знаешь, Марина, какая рифма к Эйфелевой? — И, боясь, что опережу: — Тейфелева!»59 (То есть чертова.) У меня нет его первой книги, но помню, что, где ни раскроешь, везде Париж. Редкая страница нас не обдаст Парижем, если не прямым Парижем, то Парижем иносказанным. Первая книга его, на добрую половину, чужестранная. В этом он сходится с большинством довоенных поэтов: Бальмонт — заморье, Брюсов — все истории, кроме русской, ранний Блок — Незнакомка, запад; Золото в лазури Белого60 — готика и романтика. И, позже: Гумилев — Африка, Кузмин — Франция, даже первая Ахматова, Ахматова первой книжки, если упоминает Россию, то как гостья — из страны Любви, которая в России тоже экзотика. Только иноземность Макса (кроме «экзотики» Ахматовой) была скромнее и сосредоточеннее. Теперь оговорюсь. Как всё предшествующее: о Максе и мире, о Максе и людях, о Максе и мифе — достоверность, то есть безоговорочно, то есть как бы им подписано или даже написано, так последующее — только мои домыслы, неопровержимые только для меня. Справиться, увы, мне не у кого, ибо только ему одному поверила бы больше, чем себе. Я сказала: явным источником его творчества, но есть источники и скрытые, скрытые родники, под землей идущие долго, всё питающие по дороге и прорывающиеся — в свой час. Этих скрытых родников у Макса было два: Германия, никогда не ставшая явным, и Россия, явным ставшая — и именно в свой час. О физическом родстве Макса с Германией, то есть простой наличности германской крови, я уже сказала. Но было, по мне, и родство духовное, глубокое, даже глубинное, которого — тут-то и начинается опасная и очень ответственная часть моего утверждения — с Францией не было. Да простит мне Макс, если я ошибаюсь, но умолчать не могу. Возьмем шире: у нас с Францией никогда не было родства. Мы — разные. У нас к Франции была и есть любовь, была, может быть, еще есть, а если сейчас нет, то, может быть, потом опять будет — влюбленность, наше взаимоотношение с Францией — очарование при непонимании, да, не только ее — нас, но и нашем ее, ибо понять другого — значит этим другим хотя бы на час стать. Мы же и на час не можем стать французами. Вся сила очарования, весь исток его — в чуждости. Расширим подход, подойдем надлично. Мы Франции обязаны многим — обязан был и Макс, мы от этого не отказываемся — не отказываюсь и за Макса, какими-то боками истории мы совпадаем, больше скажу: какие-то бока французской истории мы ощущаем своими боками. И больше своими, чем свои. Возьмем только последние полтора столетия. Французская революция во всем ее охвате: от Террора и до Тампля (кто за Террор, кто за Тампль, но всякий русский во французской революции свою любовь найдет), вся Наполеониада, 48-й год, с русским Рудиным на баррикадах, вся вечерняя жертва Коммуны, даже катастрофа 70-го года. Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine, Mais notre coeur vous ne l'aurez jamais…39*61 — все это наша родная история, с молоком матери всосанная. Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Занд, и многие, и многие — наши родные писатели, не менее, чем им современные русские. Все это знаю, во всем этом расписываюсь, но — все это только до известной глубины, то есть все-таки на поверхности, только ниже которой и начинается наша суть, Франции чуждая. На поверхности кожи, ниже которой начинается кровь. Наше родство, наша родня — наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую мы — если когда-то давно, ее в лице лучших голов и сердец нашей страны — и любили, — никогда не были влюблены. Как не бываешь влюблен в себя. Дело не в историческом моменте: «в XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине XIX — Германию», дело не в истории, а в до-историн, не в моментах, преходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прародине, в том вине, о котором русский поэт Осип Мандельштам, в самый разгар войны: А я пою вино времен —
гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза. Вернемся к Максу. Голословным утверждением его германства, равно как ссылкой хотя бы на очень сильную вещь: кровь — я и сама не удовлетворюсь. Знаю одно: германства было. Надо дознаться: в чем. В жизни? На первый взгляд нет. Ни его живость, ни живопись, ни живописность, ни его — по образу многолюбия: многодружие, ни быстрота его схождения с людьми, ни весь его внешний темп германскими не были. Уж скорее бургундец, чем германец. (Кстати, Макс вина, кроме как под Новый год, в рот не брал: не нужно было!) Но — начнем с самого простого бытового — аккуратность, даже педантичность навыков, «это у меня стоит там, а это здесь, и будет стоять», но — страсть к утренней работе: функция утренней работы, но культура книги, но культ книжной собственности, но страсть к солнцу и отвращение к лишним одеждам (Luftbad, Sonnenbad!40*), но — его пешеходчество и, мы на пороге больших вещей, — его одиночество: восемь месяцев в году один в Коктебеле со своим ревущим морем и собственными мыслями, — но действенная страсть к природе, вне которой физически задыхался, равенство усидчивости за рабочим столом (своего Аввакума41*, по его выражению, переплавил семь раз) и устойчивости на горных подъемах, — Макс не жил на большой дороге, как русские, он не был ни бродягой, ни, в народном смысле, странником, ни променёром42*, он был именно Wanderer43*, тем, кто выходит с определенной целью: взять такую-то гору, и к концу дня, или лета, очищенный и обогащенный, домой — возвращается. Но — прочность его дружб, без сносу, срок его дружб, бессрочных, его глубочайшая человеческая верность, тщательность изучения души другого были явно германские. Друг он был из Страны Друзей, то есть Германии. Для ясности: при явно французской общительности — явно германский модус общения, при французской количественности — германская качественность дружбы, сразу как бургундец, но раз навсегда, как германец. Здесь действительно уместно упомянуть достоверную и легендарную deutsche Treue44*, верность, к которой ни один народ, кроме германского, не может приставить присвоительного прилагательного. Это о жизни бытовой и с людьми, самой явной. Но важнее и неисследимее жизни с людьми жизнь человека без людей — с миром, с собой, с Богом, жизнь внутри. Тут я смело утверждаю германство Макса. Глубочайший его пантеизм: всебожественность, всебожие, всюдубожие, — шедший от него лучами с такой силой, что самого его, а по соседству и нас с ним, включал в сонм — хотя бы младших богов, — глубочайший, рожденнейший его пантеизм был явно германским, — прагерманским и гётеянским. Макс, знал или не знал об этом, был гётеянцем62, и здесь, я думаю, мост к его штейнерианству, самой тайной его области, о которой ничего не знаю, кроме того, что она в нем была, и была сильнее всего. Это был — скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного учения о тайном. Мистик — мало скрытый — зарытый. Никогда ни одного слова через порог его столь щедрых, от избытка сердца глаголящих уст. Из этого заключаю, что он был посвященный. Эта его сущность, действительно, зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь там, на коктебельской горе, где он лежит, еще окажется — неизвестно кем положенная — мантия розенкрейцеров. Знаю, что германства я его не доказала, но знаю и почему. Германством в нем был родник его крови и родник его мистики, родники скрытые из скрытых и тайные из тайных. Француз культурой, русский душой и словом, германец — духом и кровью. Так, думаю, никто не будет обижен. В другой свой дом, Россию, Макс явно вернулся. Этот французский, нерусский поэт начала — стал и останется русским поэтом. Этим мы обязаны русской революции. Думали, нищие мы, нету у нас ничего…63 Действие нашей встречи длилось: 1911 год — 1917 год — шесть лет. 1917 год. Только что отгремевший московский Октябрь. Коктебель. Взлохмаченные седины моря. Макс, Пра, я и двое, вчерашнего выпуска, офицеров, только что живыми выпущенных большевиками из Московского Александровского училища, где отбивались до последнего часа. Один из них тот Сережа, который с таким рвением в ту новогоднюю ночь заливал пожар дырявым ведром. Вот живые записи тех дней: Москва, 4 ноября 1917 г. Вечером того же дня уезжаем: С., его друг Гольцев и я в Крым. Гольцев успевает получить в Кремле свое офицерское жалование (200 р.). Не забыть этого жеста большевиков. Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физическая жгучая радость Макса В. при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба. Видение Макса на приступочке башни, с Тьером на коленях64, жарящего лук. И, пока лук жарится, чтение вслух, С. и мне, завтрашних и послезавтрашних судеб России. — А теперь, Сережа, будет то-то… И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картину за картиной — всю русскую революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь… 25 ноября 1917 года я выехала в Москву за детьми, с которыми должна была тотчас же вернуться в Коктебель, где решила — жить или умереть, там видно будет, но с Максом и Пра, вблизи от Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон. Адам. Рыдван. Те самые кони. Обнимаемся с Пра. — Только вы торопитесь, Марина, тотчас же поезжайте, бросайте все, что там вещи, только тетради и детей, будем с вами зимовать… — Марина! — Максина нога на подножке рыдвана. — Только очень торопись, помни, что теперь будет две страны: Север и Юг. Это были его последние слова. Ни Макса, ни Пра я уже больше не видала. В ноябре 1920 года, тотчас же после разгрома Крыма, я получила письмо от Макса, первое за три года, и первое, что прочла, — была смерть Пра65. Восстанавливаю по памяти. «Такого-то числа умерла от эмфиземы легких мама. Она за последний год очень постарела, но бодрилась и даже иногда по-прежнему напевала свой венгерский марш. Главной ее радостью все эти последние годы был Сережа, в котором она нашла (подчеркнуто) настоящего сына-воина. Очень обрадовало ее и Алино письмо, ходила и всем хвастала — ты ведь знаешь, как она любила хвастать: «Ну и крестница! Всем крестницам крестница! Ты, Макс, — поэт, а такого письма не напишешь!» Описание феодосийского и коктебельского голода, трупов, поедаемых не собаками, а людьми, и дальше, о Пра: «Последние месяцы своей жизни она ела орлов, которых старуха Антонида — ты наверное ее помнишь — ловила для нее на Карадаге, накрыв юбкой. Последнее, что она ела, была орлятина». И, дальше: «О Сереже не тревожься. Я знаю, что он жив и будет жив, как знал это с первой минуты все эти годы». 11 августа 1932 года я в лавчонке всякого барахла, возле Кламарского леса, вижу пять томов Жозефа Бальзамо. Восемь франков, все пять в переплете. Но у меня только два франка, на которые покупаю Жанну д'Арк, англичанина Андрью Ланга, — кстати (и естественно), лучшую книгу о Жанне д'Арк. И под бой полдня в мэрии иду домой, раздираясь между чувством предательства — не вызволила Бальзамо, то есть Макса, то есть собственной молодости — и радости: вызволила из хлама Жанну д'Арк. Вечером того же дня, в гостях у А. И. Андреевой45*, я о большевиках и писателях: — Волошин, например, ведь с их точки зрения — явный контрреволюционер, а ведь ему пенсию, 240 рублей в месяц66, и, убеждена, без всякой его просьбы. А. И.: — Но разве Волошин не умер? Я, в каком-то ужасе: — Как умер! Жив и здоров, слава Богу! У него был припадок астмы, но потом он совсем поправился, я отлично знаю. 16 августа читаю в «Правде»67: 11 августа, в 12 часов пополудни, скончался в Коктебеле поэт Максимилиан Волошин, — то есть как раз в тот час, когда я в Кламарской лавчонке торговала Бальзамо. А вот строки из письма моей сестры Аси: «Макса похоронили на горе Янычары, высоко — как раз над ней встает солнце. Это продолжение горы Хамелеон, которая падает в море, левый край бухты. Так он хотел, и это исполнили. Он получал пенсию и был окружен заботой. Так профилем в море по один бок и могилой по другой — Макс обнял свой Коктебель». А вот строки из письма, полученного о. Сергием Булгаковым46*: «Месяца за полтора был сильный припадок астмы, такой тяжелый, что после него ждали второго и на благополучный исход не надеялись. Страдал сильно, но поражал кротостью. Завещал похоронить его на самом высоком месте. Самое высокое место там — так называемая Святая гора (моя скобка: там похоронен татарский святой), — на которую подъем очень труден и в одном месте исключительно труден». А вот еще строки из письма Екатерины Алексеевны Бальмонт (Москва): «…Зимой ему было очень плохо, он страшно задыхался. К весне стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Летом решили его везти в Ессентуки. Но у него сделался грипп, осложненный эмфиземой легких, от чего он и умер в больших страданиях. Он был очень кроток и терпелив, знал, что умирает. Очень мужественно ждал конца. Вокруг него было много друзей, все по очереди дежурили при нем, и все удивлялись ему. Лицо его через день стало замечательно красиво и торжественно. Я себе это очень хорошо представляю. Похоронили его по его желанию в скале, которая очертанием так напоминала голову Макса в профиль. Вид оттуда изумительной красоты на море. Pro дом и библиотека им уже давно были отданы Союзу писателей. Оставшиеся бумаги и рукописи разбирают его друзья»… Ася пишет Янычары, по другим источникам — на Святой горе, по третьим в скале «собственного профиля»68… Вот уже начало мифа, и, в конце концов, Макс окажется похороненным на всех горах своего родного Коктебеля. Как бы он этому радовался! Макса Волошина в Революцию дам двумя словами: он спасал красных от белых и белых от красных, вернее, красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей. Знаю еще, что его стихи «Матрос»69 ходили в правительственных листовках на обоих фронтах, из чего вывод, что матрос его был не красный матрос и не белый матрос, а морской матрос, черноморский матрос. И как матрос его — настоящий матрос, так поэт он — настоящий поэт, и человек — настоящий человек, по всем счетам, то есть по единственному счету внутренней необходимости — плативший. За любовь к одиночеству — плативший восемью месяцами в год одиночества абсолютного, а с 17-го года и всеми двенадцатью, за любовь к совместности — неослабностью внутреннего общения, за любовь к стихам — слушанием их, часами и томами, за любовь к душам — не двухчасовыми, а двадцати- и тридцати летними беседами, кончившимися только со смертью собеседника, а может быть, не кончившимися вовсе? За любовь к друзьям — делом, то есть всем собой, за любовь к врагам — тем же. Этого человека чудесно хватило на все, все самое обратное, все взаимно-исключающееся, как: отшельничество — общение, радость жизни — подвижничество. Скажу образно: он был тот самый святой, к которому на скалу, которая была им же, прибегал полечить лапу больной кентавр, который был им же, под солнцем, которое было им же. На одно только его не хватило, вернее, одно только его не захватило: партийность47*, вещь заведомо не человеческая, не животная и не божественная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество. Не политические убеждения, а мироубежденность, не мировоззрение, а миротворчество. Мифотворчество и, в последние годы своей жизни и лиры, миротворчество — творение мира заново. Бытовой факт его пенсии в 240 рублей, пенсии врагов, как бы казалось, врагу — вовсе небытовой и вовсе не факт, а духовный акт победы над самой идеей вражды, самой идеей зла. Так, окольными путями мистики, мудрости, дара, и прямым воздействием примера, Макс, которого как-то страшно называть христианином, настолько он был всё, еще всё, заставил тех, которые его мнили своим врагом, не только простить врагу, но и почтить врага. Поэтому все, без различия партий, которых он не различал, преклонимся перед тем очагом Добра, который есть его далекая горная могила, а затем, сведя затылок с лопатками, нахмурившись и все же улыбнувшись, взглянем на его любимое полдневное солнце — и вспомним его. КомментарииВоспоминания Марины Ивановны Цветаевой написаны в Кламаре — пригороде Парижа — в 1932 году. 16 октября 1932 г. Цветаева сообщала в письме А. Тесковой: «…за плечами месяц усиленной, пожалуй даже — сверх силы — работы, а именно галопом, спины не разгибая, писала воспоминания о поэте М. Волошине. <…> Писала, как всегда, одна против всех, к счастью, на этот раз только против всей эмигрантской прессы, не могшей простить М. Волошину его отсутствия ненависти к Советской России». В том же году Цветаевой создан стихотворный цикл, посвященный памяти Волошина: «Ici — haut»48* «Живое о живом» впервые напечатано — с купюрами, не согласованными с автором, — в журнале «Современные записки» (Париж, 1933. № 52 и 533). Текст — по кн.: Цветаева М. Соч. в 2-х т. Т. 2. (М., 1984) — с восстановлением сделанных там сокращений. 1 11 марта 1913 года в «Московской газете» появилось интервью Волошина, данное им журналисту Е. Я. (Е. Л. Берштейну). Отвечая на вопрос о пресловутом «хитоне», Волошин сказал: «Уже двадцать лет, как я живу в Коктебеле. Эта пустынная долина стала за последние пять лет заселяться людьми и сплетнями, отсюда и легенда о моих костюмах. Хитонами их назвать никак нельзя — это длинные блузы ниже колен византийского (т. е. русской рубахи) покроя. Так как я люблю ходить босиком и из-под рубашки видны только голые ноги, то приезжих весьма интересует вопрос: есть ли под рубахой штаны? Если это может успокоить встревоженное общественное мнение литературной России, я могу Вам ответить: да, я ношу под рубахой штаны. Поражаться нужно, как, зачем и почему это может интересовать кого-нибудь?..» 2 Описывая свое знакомство с Волошиным, М. Цветаева несколько смещает факты (по мнению А. Саакянц49*, умышленно). 1 декабря 1910 года Цветаева подарила Волошину (в издательстве «Мусагет») свою книгу «Вечерний альбом» (М., 1910). 2 декабря Волошин написал стихотворение «К Вам душа так радостно влекома…», посвященное Цветаевой. А 11 декабря 1910 г. в московской газете «Утро России» появилась волошинская статья «Женская поэзия», где анализируется «Вечерний альбом». Эту статью Волошин принес Цветаевой, по-видимому, 22 декабря того же года. 3 В своей статье Волошин не называет ни одного имени французских поэтесс — только русских: Любови Столицы, Аделаиды Герцык, Маргариты Сабашниковой, Черубины де Габриак. 4 Вероятно, в Кламаре у Цветаевой не было текста волошинской статьи «Женская поэзия», и она писала о ней по памяти. Строка «Если думать — то где же игра?» (из стихотворения Цветаевой «Утомленье») в этой статье Волошина не приводится. 5 Наполеону II (герцогу Рейхштадскому, 1811—1832) — единственному сыну Наполеона и Марии-Луизы — посвящена пьеса Э. Ростана «Орленок». Французская актриса Сара Бернар (1844—1923) играла герцога Рейхштадского в этой пьесе. 6 Пчелы были воспроизведены на гербе Наполеона. 7 Наполеон II при рождении получил титул короля Римского, а после падения отца потерял право наследника и был лишь австрийским герцогом. 8 Волошин увлекался хиромантией и смотрел ладони многих близких людей. 22 декабря 1913 года он рекомендовал в письме Е. Я. Эфрон, заинтересовавшейся хиромантией: «Теорию нужно знать, конечно, но главное — практика и умение говорить. Если хочешь — я тебе дам летом несколько — не уроков, но мудрых наставлений из своего опыта. <…> А относительно знаков — это большая путаница. Единственное, что верно, — это планетные типы — их надо уметь различать и комбинировать. Но постепенно вырабатывается чувство человека — это главное» (ИРЛИ). Сохранился и образец гадания Волошина: описание руки В. И. Сурикова, сделанное им 3 января 1913 года (см.: Волошин М. Суриков. Л., 1985). 9 Речь здесь о Лидии Александровне Тамбурер (1870—ок. 1940) — зубном враче, друге семьи Цветаевых. Юлий Сергеевич — муж Л. А. Тамбурер. 10 Впоследствии М. Цветаева высоко оценила мемуары легендарного искателя приключений Джакомо Казановы (1725— 1798) и использовала их в своем творчестве, написав пьесы «Приключение» и «Феникс». 11 О «Трагическом зверинце» Л. Д. Зиновьевой-Аннибал см. в 36-м примечании к воспоминаниям М. Сабашниковой. «Аксель» — драма Огюста Вилье де Лиль-Адана (1838—1889), переведенная Волошиным. 12 Об этой мужской — и редакторской — требовательности писал Влас Дорошевич в фельетоне «Писательница» (см.: Дорошевич В. М. Собр. соч. Т. VII. Рассказы. М., 1906). 13 Цветаева вновь (см. с. 201) вспоминает заключительные строки своего стихотворения «Молитва» (1909). Финал «Молитвы» она сопоставляет со строками из стихотворения Е. И. Дмитриевой «Прялка». 14 Неточно: Дмитриева умерла 4 декабря 1928 года. Волошин узнал об этом 12 декабря того же года. 15 Из стихотворения М. Цветаевой «В чужой лагерь», вошедшего в «Вечерний альбом». 16 Неточно процитированное двустишие (у Волошина здесь не «осенью темной», а «осенью поздней»), посвященное в 1910 г. Л. П. Брюлловой (см. о ней в 8-м примечании к «Истории Черубины»). Под «третьей головой» в этом двустишии подразумевается Е. И. Дмитриева. 17 Неточно приведенные слова из стихотворения Волошина «Теперь я мертв. Я стал строками книги…» (1910). 18 Заглавие и первая строка приводимого здесь Цветаевой двустишия — ее вымысел; вторая строка — из стихотворения Волошина «Полынь», которое в его сборнике «Стихотворения. 1900—1910» напечатано с пропуском буквы «к» в слове «безкрылый» (по старой орфографии): Я свет потухших солнц, я слов застывший пламень, Незрячий и немой, безрылый, как и ты. 19 Строфы (с незначительными разночтениями) из стихотворения Волошина «Таиах» (1905). 20 4 декабря 1910 года Аделаида Герцык писала Волошину: «Я <…> день назад купила «Веч[ерний] альбом» и с умилением читала его всего подряд, испытывая свежесть весны. И не только полюбила Марину, но хочу непременно ее увидеть и с ней поговорить» (ИРЛИ). 21 В газетной публикации статьи Волошина «Женская поэзия» было напечатано: «Рядом с сивиллиными шепотами, шорохами степных трав и древними заплатками (следовало читать: «заплачками») Аделаиды Герцык… Марина Цветаева дает новый… облик женственности». 22 Речь о книге М. Цветаевой «Версты. Стихи» (М., 1921). 23 Зигфрид — герой древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах». 24 Елена Оттобальдовна была крестной матерью дочери Марины Цветаевой — Ариадны. 25 Отец Елены Оттобальдовны, О. А. Глазер, с 1859 по 1861 год служил в Калуге, куда был поселен сдавшийся в 1859 году в плен вождь горцев Дагестана и Чечни Шамиль (1799—1871). 26 Шестнадцати лет Елена Оттобальдовна окончила киевский Институт благородных девиц. Замуж она вышла только через два года, восемнадцати лет, в Житомире. 27 О «начале» мужского костюма Елены Оттобальдовны вспоминала ее мать, Н. Г. Глазер: «Когда она только что вышла замуж, то упросила Ал[ександра] Макс[имовича] сшить ей русскую рубашку и шаровары для гимнастики — ну, а потом и начала все время так бегать. Александр] Макс[имович], конечно, был этим недоволен» (запись М. А. Волошина, ок. 1898 года. — ИРЛИ. Назначение в Киев А. М. Киренко-Волошин получил в 1872 году. 28 Надя Кириенко-Волошина родилась 21 августа 1869 года. 29 Уйдя от мужа, Е. О. Волошина уехала не в Кишинев, а в Севастополь. 30 Упоминаемая М. Цветаевой «грандиозная мистификация» связана с появлением в Коктебеле в 1911 году незадачливого жениха-француза, о котором рассказывает Л. Фейнберг (см. в воспоминаниях Л. Фейнберга главу «Еще о «коктебельских сонетах» Макса», а также 2-е примечание к его воспоминаниям). 31 Кусок земли в Коктебеле приобрел для Волошиных П. П. Теш весной 1893 года. 32 Продолжив после переезда в Крым учебу в гимназии, Волошин поселился в Феодосии. Приезжать оттуда в Коктебель на велосипеде он мог лишь в теплое время года. 33 По-видимому, в этой легенде запечатлена фигура П. П. Теша (немца по происхождению). 34 Как гласит библейское предание, Иисус Навин, вождь израильский, чтобы успеть отомстить своим врагам, воззвал к богу и остановил солнце. 35 Цветаева перефразирует здесь слова Гамлета из первого акта трагедии Шекспира «Гамлет». 36 См. об этом в рассказе М. Волошина «Репинская история». 37 Письмо Волошина не сохранилось, но в это же время (12 ноября 1911 года) он писал своей матери: «Свадьба Марины и Сережи представляется мне лишь «эпизодом», и очень кратковременным. Но мне кажется, что это скорее хорошо для них, так как сразу сделает их обоих взрослыми. А это, мне кажется, им надо» (ИРЛИ). 38 Волошин был увлечен теорией французского физиолога Рене Кентона (1867—1925) о тождестве крови «живых существ» и морской воды (по химическому составу и т. п.). См. статью Волошина «Театр и сновидение» (журнал «Маски». 1912— 1913. № 5). 39 Волошин сам верил в такого рода случаи, так описывая один из них в письме к М. В. Сабашниковой (без даты, по контексту — 25 августа 1905 г.): «Я был очень в приподнятом и необычайном настроении. Мы сидели у Ан[ны] Руд[ольфовны]50*. Пришли Гриф51* и Чуйко. Я случайно подошел к кровати и дотронулся рукой до покрывала. И вдруг оно вспыхнуло и загорелось… Я только дотронулся рукой… Вблизи огня не было. Я быстро свернул покрывало и потушил. И сказал, что случайно уронил спичку, чтобы не испугать Чуйко… Они поверили, но не совсем. Ан[на] Руд[ольфовна] видела, как это было» (ИРЛИ) 40 «Профиль Пушкина» в обрыве Карадага фигурировал даже в путеводителях по Крыму и на дореволюционных открытках. Хотя и тогда один из авторов проявлял скептицизм, не видя никакого сходства «с лицом поэта» (Путеводитель Боссалини для Феодосии и окрестностей. Феодосия, 1914). 41 Этот эпизод отражен и в письме Цветаевой к Волошину от 1 апреля 1911 г., кончающемся словами: «Поклон Елене Оттобальдовне, руку подкинутым младенцем — Вам» (ИРЛИ) 42 23 октября 1917 года, поздравляя М. С. Цетлин с рождением дочери, Волошин писал: «Целый ряд девочек родился у моих друзей со времени русской Революции (вопреки тому правилу, что во время войны должны рождаться мальчики), точно женщины заторопились и теснятся в дверях будущего русского мира. Может быть, это подтверждение моей давнишней мысли, что спасение и будущий строй России будет в матриархате» (ДМВ). 43 Цветаева пишет здесь о разгроме «белого» Крыма. 44 «Входом в Аид» Волошин называл Ревущий грот в обрыве Карадага. 45 У Цветаевой слились воедино воспоминания о заходе на лодке в Ревущий грот (кончающийся тупиком) и проходе под аркой Золотых ворот, стоящих в море неподалеку (старое название — Шайтан-капу, «чертовы ворота»). 46 Большой поход — по-видимому, летом в Старый Крым. Там, «отбившись», можно было выйти к селам или хуторам колонистов — к Изюмовке, Болгарщине, Шах Мурзе или Салам. 47 По свидетельству Анастасии Ивановны Цветаевой, она с сестрой жила в 1911 году в доме Е. О. Волошиной, в двух комнатах первого этажа, удаленных от моря. 48 Кроме перечисленных, был еще Гайдан, от имени которого Волошин написал шуточный сонет. В этом сонете была выведена М. Цветаева — именно в роли «повелительницы псов» (см. в воспоминаниях Л. Фейнберга, с. 280). 49 «Последнее в Москву письмо Макса» не сохранилось. Как признавался Волошин матери, это было «отчаянное письмо о положении Герцык», в котором он просил «привести в Москве все в движение». М. Цветаева сообщала в письме Волошину от 20 ноября 1921 года, что в ноябре того года была в Кремле, где ей предложили изложить просьбу письменно, что она и сделала, упомянув о тяжелом положении А. Герцык, Волошина, С. Парнок. В тот же день она говорила с А. В. Луначарским. «…В итоге дошло до Луначарского, — пишет она Волошину, — пригласил меня в Кремль… Улыбаюсь, прежде чем осознаю! Упоительное Чувство: «en presence de quelqu'un»52* Ласковые глаза: «Вы о голодающих Крыма? Все сделаю!» Я, вдохновенным шипом: — «Вы очень добры!» — «Пишите, пишите, все сделаю!» Я, в упоении: «Вы ангельски добры!» — «Имена, адреса, в чем нуждаются, ничего не забудьте — и будьте спокойны, все будет сделано!» Я, беря его обе руки, самозабвенно: «Вы царственно добры!..» Люблю нежно. Говорила с ним в первый раз» (цит. по кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома за 1975 год. Л., 1977. С. 181, 183). 50 Мастерская с «летним кабинетом» и «вышкой» наверху была пристроена к дому Волошина в конце 1912 года (отделочные работы шли и в 1913 г.). Именно тогда дом сформировался в окончательном виде. Версия о том, что Волошин годами пристраивал к дому то комнату, то балкончик, является легендой. 51 В письме к матери, написанном утром 1 января 1914 года, Волошин рассказывал: «Милая мама, только что встретили Новый год — вполне по-обормотски — со всем ритуалом — то есть с пожаром. Слава Богу, все кончилось благополучно. Но расскажу по порядку. С утра солнце, мороз и сильнейший северный ветер. Я, по правде сказать, совсем не ждал никого. И уже смеркалось совсем, когда вдруг услыхал голос Сережи. Они приехали втроем — Марина, Ася, Сережа. Замерзшие, но радостные, с массой провизии и подарками от Канд[ауровых] и Евы53*. Теперь начинается история с печами. С утра регулятор дымил и не мог разогреться. Я велел, когда они приехали, растопить печь в твоей комнате <…> и так как она обыкновенно слегка дымила, то не обращал внимания на запах гари. Но этот запах почему-то все сосредотачивался в мастерской. Я все задыхался, проветривал. Мы долго сидели в столовой, затем к 12-ти перешли в мастерскую и встретили Новый год отвратительной бутылкой дамского шампанского, но очень дружно и радостно. Очень удивлялись, отчего весь дым тянет в мастерскую. Пошли сидеть в твою комнату, где было тепло и не дымно. Лили воск, гадали. Но от холода и дороги их развезло, и все были сонные. Мы уже собирались ложиться спать — Марина с Асей у тебя, Сережа у Таиах, я наверху. Как вдруг я заметил, что дым-то идет из-под моей унтермарковской печки. Что под ней уже давно тлеет, а может, и горит пол. Я бросился будить Василия. С его помощью мы взломали половицу, прорубили с другой стороны, и оказалось, что и балки, и пол, на которых стоит печка, уже сгорели, и, не будь черного пола с глиняным накатом, уже давно пылал бы весь дом. Здесь же обратились в уголь оба слоя дерева. Но балки (пола — потолка для нижн[его] этажа) не тронуты. И вот часа три мы возились, выгребали угли, взламывали половицы, заливали (очень трудно было — потому что все тепло под самой подпечкой, а раскрыть там — значило повалить ее). Оказалось, что ее от пола отделял, вместо фундамента, только один слой кирпича, и когда она накалялась, то давно уже начала прожигать балки, на которых стояла, а теперь, в первый же холодный день, когда я положил углю побольше (хотя она вовсе не пылала вовсю, а была круто прикручена), эти два слоя высохшего и промасленного дерева обратились в один раскаленный уголь. И не будь наката, то дом бы сгорел наверно — только глина предохранила от огня в подполье…» (ИРЛИ). 52 Цветаева имеет в виду сказку из сборника братьев Гримм «Белоснежка и Алоцветик», в которой добрый медведь превращается в прекрасного королевича. 53 Речь о стихотворении Волошина «Делос», во второй строфе которого названы: «Сизый Сирое, синий Парос, Мирто, Наксос и Микон». Делос (или Микро-Делос) — остров в Эгейском море, по преданию, родина Феба — бога, покровительствующего искусству. Сирое, Парос, Мирто (Мирт), Наксос, Микон (Миконос) — острова в Эгейском море. 54 Строки из стихотворения М. Цветаевой «Сон» (1920) 55 Цитаты из книги М. Папер «Парус. Стихи 1907—1909» (М., 1911). Эта книга сохранилась в библиотек Волошина (с пометами его самого и М. Цветаевой). Волошин отрецензировал книжку М. Папер в статье «О модных позах и трафаретах…» (газета «Утро России». 1911. 3 февраля). 56 Строки из шведской колыбельной песенки, переведенной Волошиным в 1901 году на Майорке. Героиня его — королева Бланка (не Бианка), жена Магнуса VI Эриксона, короля Швеции и Норвегии с 1319 года. Впервые полный текст песенки опубликован в журнале «Север» (1982. № 5. С. 106). 57 По старой орфографии различались написания слов «мир» как лад, согласие, отсутствие войны и «мiр» — вселенная, земля со всем существующим на ней. 58 21 июня 1905 года Волошин записал в дневнике: «Каким бы я мог быть великолепным французом. В конце концов, единственное, что соединяет меня с Россией, — это Достоевский» (ИРЛИ) 59 Отношение Волошина к Эйфелевой башне впоследствии по-видимому, переменилось. M. С. Волошина рассказывала (со слов мужа), что ему довелось встретиться с создателем башни — инженером А. Г. Эйфелем (1832—1923) на банкете в честь скульптора Э. Виттига: «Их представили друг другу. И Макс, разговаривая с ним, сказал ему, что он сначала был против его башни, но потом она стала такой неотъемлемой частью Парижа, и что Макс не раз ее упоминает в стихах» (Волошина М. С Макс в вещах (рукопись). — ДМВ). В плане лекции «Видимый мир и живопись» Волошин дал такое определение: «Изобразительность и инженерность. Смешение: вокзалы, Эйфелева башня» (ИРЛИ). 60 «Золото в лазури» — первая книга стихов А. Белого (М., 1904). 61 Неточно приведенные слова песни (текст Вильмера (псевдоним Жермена Жирара) и Анри Назе), ставшей народной после франко-прусской войны. 62 Думается, здесь Цветаева ошибается: будучи бесконечно влюбленной в Германию («моя страсть, моя родина»), она увидела в эллинстве Волошина «гётеянство», а затем и германизм. Возможно, что его аккуратность, «культура книги», страсть к природе и т. д. объясняются его немецкой кровью (хотя все эти качества могут быть и у человека любой другой национальности). Однако нельзя сбрасывать со счета и неизменное отталкивание Волошина от «германского духа». В одном из вариантов автобиографии он писал: «Со стороны матери есть немецкая кровь (врачи и инженеры, обрусевшие с XVII века). Никакого признака латинской крови, между тем как я всегда чувствовал близость только к латинским культурам (Франция, Италия, Испания), языкам латинского корня и полную чуждость к Германии, ее языку и культуре» (в кн.: Ежов И. С. и Шамурин и Е. И. Русская поэзия XX века. Антология. М., 1925. С. 568). О том же свидетельствуют и письма Волошина. Впервые попав в Берлин, он пишет А. М. Петровой (9 января 1900 г.): «О, эти немцы! как они скучны!.. Я даже в русском провинциальном обществе не встречал такой отчаянной косности, таких невылазных болот предрассудков…» (ИРЛИ). 9 сентября 1905 года Волошин так ответил на призыв М. В. Сабашниковой поступить в немецкий университет: «Идти к кому-то на выучку — и еще к немцам <…> — этого я не сделаю» (ИРЛИ). 63 Цитируется первая строка стихотворения А. Ахматовой без названия (1915). 64 Цветаева имеет в виду «Историю французской революции» А. Тьера (1797—1877). Однако осенью 1917 года Волошин штудировал «Происхождение современной Франции» Ипполита Тэна (1828—1893). 15 ноября 1917 года он писал Ю. Л. Оболенской по поводу этой работы: «Если у Вас есть, раскройте последние главы «Якобинского захвата», где речь идет об августе 1792 года… Аналогии потрясающие… Психология действующих лиц, характер событий — все совершенно тождественно…» (ДМВ). 65 Е. О. Волошина умерла 8 января 1923 года. 66 Персональная пожизненная пенсия (в 225 рублей) была назначена Волошину в ноябре 1931 года (газета «За коммунистическое просвещение», М., 1931, № 271, 2 ноября). 67 Сообщения о смерти Волошина появились в «Известиях» (1932, 14 августа), в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» (1932, 16 августа), в «Литературной газете» (1932, 17 августа). 68 Максимилиан Волошин, по его завещанию, похоронен на горе Кучук-Енишары. 69 Стихотворение «Матрос» («Широколиц, скуласт, угрюм…») написано 14 июня 1919 года. Было опубликовано с сокращениями в журнале «На посту», 1924, № 1 (5).
|
||||||
| © 2006 | Cedits | Contacts | Report an error |
 шаг назад
шаг назад предыдущая
предыдущая содержание
содержание вниз
вниз печатать
печатать следующая
следующая вверх
вверх