| СТИХИ | СТАТЬИ | ПЕРЕВОДЫ | ПИСЬМА | АВТОБИОГРАФИИ | ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ |
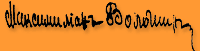
| ЖИВОПИСЬ | ВОСПОМИНАНИЯ | ФОТОЛЕТОПИСЬ | БИБЛИОГРАФИЯ | КАТАЛОГИ | СЛОВНИК |
|
Эмилий МиндлинИЗ КНИГИ «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЕСЕДНИКИ»— Вы едете в Феодосию? Значит, в Коктебель! Вот там и познакомьтесь с Волошиным, — сказал мне поэт-футурист Вадим Баян1* в Александровске, будущем Запорожье, в августе 1919 года. Украина, стало быть, и Александровск были заняты белыми. Я рвался в Москву. Путь туда был только один — через белогвардейский Крым и меньшевистскую Грузию — неверный и трудный. Нужны были деньги — много денег. У меня не было ничего. Но мой приятель Петька Рощин, племянник хлеботорговца, чьи пароходы плавали между Феодосией и Батумом, взялся устроить меня на пароход своего богатого дяди. А в девятнадцать лет чему не поверишь! Мне было девятнадцать лет, и я двинулся в Феодосию. Ожидание жизни окончилось. Начиналась жизнь. На пароход Петька Рощин меня не устроил. И на два года я застрял в Феодосии — до дня, когда Красная Армия освободила Крым. Вот эти-то два года и были временем моих частых встреч с Максимилианом Волошиным. Первое «видение» Волошина ошеломило меня. На солнечной площади Феодосии между старинной генуэзской башней и кафе «Фонтанчик» я увидел неправдоподобно рыжебородого человека. Легкой поступью плясуна и с достоинством посла великой державы он нес тяжесть огромной плоти. Серый бархатный берет, оттянутый к затылку, усмирял длинные своенравные волосы — пепельно-рыжеватые. На нем был костюм серого бархата — куртка с отложным воротником и короткие, до колен, штаны — испанский гранд в пенсне русского земского врача, с головой древнего грека с голыми коричневыми икрами бакинского грузчика и в сандалиях на босу ногу. Он был необыкновенен на площади, забитой деникинскими офицерши, греческими и итальянскими матросами, суетливыми спекулянтами, испуганными беженцами с севера, медлительными турками с фелюг и смуглыми феодосийскими барышнями! Он был так удивителен в этой толпе, что я сразу понял: вот это и есть знаменитый Максимилиан Волошин! Никого, кроме меня, не привлекло его появление. Местным жителям — феодосийцам — он был хорошо знаком. Деникинцы были либо пьяны, либо озабочены ухаживанием за дамами. Спекулянты в излюбленном ими кафе «Фонтанчик» посреди площади — слишком заняты куплей-продажей. И никому не было дела до длинноволосого поэта с голыми икрами в светлом бархатном костюме испанского гранда. И только я один стоял и смотрел ему вслед. И потом, когда он исчез, а меня совсем затолкали, я ушел в тень генуэзской башни и все еще мысленно говорил себе: «Так вот он каков, этот Максимилиан Волошин!» Я еще не был знаком с ним, когда увидел его в подвале «Флака». «Флак» — сокращенное название Феодосийского литературно-артистического кружка. В августе вышел первый номер альманаха «Флак» — 16 страниц тонкой розовой бумаги! В этом шуршащем розовом альманахе — стихи Волошина, Мандельштама, Цветаевой, рассказ Вересаева и произведения нескольких местных поэтов. Я тут же послал в альманах и свои стихи. Их, увы, напечатали — и однажды вечером по крутой каменной лесенке я впервые спустился в подвал поэтов. Ни Волошина, ни Мандельштама в подвале я не застал. Встретил меня полковник-поэт Цыгальский2*. В Петрограде он где-то преподавал, читал публичные лекции о Ницше и Максе Штирнере, к деникинцам относился иронически, писал ужасающие стихи и отлично знал германскую философию. Жил он с больной сестрой. В его комнате на шкафу неподвижно сидел живой орел. Крылья орла были подрезаны, летать он не мог и лишь изредка поворачивал голову. В книге «Шум времени» Осип Мандельштам, с которым позднее я не раз бывал у Цыгальского, описал этого полковника-поэта, философа, добродушного человека, завсегдатая «Флака». Два сводчатых зала вмещали небольшое кафе поэтов. Третий зал — маленький, с окошком на кухню — служебный. На кухне готовили отличный кофе по-турецки и мидии (ракушки вроде устриц) с ячневой кашей. Спиртных напитков да и вообще ничего, помимо кофе и мидий, во «Флаке» не подавалось. Художники покрыли сводчатые стены и потолки персидскими миниатюрами. В глубине большого зала воздвигли крошечную эстраду и расставили перед ней столики. Настоящим ноевым ковчегом было это кафе. Кто только здесь не бывал! Белогвардейцы, шпионы, иностранцы, артисты, музыканты. Какие-то московские, киевские, петроградские куплетисты, поэты, оперные певцы, превосходная пианистка Лифшиц-Турина, известный скрипач солист оркестра Большого театра Борис Осипович Сибор3* и певичка Анна Степовая, известные и неизвестные журналисты, спекулянты и люди, впоследствии оказавшиеся подпольщиками-коммунистами. Бывал здесь и будущий первый председатель Феодосийского ревкома Жеребин, и будущий член ревкома Звонарев, писавший стихи. С ними я подружился еще в обстановке белогвардейского Крыма. Бывали и выдающийся русский художник К. Ф. Богаевский, и пейзажист-импрессионист Мильман, большую часть жизни проживший в Париже, и феодосиец Мазес4*, расписавший подвал персидскими миниатюрами. Мандельштам называл его Мазеса да Винчи. <…> Частым гостем «Флака» был также профессор Галабутский5*. Он читал во «Флаке» лекцию «Чехов — Чайковский — Левитан» и постоянно рассуждал о сумерках души русской интеллигенции. При разгроме белых он не бежал, остался работать с советской властью и читал лекции в Феодосийском народном университете. Бывали во «Флаке» и будущий редактор «Известий Феодосийского ревкома» Даян6*, и артист А. М. Самарин-Волжский, которого много лет спустя я встречал в Москве (в тридцатые годы он работал в московском Доме актера), и ныне известный литературовед, а тогда поэт Д. Д. Благой, и одессит Вениамин Бабаджан — талантливый поэт и художник, исследователь Сезанна, руководивший в Одессе издательством «Омфалос». Так случилось, что я был последним, кто его видел и беседовал с ним. Он принес мне с трогательной надписью сохранившуюся у меня и поныне свою книгу «Сезанн». Много позднее хорошо его знавший Валентин Катаев рассказывал, что сестра Бабаджана разыскивает меня, чтобы порасспросить о моих встречах с погибшим братом. Но почему-то, несмотря на старания Катаева, встреча моя с ней не состоялась. Появлялись во «Флаке», когда приезжали в Феодосию из соседнего Судака, поэтессы Аделаида Герцык, и Софья Парнок, и Анастасия Цветаева, родная сестра Марины Цветаевой. Она всегда привозила с собой стихи Марины и читала их нам. Бывали в кафе и какие-то странные девушки, похожие на блудливых монашек. Странные эти девушки сходили с ума от стихов, были очень религиозны, много говорили о христианстве, вели себя, как язычницы, читали блаженного Августина, часто покушались на самоубийство и охотно позволяли спасать себя. Со всеми дружила и всегда оставалась сама собой маленькая, изящная Майя Кудашева, впоследствии ставшая женой Ромена Роллана. В известном до революции сборнике «Центрифуга» помещены ее стихи, подписанные «Мари Кювелье»1. Писала она по-русски и по-французски. Незадолго до приезда в Феодосию она потеряла своего молодого мужа князя Кудашева и жила с матерью-француженкой и малолетним сынишкой Сережей. Для своей бабушки, для матери, ее добрых друзей в те годы он был «Дудукой» — смешным трехлетним бутузом, даже не подозревавшим, что настоящее его имя — Сергей. Из Дудуки вырос серьезно мыслящий молодой человек. Когда его мать уехала к своему мужу Ромену Роллану в Швейцарию, Сережа остался в СССР. Но о дружбе с Роменом Ролланом и об уважении, с которым знаменитый писатель относился к Сереже (они переписывались), нам рассказали письма Ромена Роллана к Сергею Кудашеву, опубликованные в 1966 году в газете «Комсомольская правда». К Этому времени Сергей Кудашев был уже давно мертв — он погиб в годы Великой Отечественной войны на фронте. В феодосийской жизни он был еще маленький Дудука Кудашев, а его мать подписывала стихи «Мария Кудашева». Мы все звали ее запросто Майей. Майя — давнишний друг Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина и добрая знакомая очень многих известных писателей. У Волошина есть стихи, посвященные Майе: Над головою подымая
Он дружески относился к Майе, но любил и подтрунивать над нею, и они нередко ссорились. Как-то мы с нею пешком из Феодосии пришли в Коктебель. Я сидел у нее в комнате, когда дверь распахнулась и вошел Волошин — в лиловом хитоне, выцветшем на солнце, с обнаженными руками и ногами. — Я так и подумал, что ты опять в Коктебеле, — сказал он, смеясь глазами. — Мне сообщили, что сегодня опять какая-то девица хотела покончить с собой. Я и подумал: уж не ты ли спасла ее? — Макс, сию же минуту уйди. Волошин, все так же смеясь серыми мерцающими глазами, послушно вышел из комнаты… Волошин заходил во «Флак» каждый раз, когда прибывал из своего Коктебеля в Феодосию. Он читал в подвале стихи, получал за это ужин и деньги. В этом «ноевом ковчеге» и родился альманах поэтов «Ковчег», который одессит Александр Соколовский и я издали в 1920 году. Александр Саулович Соколовский был года на три старше меня и появился в Феодосии на несколько месяцев позднее, чем я. Приехал он из Одессы вместе с родителями. Отец его — ученый-экономист — был заместителем министра торговли в правительстве гетмана Скоропадского. Во «Флаке» старик Соколовский, елейно седобородый, выступал с какими-то лекциями. С Александром мы сошлись относительно близко, как самые молодые в литературном обществе «Флака», возглавленном Максимилианом Волошиным. В Одессе Александр учился на медицинском факультете Новороссийского университета, но закончить его не успел — писал и уже печатал стихи2, был поклонником Ронсара и «брюсовианцем». Феодосийцев он потешал очень забавными рыжими бачками, демонстративно «под Пушкина», стихи читал нараспев, любил нравоучить и щеголял хорошим знанием французской поэзии. От него впервые я узнал об одесских поэтах и писателях, впоследствии широко прославившихся, — об Эдуарде Багрицком, Валентине Катаеве, Леониде Гроссмане и других. Избалованное дитя богатых родителей, он был для своих лет хорошо образован, неглуп, но так манерничал и кривлялся, что всякое его выступление во «Флаке» вызывало насмешливые улыбки слушателей. Не помню, кто из нас предложил назвать наш альманах «Ковчег». Мысль о двусмысленности этого названия пришла в голову не нам, а редакции петроградской черносотенной газеты «Вечернее время», принадлежавшей Борису Суворину. Издавалась эта газета в ту пору уже не в Петрограде, откуда Суворины бежали, а в Феодосии. Тут была у них своя дача. «Вечернее время» писала, что, в отличие от библейского ковчега, в «Ковчеге» феодосийских поэтов собрались одни нечистые. Верно, что в альманахе было немало плохих стихов (в том числе и моих). Но были и очень хорошие: Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Ильи Эренбурга, Софьи Парнок, стихи Эдуарда Багрицкого, которые Соколовский привез из Одессы. Видимо, это первый случай напечатания Багрицкого за пределами его родного города. Мы напечатали также стихи одесситов Вениамина Бабаджана, Анатолия Фиолетова и Елены Кранцфельд, стихи тогда уже небезызвестного на юге России Георгия Шенгели, и Майи Кудашевой, и некоторых других поэтов, дружески связанных с Коктебелем. У меня хранится один-единственный экземпляр этого крошечного альманаха поэтов в 64 страницы, изданного в количестве всего… 100 экземпляров! Объявление в газете «Крымская мысль» гласило, что в продажу поступит только… 50 нумерованных экземпляров по 150 рублей за экземпляр. Остальные 50 экземпляров были распределены между участниками альманаха взамен гонорара и также распроданы через книжный магазин Ничепровецкой На Итальянской улице. Откуда мы взяли деньги на Издание? Группа поэтов во главе с Осипом Мандельштамом устроила во «Флаке» вечер «Богема»3. В нем участвовали все лучшие силы, собравшиеся тогда в Феодосии,– Волошин, Мандельштам, скрипач Борис Сибор, пианистка Лифшиц-Турина. После этого «Крымская мысль» опубликовала письмо, подписанное Осипом Мандельштамом, Бабаджаном, Полуэктовой7* и другими. Поэты «Флака» поручили Э. Миндлину и А. Соколовскому на вырученные с вечера 13 718 рублей издать литературно-художественный альманах. На эти-то деньги мы с Соколовским и выпустили феодосийский «Ковчег». Машинок для перепечатки у нас не было — наборщики набирали с рукописей. Многие из рукописей были малоразборчивы. Почерк Эренбурга оказался особенно недоступен наборщикам. Эренбург, увидев, как перевраны его стихи в альманахе, за голову схватился и стал ожесточенно исправлять чернильным карандашом ошибки. Увы, он сумел это сделать только в моем экземпляре, и поныне хранящем на титульном листе автографы участников альманаха — Эренбурга, Волошина, Мандельштама, Цветаевой и других. Все остальные экземпляры, пущенные в продажу, так и разошлись, набитые опечатками. На этом издательская деятельность «Феодосийской группы поэтов» закончилась. Соколовский с родителями в дни разгрома Врангеля бежал за границу. «Флак» закрылся еще до освобождения Крыма. Во «Флаке» я и познакомился с Максимилианом Волошиным. Он был в черном пальто поверх костюма с брюками до колен и в толстых чулках, в синем берете. Это произошло днем в полутемном подвале, когда столики были сдвинуты в сторону, а в части подвала, свободной от столиков, собрались «свои» — поэты, художники, и среди них Мандельштам. — Ну, разумеется! Мандельштам нелеп, как настоящий поэт! Это была первая услышанная мною фраза Волошина, с которой он спустился в подвал. Он произнес ее в присутствии тотчас вскинувшего голову Осипа Мандельштама. Оказалось, Волошин не дождался Мандельштама в условленном месте и хорошо, что догадался зайти в подвал. Фразу о нелепости Мандельштама, как настоящего (иногда говорилось «подлинного») поэта, я слышал от Волошина много раз, так же как и то, что «подлинный поэт непременно нелеп, не может не быть нелеп!». Сам Максимилиан Александрович Волошин был поэт подлинный, очень большого таланта, огромной поэтической культуры, глубоких и обширных знаний, четких пристрастий и антипатий в искусстве. Но вот уже в ком не было ничего «нелепого»! И это несмотря на все своеобразие его внешности, на вызывающую экстравагантность наряда, на всегдашнюю неожиданность его высказываний и поступков. Нелепость предполагает необдуманность, несоразмерность, нерасчетливость. В Максимилиане Волошине было много необычного, иногда ошеломляющего, но все обдумано и вот именно лепо! Лепой была и его склонность эпатировать — поражать, удивлять. «Пур эпате ле буржуа»8* было выражением, которое в его устах звучало почти программно. Он готов был собственными руками рушить созданные буржуа дурного вкуса произведения искусства. Но дальше эпатации буржуа его буйство в искусстве не шло. <…> Мандельштам уверял, что и «христианство» Максимилиана Волошина будто бы тоже от его всегдашней потребности эпатировать. Мол, Волошину в себе самом нравится то, что он — христианин, он вообще нравится самому себе. «Хорошо быть Максимилианом Волошиным мне…» Но увлечение христианской философией у Волошина возникло задолго до того, как это увлечение могло бы эпатировать среду, в которой Волошин вращался, — до революции. Это увлечение отнюдь не шло против течения в среде, близкой Волошину. Но что этот эрудит, христианин-философ всерьез относился к отнюдь не христианским приметам и верил в их действенность так же сосредоточенно, как и в постулаты христианства, — я убедился однажды на опыте. Он встретил меня на верхней улице в Феодосии и, увидев, что я иду навстречу ему с двумя ведрами, наполненными водой, весь как-то сразу от удовольствия просветлел. Воду для дома мы набирали тогда с уличной водопроводной колонки. Я смутился, представ перед Волошиным водоносом. Но Волошин был чуть ли не благодарен мне. Он принялся объяснять, что встреча с несущим полные ведра — проверенная примета и сулит удачу в делах. Когда, неуверенный, не разыгрывает ли меня Волошин, я отпустил какую-то шутку насчет суеверий, Волошин назидательно и очень серьезно предостерег от пренебрежения к «разуму недоступным вещам». Приметы для него были явлениями непознаваемого, «недоступного разуму мира»… Волошин любил не только эпатировать. Он был прирожденным мистификатором. <…> Черубина де Габриак — наибольшая и самая известная из мистификаций Волошина. Но и в мое время в Коктебеле не прекращались малые мистификации. Уже при мне Волошин однажды так разыграл Эренбурга4, что недавние друзья рассорились навсегда. Если верить Осипу Мандельштаму, то и вера в приметы была вызвана у Волошина потребностью мистифицировать собеседников, эпатировать их… Он, разумеется, эпатировал и тех многочисленных дачников, что попадали до революции в Коктебель. Привлекали дачников главным образом слухи о чудаках-поэтах в этом тишайшем уголке Восточного Крыма. Коктебель — деревушка под Феодосией. Болгары называли ее Кохтебели. Кажется, в переводе это означает «страна синих гор». Деревушка протянулась, далеко отступая от берега, а несколько дач — Юнге, Дейши-Сионицкой (известной когда-то певицы), Максимилиана Волошина — у самого моря. Чуть подале — дача Григория Петрова, некогда гремевшего на всю Россию священника-расстриги, члена Государственной думы, талантливого публициста и лектора. Во время первой мировой войны его статьи в газете «Русское слово» пользовались невероятным успехом. Помню вопли газетчиков на улицах города: «Русское слово»! Статья Петрова!» Петров уехал из Коктебеля еще до окончательного разгрома Врангеля. Одно время он выступал с лекциями в Болгарии. Викентий Викентьевич Вересаев жил на своей даче у шоссе на отлете. Поэтому дачу его грабили чаще всех прочих дач. Бывали и живали в Коктебеле и другие писатели и поэты. В мое время жила там очень известная когда-то, а ныне почти забытая поэтесса Поликсена Сергеевна Соловьева-Аллегро. В юные мои годы не бывало ни единой хрестоматии без стихотворений Соловьевой-Аллегро. Любой гимназист или гимназистка помнили ее имя, — заучивать стихи Соловьевой-Аллегро задавали нам на дом. Обитателями Коктебеля бывали в разные времена знаменитые и вовсе не знаменитые художники и актеры. Но более всех любили его поэты. Однако, кто бы ни жил здесь, крошечный, тихий и нисколько не похожий на нынешний «курорт» Коктебель был известен прежде всего как местожительство чудака-поэта Максимилиана Волошина. Он прожил здесь много лет — большую часть своей жизни, кажется, четыре десятилетия с конца прошлого века. Волошин и Коктебель стали неотделимы один от другого. Волошин всерьез говорил, что сама природа запечатлела его образ на скалах Карадага. Каждый, кто вглядывался в очертания нависшего над морем Карадага, неизменно видел в этих очертаниях профиль Волошина. Поэт принимал это сходство как нечто закономерное, такое, чего не могло не быть. Он писал о своем Коктебеле: И на скале, замкнувшей зыбь залива,
<…> Коктебель был делом всей его творческой жизни. Дача Волошина стояла и по сей день стоит почти у самого берега. Она напоминает корабль, и легкие деревянные галерейки, опоясывающие ее второй этаж, как и во дни жизни Волошина, еще называются «палубами». Дача — легкий, перепончатокрылый кораблик на суше, легкокрылое Одиссеево суденышко на приколе. Того и гляди — отчалит и заскользит, подгоняемое соленым ветром, по синей зелени волн Срединного моря — Маре интернум (Mare internum) — на запад солнца, куда-нибудь к знакомым островам Балеарским, исхоженным корабельщиком Максимилианом в его молодые годы. И дальше — к геркулесовым столбам Гибралтара, за которыми кончается мир. Он мал, прост, прекрасен и ясен, этот эллинский, легкий мир коктебельского корабельщика. Чуть подале от берега — дом, строенный матерью Максимилиана Волошина. В строительство этого дома поэт не вмешивался: мать строила, как ей нравилось. Позднее он упрекал ее, мол, придумала дом неудачно: вся середина его пропадала без толку из-за ненадобно большого проема лестничной клетки. Обычно в этом доме селились приезжавшие на лето из Москвы и Петербурга поэты. Одна из комнат надолго сохранила название «гумилевской» — в ней останавливался Николай Гумилев. <…> Волошин не походил на свою мать — невысокую, сухую, с острым птичьим лицом, с короткими, полными седины волосами, в черном казакине из легкой материи и в свободных из той же материи шароварах. В литературной колонии Коктебеля в ту пору в шароварах ходили все старые женщины. Когда Поликсена Сергеевна Соловьева-Аллегро поздно вечером принесла мне в неосвещенный дом стихи для нашего альманаха «Ковчег», я принял ее за мужчину. Они походили на старых татарок — эти коктебельские седеющие женщины в черных, раздувающихся на ветру шароварах. Пра с ее посохом и гортанным голосом — ни дать ни взять татарская ворожея. Да кабы не безукоризненный французский язык и тонкое знание поэзии — русской, персидской, французской, античной, — чем не татарка! <…> Как-то я сидел с нею вдвоем <…> на верхней «палубе» у входа в мастерскую поэта и художника. Он с матерью жил во втором этаже дачи-корабля. Пра спросила, читал ли я уже «Двенадцать» Блока. В белогвардейский Крым поэма пришла с опозданием — ее только что издали в Симферополе. В Коктебеле и в Феодосии по рукам ходили два или три экземпляра поэмы. Мне удалось едва только перелистать крохотную книжечку — владелец ее дал мне книжечку подержать в руках не больше минуты. — Да зачем же вы позволили ему отобрать ее? Вы знаете, что это такое? Это произведение ге-ни-альное! Ге-ни-альное! Эта поэма — великая. Слышите, что я говорю вам? Вели-икая поэма. Мы с Максом читаем и перечитываем ее! И вдруг жестким гортанным голосом принялась наизусть читать блоковские «Двенадцать». В манере ее читать было нечто сходное с манерой чтения сына: она твердо подчеркивала согласные, не скандировала, не пела — ковала строку. <…> Как-то на улице в Феодосии Волошин остановил меня со словами: — Только что одна очень хорошенькая девушка спрашивала, не видел ли я вас сегодня. Лукаво улыбаясь, он назвал имя девушки, которая впоследствии стала моей первой женой. Он был знаком с ее семьей старых феодосийцев, бывал у них дома. Девушка эта одно время жила в Отузах, в виноградной долине у моря за Карадагом, верстах в тридцати от Феодосии. Я ходил к ней пешком из города. Коктебель лежал почти на середине пути. <…> По пути в Отузы я обыкновенно ночевал у Волошина. На второй этаж дачи-корабля, где он жил, вела крутая, в два марша наружная лестница. По ней из палисадника перед дачей поднимались на балкон, а с балкона был ход в переднюю. В передней налево вход к Пра, направо к Максимилиану Александровичу. Его половина была двухъярусной. В нижней части — мастерская в форме урезанного с одной стороны овала. Закругленная часть — нос корабля! — выходила прямо на море. Запах моря и солнца, звон гальки, нередко шум волн наполняли мастерскую поэта и художника. У закругленной застекленной стены стоял большой некрашеный стол. Здесь Волошин обычно писал свои акварели. Море шумело за его спиной. В противоположном конце мастерской под широкими антресолями, на которые поднимались по очень узкой лесенке, Волошин устраивал на ночлег гостей. Я ночевал у него много раз, но соседей у меня никогда не случалось. Всегда в этом двухместном углу под гипсовым бюстом древнеегипетской царевны Таиах я бывал один. Иногда Волошин отводил мне для ночлега какую-нибудь пустовавшую комнату — «каюту» своего корабля. Однако чаще всего я ночевал в его мастерской. Максимилиан Александрович укладывался обычно на антресолях — там стояла его тахта. Это был удивительный странноприимный угол, как все было удивительным в этом корабельном доме поэта. Две лежанки, мягкие, покрытые каждая зеленым бархатным покрывалом, были разделены узким проходом. В глубине прохода у изголовья возвышался большой белый гипсовый бюст царевны — богини Таиах. <…> Он охотно и много, часто до глубокой ночи, читал стихи. Чаще чужие, нежели свои. Читал не так, как было принято у большинства молодых. Ничто в его чтении не напоминало манеру чтения Мандельштама — манеру, которой, кстати сказать, мы, молодые, изо всех сил подражали. Он не скандировал. Слово в его чтении было осязаемо, как скульптура, четко, как вырезанное гравером на меди. Это было скульптурное и живописное, а не музыкальное чтение. Он в той же манере читал и по-французски. Пожалуй, в манере читать стихи русских поэтов, в том числе и свои, он шел от французов. В Феодосии он останавливался в доме художника Латри, внука Айвазовского. Когда-то это был дом Айвазовского, и картинная галерея знаменитого мариниста примыкала к дому. Как-то я пришел к Волошину в этот дом. Он усадил меня за стол, на котором лежали кипы книг. Я машинально потянулся к одной из них, раскрыл — и вздрогнул. Это было первое издание «Вечерних огней» Фета с дарственной надписью: Фет — Айвазовскому! Волошин читал мне стихи Гюго по-французски. Читал много и потом долго говорил, как это нелепо, что в России знают главным образом Гюго-романиста, в то время как Гюго-поэт еще выше, еще значительней, чем Гюго-романист. Его переводов Гюго не помню. Не знаю, переводил ли Волошин Гюго6. Но волошинские переводы Верхарна, несомненно, лучшие переводы Верхарна на русский язык. Он поистине сумел на время стать Эмилем Верхарном, не переставая оставаться Волошиным: В равнинах Ужаса, на север обращенных,
Как бы рано я ни просыпался, заночевав у Волошина, — проснувшись, я заставал его бодрствующим. Он либо наверху, на антресолях, уже возился с книгами и, перегнувшись через перила, говорил: «С добрым утром», либо сидел внизу за столом и писал свои акварели. Он писал их много, с увлечением, вдохновенно и с таким же мастерством, с каким писал стихи. В последние годы небольшие выставки его акварелей изредка открывались в Москве, вызывали большой интерес и множили ряды его почитателей. В сущности, почти все они об одном и том же — о мудрости и красоте близкой ему киммерийской земли и неба над ней. Такого малого куска земли и такого малого участка неба над ней! Но в этих малых кусках земли и неба зоркий поэт и художник видел неисчерпаемые миры! В какой-то мере эти несколько условные, с графической четкостью выписанные пейзажи, в которых камни дышат и облака поют, сродни полуфантастическим пейзажам известного художника Богаевского, чьи работы давно уже нашли место в залах Третьяковской галереи. Константин Федорович Богаевский, друг Максимилиана Волошина, жил и работал в Феодосии очень давно и близко дружил с Волошиным, был с ним на «ты». Богаевскому некогда был посвящен специальный номер «Аполлона» — с репродукциями его картин и превосходной статьей о нем, написанной Максимилианом Волошиным. С Богаевским в Феодосии я мало встречался, вероятно, не более десятка раз. Помню уже седеющего красивого мужчину в элегантном сером костюме с галстуком-бабочкой, всегда милостивого к нам, молодым. После освобождения Крыма он много помогал нам в собирании и сохранении произведений искусства и старины. Отношения Волошина и Богаевского были трогательно дружественны. Какая-то взаимная нежность в их обращении друг к другу сочеталась с таким же взаимным глубоким уважением. Словно каждый считал другого своим учителем. Волошин охотно раздаривал свои акварели, но, бывало, и продавал их. Покупали у него даже приезжавшие в Феодосию иностранцы. Какая-то геологическая партия работала в районе Коктебеля. Геологи познакомились с Волошиным и стали бывать у него. Увидев его коктебельские пейзажи, писанные его кистью поэмы камней, скал, излогов, размывов почвы, геологи радостно переглянулись. Они нашли, что условный акварельный пейзаж Волошина дает более точное и правдивое представление о характере геологического строения района, нежели фотография! Они заказали ему целую серию акварелей. Ни одна из них не являлась изображением какого-либо определенного уголка. Но каждая с необычайной поэтической точностью передавала общий характер пейзажа — даже строения почвы! Это был какой-то доведенный до предельной поэтической выразительности условно-обобщенный пейзаж. Волошин с гордостью говорил о заказе геологов. В их научном интересе к его акварелям он видел подтверждение давнишней своей веры в искусство как в самую точную и верную меру вещей. Переночевав у Волошина, я отправлялся в дальнейший путь — в долину Отузы. Из Коктебеля дорога шла по горам, и Волошин обычно давал мне одну из своих горных палок. На обратном пути я возвращал ему эту палку. В Отузах, неподалеку от дачи, где жила моя будущая жена, стояла дача скрипача Бориса Осиповича Сибора. Сибор часто бывал в подвале «Флака», дружил со всеми нами и всегда радушно принимал нас на своей даче. Дача называлась «Надежда». Увы, ее название не оправдало надежд симпатичных ее владельцев. В одну из ночевок у Волошина я услышал ужасную новость: дочь Сибора искусана бешеной собакой. Прививку сделали с большим опозданием — девочку пришлось везти из Отуз в Феодосию, а не так-то просто в ту пору было найти лошадей в Отузах. Когда я зашел к Сиборам на их дачу, я не узнал ни Бориса Осиповича, ни его жены. А ведь мы виделись незадолго до этого. Оба они улыбались мне своими всегдашними светлыми и приветливыми улыбками. Но выражения глаз их были очень несчастны. Я не знал, что говорить, мысленно клял себя за то, что зашел к ним в такой момент. Девочка умирала в соседней комнате. Но, как ни удивительно, они обрадовались моему приходу, не отпускали, расспрашивали о феодосийских поэтах, о Волошине, о моих планах. Сибор спустился в виноградник и нарезал для меня винограду. Ни словом они не обмолвились о своем горе. А я так и не решался спросить о девочке. В Коктебеле я рассказал Волошину о Сиборах. Волошин заставил меня повторить каждое слово Сибора и, когда я передал все, что мог, о своем визите на дачу «Надежда», сказал: — Да, он такой. Ведь вы знаете, когда-то он играл на своей скрипке Льву Толстому в Ясной Поляне. — Знаю. — И Анатолю Франсу в Париже, — добавил Волошин так, будто существовала неразрывная связь между тем, что Сибор играл Толстому и Франсу, и тем, как он вел себя в часы трагического умирания своей дочери. Через несколько дней девочка умерла8. Умирала она мучительно долго. Много часов подряд (говорили даже, что целые сутки) Сибор не отходил от нее, обливаясь слезами, играл и играл на своей скрипке, стараясь музыкой облегчить страдания девочки. Она скончалась под звуки скрипки отца. <…> На обратном пути из Отуз я неизменно заходил к Максимилиану Волошину и, если было поздно, оставался у него ночевать, иногда гостевал по нескольку дней, а чаще всего, отдохнув и послушав стихи, которые он читал охотно, шел дальше. Поздней ночью приходил в Феодосию. По узкой лесенке у самой стены, от пола до потолка сплошь заставленной книжными полками, из мастерской поднимались на антресоли. Там, как раз над царевной Таиах, стояло его ложе. Оттуда было два хода — один наружу на балкон, а с него на «верхнюю палубу», площадку на крыше дома, и другой — в библиотеку. Библиотека с ее светло-желтыми шкафами отделена от антресолей стеной. Здесь также — тахта, покрытая ковриком, а на столе и на полочках — небольшой музей, собранный Максимилианом Волошиным. Помню играющую, как радуга, волшебно-прекрасную большую индийскую раковину. Волошину подарили ее где-то в Средиземноморье матросы приплывшего из Индии корабля. Другая и еще большая драгоценность была подарена ему морем, выбросившим ее на берег Коктебеля. Это небольшой, величиной с кулак, кусочек корабельного борта с медной обшивкой — в нем торчал медный гвоздь. Медный гвоздь древних греков! Волошин, любуясь даром Черного моря, говорил: — А ведь это, может быть, обломок корабля Одиссея! — И, как бы внушая себе, что именно так и есть, повторял: — Вполне возможно, что именно Одиссеева корабля! На антресолях у входа в его библиотеку-музей и происходила беседа с Волошиным о том, как выручить из беды Осипа Мандельштама, арестованного белогвардейцами летом 1920 года. Вот что это была за история. Мандельштам как-то взял у Волошина экземпляр «Божественной комедии» Данте — издание итальянского подлинника с параллельным переводом на французский язык — и, увы, затерял его. Это неудивительно при его тогдашней бродячей, неустроенной жизни. У него не было постоянного пристанища ни в Феодосии, ни в Коктебеле. А бывало еще, что он и брат его Александр9* нанимались работать на виноградниках где-нибудь в районе Коз и Отуз. И вот, раздобыв ничтожную толику денег, Мандельштам собрался уехать из Феодосии морем. Волошин написал своему другу, начальнику Феодосийского порта, записку — просил в ней потребовать у Мандельштама «Божественную комедию». Добродушный начальник порта показал эту записку Мандельштаму. Куда девался волошинский Данте, измученный Мандельштам понятия не имел. Но требование Волошина взорвало его. Он написал оскорбительное, ругательное письмо Волошину9. Сначала он показал это письмо мне, даже писал его в моем присутствии за столиком в кафе «Фонтанчик». Я тщетно умолял Мандельштама не отправлять письмо. Подозреваю, что кроме меня это письмо он читал и другим. Очевидно, знал об этом письме и Илья Эренбург, у которого незадолго до этого произошла размолвка с Волошиным. (Эренбург с женой тоже жил в Коктебеле, но не у Волошина, а поблизости от него, на даче Харламова.) Мандельштаму не удалось тогда уехать из Феодосии. По пути в порт он был неожиданно арестован белогвардейцами и брошен в тюрьму. Мандельштам всем и всегда казался подозрителен, должно быть благодаря своему виду вызывающе гордого нищего. Майя Кудашева прибежала ко мне, потрясенная арестом Мандельштама. Кажется, ей сообщил о беде Александр — брат Осипа Эмильевича. Александр знал, что брат недавно рассорился с Максимилианом Волошиным, и обратиться к Волошину за помощью не решался. Да он и растерялся, бедняга. Отпала мысль и о том, что переговоры с Волошиным может взять на себя Эренбург. И Александр излил свое горе нашему общему другу Майе. Она была маленькая, легкая и изящная женщина, но и при легкости своей запыхалась, бежав через весь город ко мне. Майя потребовала, чтобы я сейчас же, сию минуту вместе с ней отправился в Коктебель, для переговоров с Волошиным. — Ско'ее, ско'ее, соби'айтесь ско'ее. Да нечего соби'аться, идемте! — торопила она меня, не выговаривая «эр», и крошечные капельки блестели на ее лбу, оторачивая золотую челку. Ехать в Коктебель было не на чем. Мы отправились пешком напрямик «дорогой Макса» — вверх-вниз, вверх-вниз, дорогой гор, пропахших полынью, мятой и чебрецом. И, как всегда, конечно, всю дорогу читали стихи — попеременно Майя и я. Очень темным вечером мы пришли в Коктебель. Майя пошла за Эренбургом, я ждал их на берегу. Мы уселись на гальке у самой воды под беззвездным небом, в кромешной тьме. В темноте слышались тихие всплески у самых ног. Вчетвером — Эренбург с женой, Майя и я — стали совещаться, как быть — кому первому идти наверх к Волошину. Первой отправилась к нему Майя. Мы ждали ее уж не помню сколько времени, во всяком случае очень недолго. Она вернулась, ничего не добившись. — Я не могу 'азгова'ивать с Максом. Я так и знала, что не смогу. Он плохо себя чувствует, лежит, злится и о Мандельштаме слышать не хочет. Но это ужа-асно, п'осто ужа-асно! Тогда решили, что идти к Волошину должен я. Эренбург наставлял меня. Волошина надо убедить дать записку, в которой Мандельштам характеризовался бы как крупный поэт. Утром уже была послана телеграмма в Севастополь известному писателю Аркадию Аверченко с просьбой вмешаться в судьбу Мандельштама. Аверченко подтвердил телеграммой, что хорошо знает Мандельштама как замечательного поэта, знаком с ним по Петрограду, и ходатайствовал об освобождении поэта, далекого от всякой политики. Пришла ли телеграмма Аверченко до или после освобождения Мандельштама, не помню. Итак, наступил мой черед идти в мастерскую. Волошин лежал на тахте на антресолях. Я поднялся по крутой наружной лестнице и вошел в совершенно темную мастерскую. Сверху прозвучал голос Волошина: «Кто там?» Я назвал себя. Он предложил подняться к нему. Почти на ощупь я добрался до лесенки и взобрался на антресоли. Здесь было светлее. Волошин лежал в хитоне, полуприкрытый пледом. Он не удивился моему приходу, сразу догадался, зачем я пришел. Я начал с напоминания, как часто он сам восхищался строками Мандельштама: «Виноград, как старинная битва, живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке»10. Я напомнил ему много раз слышанное его восклицание по поводу этих строк: «Как это хорошо! Мандельштам — прекрасный поэт!» — Зачем вы напоминаете мне об этом? Я и так хорошо знаю, что Мандельштам очень большой поэт. Тогда я сказал, что этот очень большой поэт схвачен белогвардейцами и сидит в тюрьме и бог знает, чем это кончится, Мандельштама надо спасать! — Спасать, вы понимаете, Максимилиан Александрович, как можно скорее спасать! Волошин успокоительно заметил, что Мандельштам непременно будет отпущен. — Он слишком нелеп, и они сразу поймут, что таким нелепым может быть только поэт! Мандельштама им не за что арестовывать. Но разве невозможны любые случайности? Волошин обиделся: что же, я подозреваю его в нежелании свободы для Мандельштама? Разумеется, нет! Мне оставалось только попросить Максимилиана Александровича дать записку… но к кому именно, я не знал, — к кому-нибудь из «начальства», которое не может не посчитаться с Волошиным. — А вы уверены, что Мандельштаму будет приятно знать о моей записке? Он, конечно, узнает и оскорбится. Ведь он ненавидит меня, это вы знаете? Я поспешил уверить, что ни о какой ненависти Мандельштама к Волошину не может быть и речи. И заговорил о долге поэта перед поэтом. Я чувствовал, что Волошин готов дать записку, что он сам очень встревожен за Мандельштама. Я слышал уже неуверенность в тоне, которым он высказывал сомнение, посчитаются ли с его запиской. У меня уже не оставалось сомнений, что Волошин напишет записку и сделает все возможное. И вдруг он воскликнул: — Если бы вы знали, какое письмо написал мне Мандельштам! Какое оскорбительное, злое письмо! И дернул меня черт сказать, что я знаю это письмо, — Мандельштам мне читал его! Все было кончено. Услыхав, что Мандельштам показывал это письмо мне, и поняв, что он мог показывать его и другим, Волошин сразу сменил милость на гнев. Он начал жаловаться на хворь, явно не желая больше говорить о Мандельштаме. Чувствуя, что испортил все дело, я попрощался и уныло спустился в темноте с антресолей. Внизу белым пятном светилась голова Таиах. Я вышел из кабинета и сбежал с наружной лестницы к морю, где меня дожидались Эренбурги и Майя. Через минуту я уже докладывал им о своей неудачи. Эренбург, выслушав меня, поднялся: «Я пойду к Максу». Это было неожиданно. Ведь он с Волошиным в ссоре. И все-таки пошел. Майя Кудашева, жена Эренбурга и я сидели, перебирая мелкие камешки и слушая плеск набегавшей на берег невидимой в темноте волны. Эренбург отсутствовал очень долго. Его жена уже начала тревожиться. Майя изредка повторяла: «Ст'анно, ст'анно». Эренбург вернулся успокоенный. Волошин сделает все, что может. — Долго п'ишлось угова'ивать Макса? — спросила Майя. — Его вообще не пришлось уговаривать. Эренбург и позднее повторял, что Волошин сразу вызвался помочь Мандельштаму. Теперь мне кажется, что Волошин просто хотел, чтобы к нему пришел Эренбург, — ждал примирения. Мы не стали расспрашивать Илью Григорьевича, почему он так надолго задержался в мастерской Макса. Много лет спустя в архивах Волошина был обнаружен черновик письма, или, как сам Волошин его называл, «Заявления» по поводу Мандельштама. Вот его текст: «Начальнику
Политическим розыском на этих днях арестован поэт Мандельштам. Т. к. Вы по своему служебному положению вовсе не обязаны знать современную русскую поэзию", то считаю своим долгом осведомить вас, что Ос. Мандельштам является одним из самых крупных имен в последнем поколении русских поэтов и занимает вполне определенное и почтенное место в истории русской лирики. Сообщаю Вам это, дабы предотвратить возможные всегда ошибки, которые для Вас же могут оказаться неприятными. Мандельштам, как большинство поэтов, человек крайне нервный, поддающийся панике, а за его духовное здоровье перед культурной публикой в конце концов будете ответственны Вы. Не мне, конечно, заступаться за О. Э. Мандельштама политически, тем более, что я даже не знаю, в чем его обвиняют. Но могу только сказать, что для всех, знающих Мандельштама, обвинение его в большевизме, в партийной работе — есть абсурд. Он человек легкомысленный, общительный и ни к какой работе не способный и никакими политическими убеждениями не страдающий». Волошин имел в виду неспособность его к любой работе, кроме работы поэта. Наутро с заявлением Волошина отправилась в город Майя Кудашева. Для подкрепления ее миссии в Феодосию приехал из Коктебеля также и Викентий Викентьевич Вересаев. Он уже и тогда почитался как классик и был всероссийски известен. Но еще больше надежды возлагали на княжеский титул Майи. Вместе с Вересаевым явилась она в белогвардейскую разведку и вручила ее начальнику заявление Максимилиана Волошина. Заявление это вкупе с княжеским титулом Майи, славой Вересаева и энергичными хлопотами полковника-поэта Цыгальского произвели должное впечатление. Мандельштам был освобожден. Вскоре он уехал из Феодосии в Батум, а оттуда в Тифлис. По пути в Тифлис он снова был схвачен и заключен в тюрьму, на этот раз уже грузинскими меньшевиками. Максимилиан Волошин в пору гражданской войны говорил о себе: — Я над схваткой. Не только в России, и на Западе многие, даже выдающиеся интеллигенты, считали позицию «над схваткой» принципиальной и единственно достойной творца культуры. Вспомним, что даже Ромен Роллан назвал одну из своих книг «Над схваткой»12. Конечно, разновелики фигуры Роллана и Волошина, но честность с собой и того и другого художника закономерно привела к разочарованию в первоначально избранной и казавшейся достойной позиции «над схваткой». Для Волошина этот путь животворного разочарования был медлителен, полон смущений и колебаний. И я еще расскажу в дальнейшем, как и что побудило его усомниться в правильности дорогой ему позиции «поверх барьеров». Когда я только познакомился с ним, сомнения эти еще не одолевали его. Он еще гордился тем, что «молится за тех и других». А я стою один меж них
И «те» и «другие», и белые и красные для него прежде всего русские, его русские люди. Он молился и за тех и за других, как молился за Россию, за свою Россию. В политической борьбе он не помогал ни тем, ни другим. Но как отдельным людям — и тем и другим, — помогал в защите, в спасении одних от других. И гордился тем, что под его кровлей спасались и укрывались от преследований противника в равной мере — …и красный вождь, и белый офицер В разгар гражданской войны, в дни, когда Феодосия бывала занята красными, он спасал и прятал на своей даче отдельных офицеров-белогвардейцев, которым грозила смерть. Он прятал и спасал их не как своих единомышленников, которыми не признавал ни тех, ни других, а как людей. И еще больше и чаще ему приходилось так же спасать и прятать у себя красных во время белого террора в Крыму. Об этом хорошо напоминает надпись писателя-большевика Всеволода Вишневского на его книге «Первая Конная». <…> «Максимилиану Александровичу Волошину! С доброй памятью о Вас шлю Вам эту книгу, где показаны мы, которым в 1918–20 гг. Вы оказали смелую помощь в своем Коктебеле, не боясь белых. Вс. Вишневский». В дни крымской белогвардейщины он и в моем присутствии множество раз беседовал с подпольщиками-коммунистами (с будущим председателем Ревкома в Феодосии Жеребиным и с будущим членом Ревкома Звонаревым) и едва ли не понимал, что беседует с теми, кто ждет прихода Красной Армии. Да и эти собеседники его с большим доверием относились к нему. Люди, о которых после освобождения Крыма стало известно, что в тылу у белых они действовали как законспирированные коммунисты, еще при господстве белых разговаривали с Волошиным, во всяком случае, не тая своих жестких к ним антипатий. А ведь в ту пору и в той обстановке высказывать такие антипатии можно было только в присутствии человека, вызывающего к себе полное доверие. Но Волошин, несмотря на его позицию «над схваткой», был в глазах подпольщиков-коммунистов именно таким человеком. В 1919 году он писал Бунину из своего Коктебеля: «Я живу здесь с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевистские». Белые не были ему любопытны — в них не было ничего загадочного, непонятного. Красные оставались для Максимилиана Волошина загадочными. Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийском Народном университете. Университет открыли почти тотчас после освобождения Крыма. Ректор его был Викентий Викентьевич Вересаев, проректором Д. Д. Благой. Максимилиан Волошин с первого дня жизни университета начал читать в нем курс лекций по истории искусства Италии и Голландии14. Даже открылся этот университет лекцией Максимилиана Волошина. Разместился Народный университет во втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатного цвета с потемневшим лепным потолком был переполнен слушателями в шинелях и гимнастерках с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах — о Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они еще дух не успели перевести после последних боев за Крым. Волошин сидел перед ними за столиком, забросив за спинку стула правую руку, а левой, согнутой в локте, подпирал свою огромную рыжую голову. Он сидел в своем серо-зеленом костюме средиземноморского странника, в коротких, по колена, штанах, в чулках и сквозь поблескивающие стекла пенсне на черной тесьме с любопытством и удивлением рассматривал полных внимания слушателей. Он удивлялся, что они его слушают. Они — и вдруг слушают о Леонардо да Винчи! Им — и вдруг интересен Микеланджело! Он не мог не чувствовать их внимания, их жажды познать, понять. Вдруг наступали паузы. Волошин замолкал на минуту, и слегка сощуренные серые глаза его пытливо всматривались в небритые и обветренные в боях лица его «студентов». Ни шевеленья не слышалось во время этих внезапных пауз. Стороны изучали друг друга — Волошин и красноармейцы. Не только красноармейцы слушали Максимилиана Волошина. В этот вечер Волошин сам слушал, как слушают красноармейцы о Леонардо да Винчи. Он открывал для себя еще не познанный им мир новых людей. Он уходил из университета в тот вечер смущенным, сосредоточенным, был вовсе не так общителен, как обычно, и явно хотел остаться наедине с собой. У него много стихов о России. Ему всегда казалось — он знает свою Россию, понимает ее. В этот вечер он впервые встретился с незнакомой ему Россией. Возможно, ему было бы все понятней, все легче, все проще, если бы убедился, что красноармейцам ни к чему его Леонардо да Винчи, если бы зал во время его лекции пустовал, если бы слушатели его зевали. Он вовсе не был бы в обиде на них. Ничего другого от них он не ожидал. Может быть, он только затем и согласился читать свои лекции о возрожденцах, чтобы на слушателях проверить: что это еще за такая Россия, Россия красных? И проверил. И после лекции ушел в темень под генуэзские колоннады феодосийских улиц, озадаченный, дивясь и слушателям в красноармейских шинелях, и самому себе. Через несколько дней я встретил его в редакции «Известий Феодосийского ревкома» — Волошин принес в газету стихи. Мы вместе вышли с ним из редакции и пошли по центральной улице города — Итальянской. Местные жители давно привыкли к нему и без любопытства смотрели на его удивительную фигуру. Но красноармейский патруль обратил на него внимание. Должно быть, подозрительным показался необыкновенный наряд поэта. Нас остановили и потребовали предъявить документы. Моя бумажка удостоверяла, что я работаю в подотделе искусств народного образования Феодревкома. Но Волошин никогда не носил в карманах никаких мандатов или удостоверений. Он привык, что в Феодосии да и вообще во всех местностях Крыма чуть ли не каждый прохожий знает его в лицо. В ответ на требование патруля Волошин назвал себя: — Я поэт Максимилиан Волошин. Увы, имя его ничего не сказало красноармейцам. Я пытался растолковать им, что перед ними известный русский поэт, его лично знает Анатолий Васильевич Луначарский и председатель Феодосийского ревкома Жеребин тоже знает его. Возможно, в конце концов нас и отпустили бы с миром, но все дело испортил Волошин. Очень уж оскорбился, что его задержали на улице города, где каждому мальчишке ведом поэт Волошин! Серые глаза его потемнели, щеки и лоб угрожающе запылали… Я не узнал его голоса, обычно такого мягкого и спокойного: — Как вы смеете преграждать дорогу поэту! Нас повели в комендатуру — в комендатуре дознаются, кто он такой. Да и я, слишком рьяный заступник этой подозрительной личности с поповскими волосами, тоже начинаю казаться патрульным подозрительно странным субъектом. Комендант, в распахнутой кавалерийской шинели и в шлеме, от забот съехавшем набок, неулыбчивый молодой человек, услышав имя Волошина, сразу насторожился: — Нет, правда? Максимилиан Волошин? Тот самый? Я поспешил подтвердить: — Тот самый, товарищ комендант, тот самый Максимилиан Волошин! — и торжествующе посмотрел на Волошина. Надо было видеть его растерянное лицо. Комендант в красноармейском шлеме, «простой большевик», знает имя поэта Максимилиана Волошина! С Волошиным произошло то же, что во время его лекции в Народном университете. Было бы проще, понятней, если бы комендант принял Волошина за белогвардейца-буржуя! И от коменданта он вышел таким же озадаченным и смущенным, как после своей лекции в Народном университете. Непознанную Россию предстояло еще познать. Он стал часто бывать у нас в подотделе искусств. Помогал советами и наставлениями, когда мы собирали в покинутых хозяевами виллах и дворцах произведения искусства. Но виллы и дворцы феодосийских миллионеров, особенно дворцы табачных фабрикантов Стамболи и Крыма10*, он требовал уничтожить. Их надо снести с лиц земли как образцы буржуазной безвкусицы, чтобы не развращать вкусов народа15! Он называл стиль этих дворцов стилем Сандуновских бань и дознавался: — Неужели советская власть допустит, чтобы такие безобразные здания оставались на русской земле? С ним соглашались, что виллы крымских магнатов и впрямь безвкусны. Но, увы, советская власть не могла позволить себе роскошь уничтожения этих зданий. Виллы и дворцы эти стоят и поныне, в них размещены дома отдыха и санатории. Одно время Волошин очень надеялся, что советская власть запретит ношение костюмов буржуазного типа, особенно мужских, — они казались ему отвратительными16. По этому поводу он произносил взволнованные речи у нас в подотделе искусств и в редакции «Известий Феодосийского ревкома». Он уверял, что наша одежда -особенно черная — не что иное, как примитивное подражание машине. Он сравнивал рукава черного пиджака с железными трубами, пиджак с котлом, карманы с клапанами паровоза. Но у него было черное пальто с бархатным воротником — уж не знаю, как, надевая это пальто, он мирился с ненавистным ему черным цветом. Наша одежда, однако, в ту пору была так мало схожа с костюмами буржуазного общества, что, присмотревшись к нам, он вскоре перестал говорить о костюмах. Весь гнев свой он сосредоточил на покинутых виллах и дворцах буржуазии. Да, если бы это зависело от него одного, аляповато роскошные эти здания были бы разрушены только потому, что строили их люди дурного вкуса! Между тем реквизировались не только эти дворцы, но и дачи на побережье. Волошин получил из Москвы охранную грамоту, и на дверях его мастерской во втором этаже дома-корабля появилась копия этой грамоты, написанная каллиграфическим почерком. После отъезда Мандельштама и Эренбурга коктебельская колония поредела. Григорий Петров уехал за границу еще до окончательного разгрома белых. Вересаев продолжал жить на своей даче и очень редко бывал в Феодосии. Волошин уезжать из Коктебеля не собирался, но, уж не помню по чьему распоряжению, именно ему, как главе Феодосийского отделения Всероссийского союза поэтов (СОПО), было поручено выдавать ходатайства о пропусках для литераторов, желающих уехать в Москву. Волошин считал, что первым должен получить пропуск Д. Д. Благой, так как он вез с собой законченную им очень важную и ценимую Волошиным работу о Тютчеве. Но так случилось, что пропуска были выданы всем одновременно. Нам дали отдельный вагон-теплушку, и мы вместе — Майя Кудашева с сыном и матерью, бывший подпольщик, член Ревкома поэт Звонарев, возвращавшийся к себе в Орел, бывший редактор «Известий Феодосийского ревкома» Даян, актриса Кузнецова-Гринева с дочерью, поэт Томилин, еще какой-то поэт, и еще какой-то, и я. <…> С Волошиным суждено было еще встретиться. Я прожил несколько месяцев в Москве и вновь отправился в Феодосию на две недели. Максимилиану Александровичу я привез сборнички московских поэтов, и среди них «Жемчужный коврик» имажиниста Кусикова, выпущенный издательством «Чихи-Пихи». Издательство было собственностью Александра Кусикова, богатого человека, владельца кафе поэтов «Стойло Пегаса» и сына крупного нэпмана. К стихам Кусикова Волошин отнесся иронически, а название издательства долго потешало его. — Это как же понять — «Чихи-Пихи»? — спрашивал он, смеясь глазами. — Эти имажинисты чихают стихами и пихают их в книжки? Так, что ли? И много этих имажинистов развелось в Москве? Я объяснил, что их не так много, но шумят они громче всех. Он попросил назвать их. Я назвал Шершеневича, Мариенгофа и Кусикова. Самым известным из имажинистов был, разумеется, Сергей Есенин. Но Волошин внимательно прочел привезенные мной есенинские стихи и пожал плечами: — Скажите, пожалуйста, почему Сергей Есенин тоже называет себя этим… имажинистом? Он вовсе не имажинист. Он просто поэт. То есть просто настоящий поэт, милостию божией, совсем настоящий. И зачем ему этот имажинизм? Когда я уезжал из Феодосии — на этот раз окончательно, Волошин дал мне письмо к А. В. Луначарскому и просил передать ему лично: на почту в те годы возлагать надежды было бы легкомыслием. Кроме того, он дал мне машинописный список цикла своих стихов «Демоны глухонемые». — Я хотел бы, чтобы они появились в печати. Луначарский давно уже уговаривал Волошина переехать в Москву, и я был убежден, что Максимилиан Александрович вскоре будет в Москве и мы с ним увидимся. Во всяком случае, мы попрощались «до встречи в Москве». В Москве началась зима. Помню Тверской бульвар, осыпанный первым снегом, и первого знакомого, которого я встретил наутро после приезда. Это был профессор Василий Львович Львов-Рогачевский, друг множества молодых литераторов и руководитель объединения «Литературное звено». Члены этого звена собирались по средам в «Доме Герцена», где ныне Литературный институт, усаживались вокруг покрытого синим сукном очень большого стола и читали друг другу свои сочинения — преимущественно стихи. Из молодых тогда мало кто занимался прозой. Впрочем, бывали здесь и не одни молодые. Василий Львович уже знал меня по «Литературному звену», да я бывал у него и дома и в одной из многочисленных тогда в Москве книжных лавок писателей — на Большой Никитской, нынешней улице Герцена. Известные русские писатели стояли за прилавками и торговали старыми книгами. Встретив меня на Тверском бульваре, Львов-Рогачевский поздравил с возвращением, стал расспрашивать о Волошине (он знал, что я уезжал в Феодосию). Я ответил, что привез от Волошина письмо к Луначарскому и иду сейчас в Наркомат просвещения, чтобы попытаться лично наркому передать это письмо. Я, разумеется, сказал, что у меня по-прежнему нет комнаты и никакой надежды ее получить. — Вы увидитесь с Луначарским, попросите его. — Что вы, Василий Львович! Луначарский меня не знает. Я только передам ему письмо и сейчас же уйду. — Да нет, вы попросите. Постойте! Я напишу вам записку к нему. Пойдемте со мной. Мы с ним зашли в книжную лавку писателей на Большой Никитской, и там у прилавка он написал Луначарскому несколько добрых слов обо мне и просил помочь человеку, не имеющему в Москве жилища. Луначарского я встретил у дверей зала заседаний Наркомпроса на Остоженке. Только что окончилось заседание коллегии. Толпа, дожидавшаяся наркома, сразу окружила его и оттеснила меня. Я в отчаянии закричал через десятки голов: — Анатолий Васильевич! Анатолий Васильевич! Вам письмо от Максимилиана Волошина! Луначарский тотчас повернул голову в мою сторону и потянулся за письмом, которое я протягивал. Толпа расступилась, и меня пропустили к нему. — Волошин? Максимилиан Александрович? — спросил он, беря от меня письмо. — Что же он не едет сюда? Мы его очень ждем. Я два раза писал ему. Он очень, очень нам нужен здесь, в Москве! Я не был уполномочен Волошиным объяснять, почему он не едет в Москву. Возможно, он сам объяснял Луначарскому в своем письме. Вместе с письмом я передал Луначарскому также и записку Львова-Рогачевского. Но в окружении толпы просителей он не стал читать ни того, ни другого — сунул в нагрудный карман своей наглухо, до горла, застегнутой синей куртки (в пиджаке и при галстуке он стал появляться позже). — Ваш телефон вы, наверное, записали? Я позвоню вам. Я не успел ответить. Толпа вновь оттеснила меня от него. Мне не удалось больше ни слова сказать. Но боже мой! Мой телефон! У меня не было в Москве собственного угла, не то что телефона! Стихи Волошина, которые он дал мне в Москву, я отнес в «Красную новь» Воронскому17. Воронский взял стихи Максимилиана Волошина, не помню какие. Вскоре встречаю Сергея Клычкова — он был тогда секретарем редакции «Красной нови». — Что же вы не приходите за гонораром Волошина? Стихи идут в ближайшем номере18, гонорар уже выписан. — Но ведь я оставил для перевода гонорара адрес: Феодосия, Коктебель, дача Волошина. Вышлите ему почтой. — С ума вы сошли. Пока деньги дойдут до него, он на них и одной коробки спичек не купит. Курс падает по часам. Получайте деньги, купите на черной бирже червонцы и тогда перешлете ему с кем-нибудь. Я никогда не покупал на черной бирже червонцев, понятия не имел, как это делается, да и вообще денег у меня почти не бывало: я жил на паек. Мне выдавали его за ведение литературного кружка в 18-м железнодорожном полку. Да и доверенности от Волошина на получение денег я не имел. Клычков уверил меня, что отсутствие доверенности — не беда, он и Воронский все устроят. И действительно, гонорар Волошина я получил и тотчас побежал на Ильинку, как мне посоветовал Клычков. Но как покупать червонцы для спасения денег? Какие-то типы шмыгали взад и вперед, иногда останавливали пешеходов, перешептывались с ними о чем-то, уходили в подъезды ГУМа и там обделывали свои делишки. Моя старенькая куртка облезлым мехом наружу, видимо, не свидетельствовала о моей способности приобрести червонцы. Во всяком случае, никто ко мне не подошел, а я так и не решился первым заговорить с валютчиками. Наутро стоимость денег упала уже не помню насколько, но так значительно, что я схватился за голову. Чтобы спасти хоть часть денег Волошина, я снова бросился на Ильинку — известное тогда всей Москве местонахождение черной биржи. И опять — такие же, как вчера, шмыгающие типы. И опять у меня нехватка решимости первым заговорить с ними, а у них явное пренебрежение к моей куртке лысым мехом наружу. Миллионы Волошина, которыми были набиты мои карманы, обесценивались с каждым часом. Реальная стоимость их все стремительней приближалась к стоимости коробки спичек. В последний момент я решил приобрести на них хоть что-нибудь не падающее в цене и приобрел… в каком-то нэповском магазине четыре банки сгущенного молока! Затем я написал Волошину обо всем происшедшем и спрашивал, как мне быть, чтобы не чувствовать себя невольным растратчиком его литературного гонорара. Он быстро ответил очень милым, полным утешительных слов письмом. Мол, он хорошо все понимает и советует мне больше не думать о деньгах. Он все равно не смог бы их получить и реализовать при существующем положении. Писал, что его интересует моя проза, и между строк читалось, что в прозу мою он верит больше, чем в мои стихи. Но о приезде в Москву — ни слова. Лет через десять, живя в писательском доме отдыха в Малеевке под Москвой, я прочитал в «Литературной газете» о смерти Волошина. <…> В письме, которое Максим Горький писал мне в 1932 году, вскоре после смерти Максимилиана Волошина, есть совет сравнить в задуманной мною книге село Гуляй-Поле Нестора Махно с Коктебелем Максимилиана Волошина. «Подумав, несмотря на разность, вы найдете общее между ними», — писал Горький в своем письме. Разность, разумеется, очевидна. Это разность культур. Утонченная, рафинированная культура эстета, парнасца, мастера и живописца слова Волошина, с одной стороны, и дикая природа полуинтеллигента, слегка философствующего атамана налетчиков, анархиста Махно — с другой. Но что же общего между ними? Общее только то, что оба по природе они анархисты, индивидуалисты, один — примитивный и дикий, другой — европеизированный, эрудит. И оба — украинцы. Вторая фамилия Волошина — Кириенко. Общее также то, что оба пытались стоять над белыми и над красными. Но Махно, пытаясь остаться самим собой, воевал и с белыми и с красными. А Волошин, оставаясь самим собой, не воевал ни с кем. И все же белых он сторонился, а красным он помогал. И с красными он работал. Он немало сделал для советского Крыма. Недаром Луначарский, хорошо знавший его недавнюю еще позицию «над схваткой», знавший и силу и слабость Максимилиана Волошина, так настойчиво звал его в Москву для работы. И хотя Волошин трудно и медленно оставлял свою позицию «над схваткой», он своими огромными знаниями, мастерским своим умением рассказывать о прекрасном, своим участием в собирании произведений искусства для музеев и в создании этих музеев был и любезен и полезен своему народу. И, что бы ни говорили о нем, нам есть чем вспомнить и уважительно помянуть поэта, живописца, человека и чудака — одного из тех добрых и талантливых чудаков, которые странностями своими всегда украшали Россию. КомментарииВоспоминания писателя Эмилия Львовича Миндлина (1900— 1981) даются по кн.: Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники (М., 1979) — с сокращениями и восстановлением снятых прежде фрагментов, предоставленных составителям сыном автора — А. Э. Миндлиным. 1 Стихи М. Кювилье (на французском языке) были опубликованы во «Втором сборнике центрифуги» (М., 1916). 2 До отъезда из России А. С. Соколовский выпустил две книги стихов: в 1916 г. — «Зеленые глаза» (Одесса), в 1920 г. — «Покойник с гитарой» (Симферополь). 3 Вечер «Богема» состоялся в Феодосии 27 марта 1920 г. «Ковчег» вышел из печати 19 апреля того же года. 4 Причина ссоры выясняется из переписки Е. О. Волошиной с Эренбургом летом 1920 года. Живя во флигеле волошинского дома, Эренбург и его жена оставляли на ночь на открытой веранде «кухонный инвентарь»: таз, посуду и т. д. Между тем в поселке были в то время случаи краж. Советы убирать на ночь все в дом не возымели действия. Тогда Елена Оттобальдовна сама стала уносить кое-что по ночам, имитируя кражу в «воспитательных целях». Когда мистификация (в которой Волошин принимал участие только «недонесением») была открыта, Эренбург страшно обиделся (ИРЛИ). 5 Строки из стихотворения Волошина «Коктебель» (1918). 6 К переводам стихов Виктора Гюго Волошин обратился в 1921 году. В марте этого года, к юбилею Парижской коммуны, он переводил стихи Гюго из его книги «Страшный год»: фрагменты из поэмы «Революция», стихотворения «Расстрелянные» и «На баррикаде». 7 Первая строфа из стихотворения Э. Верхарна «Ужас» в переводе Волошина. 8 Дочь В. О. Сибора Лиза умерла в августе 1920 года, шестнадцати лет. 9 О. Мандельштам писал Волошину 7 августа (25 июля по ст. ст.) 1920 г.: «Милостивый государь! Я с удовольствием убедился в том, что вы [под] толстым слоем духовного жира, п[р]остодушно принимаемого многими за утонченную эстетическую культуру, — скрываете непроходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина. <...> Из всего вашего гнусного маниакального бреда верно только то, что благодаря мне Вы лишились Данта: я имел несчастие потерять три года назад одну Вашу книгу. Но еще большее несчастье вообще быть с вами знакомым» (ИРЛИ). 10 Из стихотворения О. Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (1917). 11 Здесь Волошин, возможно, перефразирует слова из письма В. А. Жуковского А. X. Бенкендорфу по поводу смерти Пушкина: «Ведь вы не имеете времени заниматься русскою литературою и должны в этом случае полагаться на мнение других». 12 «Над схваткой» — сборник статей Р. Роллана (1915). 13 Из стихотворения Волошина «Гражданская война» (1919). 14 Об участии Волошина в работе Феодосийского народного университета см. также в статье Д. Бабкина «Максимилиан Волошин» (Русская литература. Л., 1971. № 4). 15 Мысли Волошина об отношении к буржуазной безвкусице в архитектуре изложены им в неопубликованной статье 1919 года «Искусство в Феодосии» (ИРЛИ). 16 Об эстетике современной одежды Волошин размышлял в статье «Сизеран об эстетике современности», которая вошла в первую книгу его «Ликов творчества» (Спб., 1914). См. также в кн.: Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. 17 Александр Константинович Воронский, один из ведущих литературных критиков первого послереволюционного десятилетия, был редактором журнала «Красная новь» в 1921—1927 гг. 18 В журнале «Красная новь» (1922, № 3) были напечатаны стихотворения Волошина из его цикла «Путями Каина»: «Меч», «Порох», «Пар». В письмах к С. Я. Парнок (от 22 декабря 1922 г.) и к В. В. Вересаеву (от 7 января 1923 г.) Волошин писал, что не уполномочивал Миндлина отдавать его стихи в печать. И в письме к Миндлину 24 февраля 1923 г. он открыто протестовал против этого: «Когда мы говорили с Вами в Феодосии, я дал Вам списать мои стихи с правом их распространять в рукописи, а что касается печати, у нас был с Вами разговор только о каком-то харьковском журнале. Печатать же в московских изданиях я Вам не разрешал, да еще без моего осведомления. Моими официально доверенными лицами в Москве являются В. В. Вересаев и С. Я. Парнок. Стихи, Вами напечатанные без моего ведома, причиняли и мне, и им ряд неприятностей, с теми изданиями, куда они передавали мои стихи, оказавшиеся напечатанными неизвестно кем в иных местах. Я до сих пор не знаю от Вас ни где, ни что из моих стихов было напечатано, и до сих пор не получил через Вас ни одного гонорара. <...> Очень благодарю Вас за Вашу любезность, Эмилий Львович, но прошу не продолжать ее (упомянутые в этом примечании письма Волошина пересказываются и цитируются по копиям, снятым В. Купченко с оригиналов в архиве М. С. Волошиной в конце 60-х годов).
|
||||||
| © 2006 | Cedits | Contacts | Report an error |
 шаг назад
шаг назад предыдущая
предыдущая содержание
содержание вниз
вниз печатать
печатать следующая
следующая вверх
вверх