Сусанна Черноброва
Из книги «Электронная почта»
To: squirrel@nowhere.com
28 февраля 03
Ты как-то заметила, что электронная почта возродила эпистолярный жанр.
Теперь невольно подмечаю все, что относится к почте. Какие виды почты бывали: пневматическая, голубиная, фельдъегерская. Из Рима мы посылали открытки самой скорой, ватиканской, чтоб марки достались знакомому коллекционеру. Пневматическая, кажется, до сих пор есть в Праге. Ами Дикман показал магазинчик на улице Агриппас, который называется «Иона, уфи», в переводе «Голубь, улетай» или «Летите, голуби». В нем продаются палки, шипы, чучела — разные приспособления, отпугивающие голубей.
На днях рисовала Гива-Царфатит. Вспомнила, как въехали в квартиру, это вторая наша съемная была. Гива-Царфатит в переводе с иврита — Французский холм. Из окна вид на Старый Город и гору Скопус, на шпиль иерусалимского университета, на госпиталь Августа-Виктория. Папа попросил подвести его к окну со словами: «Покажи мне университет. Я ведь на него деньги в двадцать пятом году собирал». Папа был в латвийской студенческой корпорации «Хасмонея». На групповом снимке снят вместе с Жаботинским. Фотография, предмет папиной гордости, переснята из парижского журнала «Рассвет». Как-нибудь перешлю ее тебе аттачментом, когда починят сканер.
Но папа был почти слеп, и разглядеть университета не смог.
В эту зиму снег выпал в конце февраля. Разговоры только о нем, даже про Ирак и противогазы не вспоминают… Я и забыла, как это бывает, когда комната освещена снегом. В Ган Сакер выставка снежных баб. Победила баба сюрреалистическая, с перьями на голове.
Когда-то я написала: Кружит асфальт, и кружится порог, и нас в дорогу провожает имя, поземку листьев искрами прожег люминесцентный снег Иерусалима.
Снегопад здесь в диковинку, он быстро сменяется солнцем, зрение приписывает ему цвета залетной птицы. Мне кажется, в Иерусалиме иная порода снега, может, из-за обилия черных костюмов и шляп, резких контрастов. Он в пейзаже соседствует с розами и травой. В детстве меня поразил вид снега в мае. Огромные хлопья воспринимались как чудо, полное отблесков весенней зелени и неба. Помнишь, в книжке «На правах рукописи» у меня есть строчки: На заборы, на земную ветошь, свет тюремный нанесен, как ретушь, но ненастье в редком освещеньи, словно встреча в золотом сеченьи. Там, где ни погони, ни побега, там, где голубая зелень снега…
Не случайно, именно здесь, на Скопусе, мне привиделась картинка: радуга, осыпанная снегом. Написала маслом несколько вариантов, и все не то. Радуга в Танахе — знамение завета между Б-гом и землею, Ной ее видит после потопа.
У пророка Исайи сказано: «Если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю». Снежные заносы здесь и радость, и стихийное бедствие (у многих старых строений обвалилась крыша, например, в Бикур Холиме, в отделении диализа, где лечится наш друг.) Полюбил бы я зиму, да обуза тяжка… (Анненский). Двойная суть сказывается на оттенках снега, он вмиг становится водянистым, как тусклое стекло. Болезнь проказа в Библии неоднократно сравнивается со снегом.
В 92, в год нашего приезда, был невиданная метель (все сорта снега: и наст, и талый, и крупа), и я впервые увидела здесь длинную очередь. Это была очередь за фотопленкой.
Тогда в Гива — nbsp; — mdash; Царфатите я проснулась от резкого света. Весь двор был в сугробах, а на крыше соседнего дома, вровень с нашим окном (мы жили на последнем этаже) на белом фоне черные хасиды играли в снежки. В том же 92 я с университетской экскурсией была на горе Хермон на Голанских высотах. На Хермоне лыжный курорт, гора покрыта снегом всю зиму. К вершине ведет подвесная канатная дорога. Внезапно она замерла, и мы увидели кабинку, висящую над белоснежной пропастью. В ней силуэт в черном, раскрыв книжку, безмолвно продолжал читать дорожную молитву.
Посылаю тебе вид на Масличную гору из окна в Гива-Царфатите.
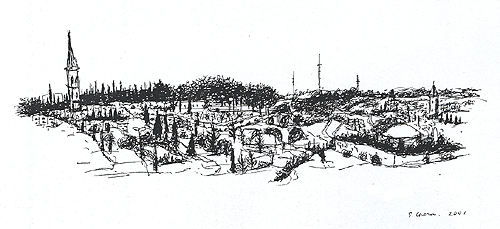
To: squirrel@ nowhere.com
5 марта
А вот еще в связи с хасидами, снежками и с черным на белом. Мы как-то навещали Евгения Семеновича Левитина, известного искусствоведа, автора книг о Фаворском и Рембрандте, много лет проработавшего в Пушкинском музее на Волхонке. Ты его тоже знала. Мы с ним дружили в Иерусалиме. В нем он провел последние годы жизни и умер в 1998.
Поехали на автобусе в субботу вечером, в «моцей шабат». Пустой автобус, только мы и несколько хасидов в черных пальто и шляпах. Выходят на нашей остановке около «таханы мерказит» — nbsp; — mdash; автовокзала. Несут завернутый в газету сверток.
Мы впервые навещаем Е. Л. в этом месте, как найти, толком не знаем, они тогда скитались по съемным квартирам и часто переезжали. Почему–то все время инстинктивно следуем за темной тучкой хасидов на фоне сумерек. Наконец, находим многоквартирный корпус в начале улицы Яффо, напоминающий доходные дома, входим в лифт. Хасиды со свертком тоже. Нажимаем кнопку с номером этажа, они останавливаются перед той же квартирой. Е. Л. в Иерусалиме был лежачим больным, и никакими знакомствами новыми не обзавелся. Нам точно не сюда — решаем мы и ищем в соседнем подъезде, точно таком же. Но после долгих поисков возвращаемся, нажимаем на кнопку звонка. Входим в комнату, в которой темно от черных костюмов и шляп. Хасиды здесь. Что-то возбужденно обсуждают с женой Е. Л. и другом дома реставратором А. З. На столе лежит нечто, и все над ним склонились, как над младенцем.
Один из хасидов говорит по-английски: Купили холстик раннего Шагала в Канаде, дорого заплатили, двадцать тысяч долларов, принесли на атрибуцию. Мы взглянули. Не видели ничего менее напоминавшего Шагала, чем этот покоробившийся кусок картона. Мутные, грязноватые краски. Пытаюсь вставить слово, но художников в таких случаях обычно не слушают. Рыбак –неуверенно говорит Е. Т. (жена), Мане-Кац — предполагает А. З. Наступает тишина. Выкатывают в коляске Е. Л., он сидит, как на троне и должен сказать последнее слово. Все замерли. Е. Л. медленно произносит: «Это Шагал.» Хасиды, заплатив, уходят счастливые.
Я спрашиваю Е. Л.: Почему Вы так сказали?
— Мне их жалко стало, они купили, радовались. — ответил он.
Е. Л попросил меня прочесть стихи. Надо выпустить книжку, — сказал. Книжку я еще успела ему подарить.
О нем (без имени) как о «первой ласточке», «молодом, но умном и мрачном не по возрасту» писала в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам (а Ахматовой в 1961 г. писала о библиотеке «маленького Женички, которого я к вам приводила». (Еще о нем: Анастасия Баранович-Поливанова. Оглядываясь назад. Томск. 2001; Елена Мурина О том, что я помню про Н. Я. Мандельштам. Мир искусства. Альманах. 4. СПб.2001).
To: squirrel@ nowhere.com
9 марта
Вчера снова стреляли после почти годового перерыва.
Ты меня спрашиваешь — помню ли я пьесу Славкина о семье, живущей в тире.
Да. Семья, доведенная жизнью в коммуналке, соглашается на предложение домоуправления пожить в тире. До обеда вроде нормальная квартира и жить можно, а вечером надо ходить, согнувшись в три погибели. Словно подчиняясь слову гибель. (Как раз на днях увидела по телевизору сцену из спектакля «Плохая квартира», оказалось сейчас его поставил Леонид Хайт в тель-авивском «Бейт-Барбуре»).
Посылаю очередной вид Бейт-Джалы, как обещала. Виден красивый дом с красной черепичной крышей и башенками, из него чаще всего стреляют. Интересно, что в нем было: странноприимный дом, гостиница для паломников? Трудно представить, что в нем сейчас кто-либо живет.
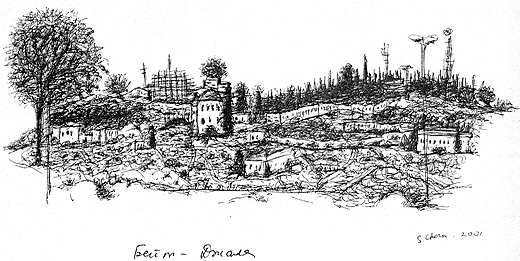
По-моему, я не посылала тебе стихотворение, называющееся ГИЛО 2001: Ты с пригорка следи, как уходит никто в никуда, ты простая мишень на окраине звездного неба, город цвет потерял, стал бесцветным, как все города, где есть тюрьмы и дым и скульптуры из серого хлеба. Снова белый субару соседа стоит поперек, он один из сугробов, что ветер наносит с разбегу, то ли туча искрит, то ли тает зависший снежок, но мы видим, что даже у пуль траектория снега. Я все время рисую и кажется, кружатся все, и блокнот, и турист, нарисованный клубами пыли, всесте с ними кружат монастырь на Хевронском шоссе и оливы, они между войнами счастливы были.
Еще приложением обещанное из цикла «Деревьям»
N. N.
Ты думал, небеса — антенны, крыши,
А там деревья, только срок им вышел.
Ты думал, высота — аллеи, липы,
А там каникулы, досуг нам выпал.
Ты думал, там концерты, вернисажи,
А это оказались вязы, вязы.
Ты думал, облака — поля и нивы,
А это все оливы да оливы.
Ты думал, небо — простыни, постели
А это оказались ели, ели.
Ты думал, в небе улицы, колонны,
А это оказались клены, клены.
Ты думал, под рукою скат неровный,
А это оказались бревна, бревна.
И мостовая больше не кочевье —
На поле битвы павшие деревья.
И дерево, обняв сестру и брата
Легло под грунт, исполнив долг солдата.
To: squirrel@ nowhere.com
15 марта
Сегодня были в Бейт-Тихо. Тебе, кажется, по душе это место.
По всему дому развешены рисунки Анны Тихо. Иерусалим — трудная модель для художников. В живописи его практически нет пока. До недавнего времени, по крайней мере. В цвете он не дается, в последнюю минуту ускользает. Давид Робертс не в счет, это, на мой взгляд, этнографические акварели. Дело не только в том, что нет непрерывной культурной традиции, кишка тонка — Иерусалим написать. Но и изображений Б-га тоже нет, и попытки сыграть его на сцене провалились.
Хотя и есть такой Иерусалимский Театральный Клуб, где пытаются это сделать. Про это я фильм переводила. Но это не театр собственно, а попытки еще одного комментария к Танаху.
Цвета заката в Иерусалиме какие-то химические, небо грозное, как перед битвой. Мне объясняли, что такие краски из-за испарений Мертвого Моря, содержащих медь и никель.
Из современников мне очень нравится Джордж Кабасейрос, особенно жанровые сценки иерусалимского шука. (шук — на иврите рынок.) Он родился на Азорских островах, воевал во Вьетнаме, жил в Париже, теперь живет в Иерусалиме.
Бейт-Тихо — из старейших домов города, двойник тех, что построил создатель иерусалимского стиля Конрад Шик. (Помнишь Шведский Теологический институт на улице Пророков?) Похож на небольшой замок с привидениями, на крепость. Знаешь ли ты, что у врача — офтальмолога Тихо в 30-е годы собирались интеллигентные немецкие евреи, «йеке», как их здесь называют. Здесь бывали философы Мартин Бубер и Гершон Шолем, поэтесса Эльзе Ласкер-Шюлер. (Как раз на днях была в иерусалимском музее на выставке Шагала, увидела старую фотографию: Шагал и Анна Тихо.) У Анны Тихо — непричесанный ковыль, пустынный чертополох, лопухи, какие-то каменоломни среди полыни, растрепанные перекати — поле и колючая проволока кустарников, дикие травы, арабские дома, издали напоминающие голые черепа.
Вот еще из цикла «ДЕРЕВЬЯМ»: Но сточные воды сварливы, их мутный весенний набег, ты помнишь, на негативе чернел непроявленный снег. И радости нет беспредельней, под деревом насмерть стоять, но ствол, но канат корабельный, заплакать, прижаться, обнять. И голос из рощи размерен, и эхо отчетливей слов, не умер я, просто растерян, я слеплен из черных снегов.
Сейчас спешу на занятия, продолжу, надеюсь, завтра. Посылаю аттачментом вид со стороны нашего Гило на транспортную развязку.
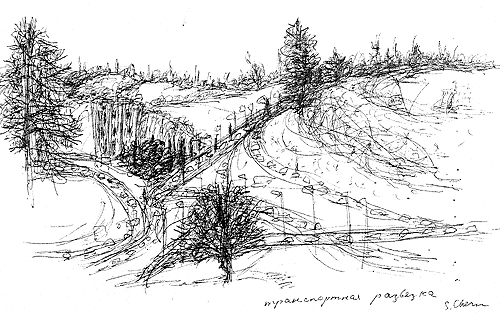
To: squirrel@ nowhere.com
25 марта
Что подумалось в этой связи:
Раз у меня сбылась мечта: я очутилась в Венеции. Приехав из пустыни, я, казалось, дорвалась до воды. Но там я много думала об Иерусалиме. Вроде они антиподы. В безводном Иерусалиме мне часто виделась Венеция. Под ней узенькая полоска земли, как подпись под текстом. (Такой я ее увидела впервые, высунувшись из окна поезда Падуя — Венеция. Был ливень, вода была снизу и сверху, возведенная в степень, она окружала город со всех сторон, зигзаг молнии освещал шпили).
Мне даже чудилось, что два города-побратима смотрятся в друг друга, как в отражения. Там город и вода, здесь — город и пустыня. На прогулках по Гило и Гива-Царфатиту я страдала от жажды, чудилась река, набережная. Но это был мираж на горизонте, хамсинный воздух над «вади» горбился, собирался в складки, то распускался парусом, то проваливался впадинами, барханные волны прикидывались водой. Осенило, что и вода и песок связаны со временем, подумала про песочные часы и водяные мельницы, лить воду на мельницу, перемелется… Для меня Иерусалим словно Венеция пунктиром, и дворцы на Дерех Хеврон похожи на палаццо мавританскими арками. У кладбищ обеих городов тоже есть сходство, и в гербах по льву.
Посылаю из новой книжки, видимо, будет называться «Смотри на обороте». И очередной иерусалимский рисунок с Масличной горой.

МАРИНА
Приливы Луна
Заберет навсегда,
Зачем ей земная
Дурная вода,
Но в лунном сиянии
Плыть веселей,
В то море, где кладбище
Всех кораблей,
Там мачты повалены,
Как тополя
И пухом покрыта
Морская земля,
Перина и мята,
Морская постель,
Но разве же, разве же
Это метель,
И все в лепестках,
И до дна пелена,
Но разве же, разве же
Это весна.
Вот мачта, как елка,
Огней хоровод,
Не нужен, не нужен
Такой Новый Год!
To: Squirrel@ nowhere.com
30 марта
Давно не были на могиле; наконец выбрались. Кладбище видно издалека, оно парит в облаках среди птиц, горных орлов. Подлетаешь к нему на машине, и, вроде, оказываешься не на могиле, а на том свете. Очертания Гиват-Шауля не похожи ни на одно место в мире, разве только на «Остров Мертвых» Беклина. Еще венецианский Сан-Микеле вспоминается. Те же кипарисы над оградой, только вместо волн барханы. И вокруг песок, вода Иерусалима. Я написала цикл «Пустыня и море», а после прочитала у Адина Штейнзальца, что еще одна черта роднит пустыню и море: нет пресной воды. Хар а-Менухот летает, Сан Микеле плывет, и там и здесь связь с землей ослаблена, эфемерна.
Мы плыли на вапоретто, вдруг перед глазами крупным планом воткнутая прямо в волны табличка «Cimitero». Гондола с похоронной процессией приближалась к часовне, гроб висел в воздухе, вплывал прямо из пучины в ворота. Смотри, это же «Остров Мертвых», подумали мы почти одновременно. Репродукция Беклина висела во всех гостиных начала прошлого века, в приемных дантистов, связываясь в сознании «с ворохами старых «Нив».
Помнишь, у Тэффи даже есть на эту тему рассказ. По ее словам, если в доме не висит Беклин, то в лучшем случае это значит, что люди только что переехали и не успели устроиться или переезжают, и он уже упакован, но чаще отсутствие его знаменует семейную драму или полный крах, когда люди уже ни на что не обращают внимания.
Наверно, стремление быть похороненным в Венеции или Иерусалиме — это желание идти до конца, пусть и смерть возведется в степень, пусть могила растворится в воде или растает в воздухе. По словам Бродского, лучшие стихи те, что похожи на время, как вода и песок. Вода для него — начало всех начал, но и «концы в воду» тоже… Может, Сан-Микеле кому-то заменил землю обетованную.
Хотела еще добавить, что могилу, ради которой мы стремились на остров, мы так и не нашли, обыскав всю греческо-православную часть, хотя мой спутник — знаток эмигрантских кладбищ. Искали где-то около Дягилева и Стравинского, помня про «тот канал, куда Стравинский поканал». Потом, оказалось, что могила в протестантской стороне. Народная тропа еще не была тогда протоптана, не было и указателя, как к Эзре Паунду.
Вот еще два стихотворения из МАРИНЫ.
МАРИНА
8
Доплыв до Венеции,
Сразу узнал
Таможню и кладбище
И арсенал.
Поющие трубы
Со ржавой водой
И города контур
Подсвечен бедой.
Кому-то кричали
Вернись с корабля,
Затянет трясина,
Морская земля.
Не слышит, седлает
Морского коня,
Он скоро доскачет
До дна, до меня.
Но листья на запах
Могилы летят,
Железный, стальной,
Жестяной листопад.
А жить так хотелось
Везде и нигде,
И плыть, и кружить
В легендарной воде.
9
Он доски для дома
На дюнах искал,
Для окон на пляже
Янтарь собирал
И звуков не слушал,
Что с разных сторон,
Но море, но море,
Малиновый звон.
Здесь небо все в трещинах,
С рваной каймой,
И море с оборванной
Бахромой.
Не умер, он просто
Устал покрывать
Небесною рябью
Земную тетрадь.
Но все записалось
Само на волнах
В журнал корабельный,
Морской альманах.
Посылаю еще один вид на Бейт-Джалу.

© Susanna Chernobrova
|

