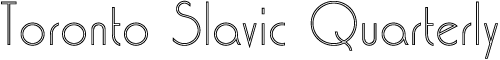Михаил Безродный
ЗАМЕТКА КРАЕВЕДА
Сопоставляя "Es treibt dich fort von Ort zu Ort..." и "Из края в край, из града в град...", Тынянов отметил звуковое подобие их зачинов: "Резкое рассечение цезурой; повторы:
s-tr-t-rt rt-rt
s-kr-kr gr-gr"
(Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 392; см. также: Там же. С. 34). Это наблюдение прочно утвердилось в научном обиходе и даже возбудило профессиональную ревность, судя по непроизвольной попытке его апроприировать: "Тынянов, однако, не указывает, что консонантный каркас первого стиха s-tr-t-rt-rt-rt имеет довольно близкую аналогию в первом же стихе русского стихотворения: s-kr-kr-s-gr-gr-t" (Тютчевский сборник. Таллинн, 1990. С. 38). Упрек незаслуженный: именно на это сходство - как на верный признак влияния Гейне на Тютчева - Тынянов указал.
Отмеченное им сходство, однако, никак нельзя назвать разительным, а при сравнении друг с другом неотредактированных транскрипций немецкого и русского стиха оно и вовсе исчезает. Но отнесем вопрос о его реальности к разряду вкусовых и зададимся другим: какую картину возникновения строки "Из края в край, из града в град" рисует тыняновское наблюдение? Воистину чудесную: получается, что Тютчев - осознанно или нет - подбирал такие русские слова, которые, будучи правильно расставлены, воспроизводили бы звуковую фактуру немецкого источника, и результатом этих опытов оказалась не нелепица, а энергичная и четкая формула.
Могла ли она появиться иным образом, не чудесным? Могла. Фразеологизм "из края в край" использовался для оформления темы скитания, например, Батюшковым ("Напрасно я скитался Из края в край..." и "Тому, кто в юности из края в край носился"), Языковым ("...и потому скитаюсь Из края в край...") и Огаревым ("Из края в край далекой Он с арфой звонкой за спиной Блуждает одиноко"), а подобное тютчевскому указание на судьбу как на причину скитаний "из края в край" имеется, например, у Давыдова ("Ношусь я, странник кочевой, Из края в край земли чужой; Несусь, куда несет суровый, Всему неизбежимый рок") и у Пушкина ("Из края в край преследуем грозой, Запутанный в сетях судьбы суровой"). Стоит также обратить внимание на случаи употребления "из края в край" и "из града в град" у Кюхельбекера ("Вотще из края в край течет!" и "За ним из града в град, из веси в весь"); особенно же примечательна близость тютчевского:
Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
и следующих строк из "Жребия поэта":
Из края в край, из весей в грады
Я был преследован судьбой.
Это сходство свидетельствует о необязательности прямых влияний: текст Кюхельбекера не мог быть известен Тютчеву. В свою очередь, текст Тютчева не мог быть известен Павловой, написавшей:
Вы переноситесь по воле
Из края в край, из града в град.
Чем объяснить дословное совпадение строк Тютчева и Павловой? Надо полагать, тем, что значительное формальное подобие двух синонимичных оборотов, из которых один уже превратился в клише, сделало весьма высокой степень вероятности их соединения.
In potentia в поэтическом языке присутствуют и более сложные конфигурации, чем связка из двух фразеологизмов. Вяземский, изображая героя, коего
Всегда из края мечет в край,
нюансировал эту характеристику с помощью антонимов:
Из рая в ад, из ада в рай!
(Пример подсказан Романом Лейбовым.) Звуковой парностью "край/рай" и смысловой - "ад/рай" воспользовался и Лермонтов, экспериментируя со сверхкоротким ямбом:
В далекий край
Уносишь ты
Мой ад, мой рай,
Мои мечты.
А Кюхельбекер связал "ад" и "рай (отрад)" не с "краем", а с "градом":
Их не страшат ни смерть, ни ад;
Бросают огнь в дрожащий град,
Свергают в прах богов святыни,
Стирают скалы и твердыни, -
И превращают рай отрад
В прибежище зверей пустыни.
Все это свидетельствовало о наличии предпосылок к появлению четверостишия, строки которого завершались бы словами "из края в край", "из града в град", "рай" и "ад". Кажется, первой, кто дописал это наполовину готовое буриме, была Цветаева:
Так из края в край,
Так из града в град
В правой рученьке - рай,
В левой рученьке - ад.
Неверным было бы, однако, полагать, будто строка Гейне "Es treibt dich fort von Ort zu Ort" вовсе не нашла отклика в русской поэзии. Нашла - в "Юморе" Огарева:
И я скачу von Ort zu Ort,
Отдавши деньги за паспорт.
© Michail Bezrodnyj
|