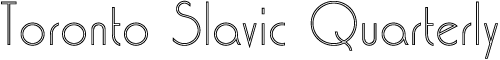Семен Вайман
Тютчев - вопросник
Тютчева я вижу в той стороне, в какой портрет его располагается на суперобложке двухтомника… Его нельзя "увидеть", он распредмечен. Нельзя увидеть ещё и потому, что он сам того не хотел бы.
Любимое стихотворение моё - "Ночное небо так угрюмо".
У меня создаётся впечатление, что, скажем, Заболоцкий вобрал в себя глубинные законы тютчевской поэтики. Да и не только он один. Тютчевское присутствие я понимаю не как непосредственное влияние, а как опыт в сакральном смысле. Это как путь астероида, кометы - из космоса, из гораздо большего объёма, чем можно себе представить, имея в виду движение из пункта А в пункт Б. При чтении ощущаешь влияние именно через Космос, то есть через целое.
Облик по стихам я себе никак не представляю. Я писал об этом в одной из своих статей: Тютчев не знает "отношения"; обычно человек как-то относится к природе, природа - к человеку, размышления предполагаются идущими по отрезку "хорошо-плохо". Вот этого предмета - расстояния "между" - нет. Но подобно тому как кубисты ощущали себя внутри предмета, о котором писали, Тютчев - не здесь, не на привычной человеческой "точке зрения", а там, внутри того предмета, из которого ведёт свой лирический репортаж.
Если мы согласились, что он гений, при чём тут времена, которые кому-то со- или не со-? Эта поэзия существовала даже тогда, когда её не было. По аналогии с тем, как Веселовский говорил о "петраркизме" до Петрарки, помните? Также можно говорить о "тютчевском" до Тютчева.
Символисты считали Тютчева своим "дедушкой", вслед за Мережковским повторяя, что у Тютчева "зараза в крови". Они ведь больные поэты - великие, но больные…
Мысли о Тютчеве
…По способу духовно-творческого самоутверждения Тютчев - гениальный лирический актёр, посредник, исполнитель. Многочисленные прямые заимствования из Державина, Пушкина, Некрасова, Сушкова, Илличевского, Бенедиктова, Гейне, Гёте и других - наиболее наглядное проявление этой позиции. …Своеобразнейшее строение личности великого поэта: даже интерес к спиритизму оказывается следствием установки на передачу своего в форме чужого.
Но и там, где… заимствований нет, посреднический, медиумический статус Тютчева проступает достаточно резко. Эта внутренняя интимная близость к некоему высшему духовному авторитету определяет высоту тютчевской интонации: как правило, она аксиоматична, итогова, непререкаема. Слово Тютчева не ищет, но информирует, ставит в известность; не узнаёт, но уже знает. Поучительный пример - его пророческое "есть" ("Есть в осени первоначальной…", "Две силы есть…", "Певучесть есть…", "В разлуке есть…" и др.)…
И надо сказать, что исполнительски Тютчев относится ко всякому чужому слову, даже к своему собственному. Стихотворение, написанное вчера, десять или двадцать лет назад, сегодня воспринимается им как чужой сценарий, и сам он в этом случае - не более чем постановщик-интерпретатор собственной художественной концепции… Обширная переводческая деятельность Тютчева - ягода того же поля: она - лишь вариант и предельно открытая форма движения его медиумического, переводческого сознания.
…Истина, как мне представляется, состоит в том, что Тютчев - не философ, но мудрец. Несходство этих понятий существенно. Если "философия" - знание, выпаренное из жизненного опыта, то мудрость - знание, ещё дремлющее в нём, не отпавшее от него. Это - знание живое, чуждое книжности и умозрительности, - не мысль о бытии (философия), но само бытие. Это - цельное, корявое знание, адресованное глазу, уху, рукам, минуя момент абстракции.
…"Гносеология" для Тютчева не характерна; он - поэт "онтологический", бытийный; он - мудрец, не отгораживающий мысли от опыта. Вы заметили, конечно, с какой неотвратимостью во многих тютчевских миниатюрах за "днём" следует "ночь" ("тень"), или наоборот. Ну, вот хотя бы это:
Весь день она лежала в забытьи,
И всю её уж тени покрывали
(I, 194).
Или:
День потухающий дымился,
Сходила ночь, туман вставал
(I, 190).
Или ещё:
Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный…
(I, 118).
В поэтическом космосе Тютчева каждое из этих состояний чуть ли не фатально порождает противоположное, и внимательный, понимающий читательский глаз то и дело доверчиво движется от одного к другому - от полюса к полюсу. В этом взаимопритяжении "дня" и "ночи" уже объективно заключена вполне определённая "философия" - мысль о роковой неизбежности смены времён…
Тут сразу же приходят на ум предлоги проникновения - многочисленные "под", "чрез", "из-за", "сквозь". Кажется: взгляд Тютчева то и дело добирается до изнанки, до потаённого плана, спешит по ту сторону наглядности (сквозь ресницы - огнь желанья, сквозь зелень - кровь и т. д.) - словом, сквозь явление - к сущности.
Меж тем подлинная художественная оригинальность Тютчева состоит в том, что он никуда не проникает, его "сущность" - это и его "явление". Именно специальному философскому проскальзыванию сквозь явление в сущность он противопоставляет великолепную феноменальную цельность бытия.
…Единица художественного мышления Тютчева - ни "день", ни "ночь", а роковой союз "дня" и "ночи": "день"-"ночь" - образ "двойного бытия". Парность - общее свойство тютчевского поэтического сознания: "двойная правда", "двойное горе", "двойная бездна"… Двойную интонацию лелеет в себе "итак": это итог и начало, колыбель и старческий посох. Двойное состояние "ухватывает" синтаксическая конструкция "Ещё… а …" - здесь прошлое застигнуто врасплох настоящим ("Ещё земли печален вид, / А воздух уж весною дышит").
В системе двойной образности - антиномические пары "дневных" и "ночных" слов. Слова "дневные" - "златотканые", информативные; "ночные" - оттуда, из шевелящегося хаоса, смутные и тревожные. Обычно это те же "дневные" слова, только вздрогнувшие и оцепеневшие: ветр, глас, огнь, стебль. Эта архаичная форма таит в себе ощущение грозной и губительной мощи.
Слова "дневные" - механичны, слова "ночные" - органичны, духовны. "Звёзды на небе сияли" - это доступно визуальному наблюдению, "Звёзды чистые горели" - это уже скорее внутреннее видение. Точно так ("механика" - "органика") соотносятся "пламя" и "огнь" ("огонь").
Эволюция тютчевской лексики - её постепенная поляризация - привела к формированию устойчивых поэтических антиномий; сходные или родственные слова становятся разносчиками полярных ощущений - их фонетическая и семантическая близость ("ветер" - "ветр") позволяет острей пережить психологическую их несовместимость.
И Тютчев не только пластически запечатлел состояние "двоемирия", но ещё и художественно скомпрометировал его, создав внутри своего искусства грандиозный образ органической сплочённости всех живых сил бытия. Этот космический союз основан на особом понимании сущего как непрерывного потока жизненной энергии. Тютчев осознаёт себя частицей этого потока, его лирические миниатюры - не взгляд со стороны, но скорее репортаж "с места события".
"Внешнее" и "внутреннее" у него неразличимо совмещены, меж ними не сквозит отношение. Отсюда - бездна типично тютчевских парадоксов. Скажем, таинственно не то, что скрыто, а то, что раскрыто; не смутное, но ясное и явное.
Нет у Тютчева "там" и "здесь". Его "там" - тоже "здесь". У символиста высшая, предельно авторитетная духовность угадывается в "проломах" и "просветах" - по ту сторону сущего; у Тютчева материя и дух включены (лучше: вживлены) в неизмеримо более широкое, всеобъемлющее поле, где духовность - та же, только изнеможенная, материальность.
У Тютчева… процесс изнеможения приобретает методологический смысл, захватывает не только "что", но и "как", то есть строение самой художественной мысли. Тютчев творчески оспаривает романтическое "двоемирие", совлекая с материи и духа проклятие антиномичности.
Не иносказательно, а вполне натурально сумрак у него льётся в душу, локон играет с незримой мечтой, морская пена врывается в сновидение, сны объемлют землю, думы витают над спящим городом и т. д. Тютчевские сны, дремота, веяния, колыханья, шорохи - это полуматерия-полудух, своеобразные формы примирения материи и духа.
Общие закономерности тютчевской лирической образности с особой полнотою движутся в той сфере, что составляет едва ли не самую значительную часть наследия великого поэта - собственно пейзаж. …Тютчевская природа одновременно объектна (предмет художественного содержания) и субъектна (органическая вовлечённость в неё творящего духа).
…В целом эволюция творческого мышления Тютчева сопровождалась постепенным преодолением дуализма природы и человека, их аллегорической соотнесённости (ср. "В толпе людей, в нескромном шуме дня…", "Через ливонские я проезжал поля" и "Осенний вечер").
…Тютчев тяготится отношением к природе. Точнее: испытывает муку отношения к ней. Он тоскует по сплошному, непрерывному и цельному бытию, где дух столь же объектен, как и корявое тело "натуры".
И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды.
Откуда ведёт свой "знобящий" лирический репортаж поэт? Конечно же, "оттуда", изнутри предмета, с места события. Мы чудовищно опошлили бы эту тютчевскую ситуацию, если б восприняли её, скажем, как обычную "пейзажную зарисовку": вот - следящее око, вот - натура.
Тютчевская природа не очеловечена, не одушевлена в обычном эстетико-философском понимании этих слов. Духовность и вещественность у него уравнены в правах: они входят в состав всеохватной - космической - инстанции. Когда Тютчев говорит:
Бродить без дела и без цели,
И ненароком, на лету,
Набресть на свежий дух синели
Или на светлую мечту… -
(I, 73)
это следует трактовать не метафорически, не по законам пушкинской поэтики, но буквально: светлая мечта здесь столь же "вещественна", как и запах сирени.
В стихотворении "День вечереет, ночь близка…" - усилие развести "небесное" и "земное": "волшебный призрак" представляется поэту то нездешним и бесплотным, то вполне телесным, то причудливым сочетанием того и другого. В этой художественной материализации духа - подлинное его возвышение - эстетическая апология внутренней самостоятельности, интеллектуальной независимости человека.
Ни человек не подражает у Тютчева природе, ни природа - человеку. Просто в разных точках всеохватного бытия "работают" одни и те же законы.
Дума за думой, волна за волной -
Два проявленья стихии одной
(I, 131 ).
И это - не уподобление думы волне, но именно бытийное равноправие их. На общей, непрерывной линии сущего "располагаются" гром, огонь и страсть ("Поэзия"); дева, воздух, роза, стрекоза, туча, молния - равновеликие "персонажи" предгрозовой драмы, и потому процесс накопления бродильных сил, начатый "там", естественно продолжается "здесь".
…Может показаться, что принципу "единорядности" противоречит открытый параллелизм в строении некоторых тютчевских миниатюр. …Повелительно-иллюстративное "так" либо сходные синтаксические конструкции тут-то и обнаруживают свою подлинную природу: они - атавистический след исчезнувших художественных формаций - классицизма и особенно "просветительского" реализма с их дидактическими, "сопоставительными" фигурами и прочими "морализаторскими" пристрастиями:
Так и в груди осиротелой…
(I, 58)
Так иногда, осеннею порой…
(I, 109)
Так, весь обвеян дуновеньем…
(I, 223)
Перечитаем одну из "параллелистичных" тютчевских миниатюр.
Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла -
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.
О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его - лови скорей!
Смотри - оно уж побледнело,
Ещё минута, две - и что ж?
Ушло, как то уйдёт всецело,
Чем ты и дышишь и живёшь
(I, 204)
Поначалу бросается в глаза чёткая двухчастность этой миниатюры. С точки зрения "традиционной" поэтики здесь ничего проблематичного в плане восприятия нет: печально-кратковременная жизнь радуги напомнила человеку кратковременную яркость его собственных идеалов и влечений. Такое восприятие, несомненно, гносеологично: глядишься в явление - проникаешь в сущность. Ситуация познания очерчена твёрдым контуром: с одной стороны, на одном полюсе, "здесь", - следящий глаз; на другом, "там", - созерцаемая картина. План сознания и - план бытия.
И всё-таки, если попытаться воспринять эту миниатюру по законам тютчевской поэтики, многое покажется в ней иным, предстанет в ином свете. Обнаружится, например, что вторая строфа - вовсе не "человеческая" параллель к первой, "природной". Она - продолжение и развитие общей темы в другой, именно "человеческой", точке бытия.
Слово "изнемогла", расположенное на стыке строф, как раз осуществляет переход от материи к духу, от природы - к человеку. Первая строфа величественна, монументальна, покойно-архитектурна. Это - кладка мраморных плит. Четыре однотипных глагола, планомерно венчающие 5 - 8-й стихи (вонзила, ушла, обхватила, изнемогла), создают атмосферу сосредоточенного, расчленённого на простейшие акты, высокого деяния.
Все силы и средства - метрические, поэтико-синтаксические и интонационные - брошены здесь на важнейший участок художественного содержания - на торможение стихового темпа (утяжеляющие инверсии, неспешная лексика и т. д.).
Во второй строфе - дробность, суета, лихорадка, погоня за благами. <…> "Односторонняя"… и монолитная глагольность первой строфы словно расщепляется, изнемогает, двоится во второй (лови - лови; смотри - побледнело; ушло - уйдёт; дышишь - живёшь). Мелькают уточнения, ощущается приблизительность.
…Величавую кантилену, дважды мелодически опоясывающую первую строфу, сменяет ритмическая одышка, аритмия. Повышенная дискретность речи, толчея слов, выкрики, гонка впечатлений - всё это симптомы "механизации" жизни, утраты ею былой монолитности… Стихотворение Тютчева - именно о трагической гибели красоты, о неумолимом, роковом расторжении связей внутри бытия, одновременно человеческого и природного, о цельности, сначала изнемогшей, а затем и вовсе распавшейся на компоненты.
Именно в особой, безотносительной форме соединения природы и человека, в поисках высшей цельности сущего, а вовсе не в изображении сияющих высей и пылающей мировой бездны проявляется прежде всего космичность тютчевского сознания. Иначе говоря, Тютчев "космичен" не по объекту изображения…, а по способу изображения объекта.
Порыв к небу, к стерильной "тверди благодатной" - это динамический образ расширяющегося чувства, тоски по иной, "божеско-всемирной" полноте общения, отказ от инерции "жизни частной".
…Идея экстенсификации человеческих взаимосвязей получает у Тютчева эмблематичное выражение; это - образ страстно расширяющегося пространства. Порыв от земли ("густого слоя") к небу, влечение ввысь, к ослепительной чистоте - типично тютчевское состояние. Его творческий путь начинается с акта "вознесения" над "дольным миром", "туманною и тесной / Волнений и сует обвитым пеленой" (II, 17), и завершается восхождением на вершину времени:
И я теперь на голой вышине
Стою один - и пусто всё кругом
(I, 224).
Небо у Тютчева многозначно. Это - высшая, родственная человеку духовная реальность, средоточие чистоты и ясности, органической цельности - в отличие от "небесного свода" или "небосклона", которые можно обозреть, "привстав", которые механически перемещаются (звёзды приподнимают небесный свод "своими влажными главами"), опускаются (I, 92) и за которыми можно скрыться (I, 77). От этого, физического, неба протягиваются нити к земле: дождевые струи, ключ, бегущий с гор в долину, и т. д.
Любопытная деталь: "небо" и семантически тяготеющий к нему лексический пучок ("небеса", "небесный", "небосклон", "небесный свод", "твердь", "лазурь") встречаются у Тютчева в 162 случаях, из них "небосклон" и "небесный свод" - лишь в тринадцати.
…И вот парадоксы: чем выше тютчевское небо, тем оно родней и духовней; чем ниже, тем отчуждённей и физичней. Когда же между небом и землёй исчезает интервал, когда "небесный свод" сливается с пламенными песками (I, 34), колесница мирозданья вкатывается в "святилище небес" (I, 17), свинцовый небосклон нависает над головою (I, 92), тогда воцаряется "безумие", "холод", "беспамятство", пространство между небом и землёй вытягивается в узкую щель для крика о боли и спасении.
Однако образ физической "неизмеримости" бытия - безгранично расширяющейся сферы - движется в тютчевской лирике в формах не столько прямого, сколько "относительного" отражения. Словно растягивая космическую материю, немыслимо напрягая мощные, гигантские тела, светлые звёзды приподнимают тяготеющий над человечеством "небесный свод" (I, 16) - чтобы легче и вольней дышалось на земле людям! Пространство глыбится, вздымается и, точно гром, откатывается во все стороны в тот момент, когда могущественное побеждается ещё более могущественным, - ну, скажем, когда "под незримою пятой" невидимых гигантов сгибаются и никнут "лесные исполины" (I, 140).
…Тютчев развёртывает и растягивает пространство, промеряя его сначала сверху вниз ("Внизу, в тени, шумел Дунай"), а затем снизу вверх ("И на холму, там, где, белея, / Руина замка вдаль глядит, / Стояла ты…"), расчищая, освобождая от подробностей и, таким образом, возвращая ему изначальную "незахламлённость" и обширность.
Или: исчезающе-малое подвёрстывая к безмерно-мировому, вселенскому: одинокий "тонкий волос" паутины на "праздной борозде" и - опустошённая осенняя огромность мирозданья; одинокий "мёртвый стебль" и - земля; незащищённое "я" и - "всеобъемлющее море"; чёлн и - "пылающая бездна" (I, 29); звезда и - недостижимое ночное небо (I, 105) и т. п.
Для Тютчева поэтически важно, чтобы читатель всякий раз ощущал единичные итоги работы мира: безумствующий океан выбрасывает на берег жемчужину или щепку; из непроглядной тьмы выходит золотой дворцовый купол (I, 177); дрожжевая атмосфера предгрозья выплёскивает две девичьи слезы (I, 60); словно посовещавшись в минуту бедствия, "лесные исполины" приносят в жертву разгневанной стихии жёлтый лист…
…Тютчев - один из самых мужественных русских лириков. Он испытывает человека "пропастию тёмной", безбожием, пугает стооким зверем, шевелящимся хаосом, апокалипсическими кошмарами, лишает укатанной дороги, насиженного гнезда, выводит на грозовые просторы мирозданья, под открытое небо, лицом к лицу сталкивает с историей, человечеством, с космической неоглядностью бытия, отучает от уютных, свалявшихся грамматических форм, оглушает громом и ослепляет молнией, словно Вергилий Данте, проводит по всем уступам земного пекла.
Мучает и терзает. Чтобы спасти. Чтобы уберечь от духовной немоты, расслабленности, морального изнеможения. Чтобы вызвать к деятельной жизни, поднять со дна души потаенные ресурсы стойкости, воли к сопротивлению "бессмертной пошлости людской".
© Semen Vaiman
|