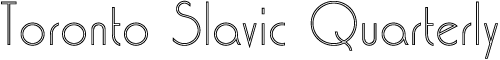Ирина Великодная
На правах рукописи
Можно, перефразировав Антона Павловича Чехова, сказать, что "все бледнеет" и перед рукописями тоже. Расхожая фраза о том, что "рукописи не горят", достаточно мифологична, поэтому в эти слова так хочется верить. Но куда же тогда исчезают десятки, а может и сотни, боюсь продолжить этот ряд, рукописных творений, которые независимо от количества - одна ли это страница или целая рукописная книга - для сознания хранителя остается просто и только рукописью… и все равно веришь, как в сказку, как в миф: "А вдруг? Может еще обнаружится в каком-нибудь хранилище, в частной коллекции…" И такое случается тоже. От этого и вера в чудо. Но вера в эту магическую цитату сильна и потому, что появляющаяся периодически фраза в сногшибательных сообщениях о том или ином открытии в области литературы, живописи и пр., которые чаще всего начинаются со слов, столь знакомых любому читателю прессы, но столь строго понятных лишь "хранителям древностей": "…В фондах музея обнаружено…." или "В известном московском архиве среди бумаг дела №…. выявлены…" и т.д.
Да, к сожалению, известно как богаты российские архивы, как переполнены рукописными сокровищами фонды больших и малых музеев, о которых мало кто знает, как бессмысленно укомплектованы книгохранилища разнообразного калибра библиотек опять же рукописными материалами, как известны своими странными пристрастиями провинциальные да и столичные собиратели-чудаки - их "несть числа", а c их коллекциями знакомы лишь специалисты или узкий круг людей из того же круга… Но за последние годы архивных справочников или описаний рукописных коллекций, которые можно назвать действительно истинными архивными или рукописными путеводителями, появилось совсем немного. Тиражи их просто смешны, а усилия, приложенные для их создания и издания, - не-че-ло-ве-чес-кие! Тысячи разрозненных рукописных листков лежат и ждут своего часа, ждут, когда рука архивиста или рукописника прикоснется к ним, систематизирует, опишет, пронумерует, внесет в опись и тем самым даст возможность быть прочитанным, услышанным, наконец кому-то нужным… а эти рукописные строки так необходимы тысячам исследователей и просто читателям, которые хотят восполнить "белые пятна" нашей истории, культуры, искусства, просто хотят воспроизвести в памяти те или иные события, просто хотят вспомнить, как выглядел тот или иной эпизод прошлого, хотят воссоздать генеалогию своего рода или фамилии… а иногда просто хотят знать: было ли?
Парадоксально выглядит та ситуация, которая с некоей композиционной взвешенностью и почти театральной паузой, упорно является нам и в области архивного и библиотечного дела: в эпоху закрытости архивных и рукописных фондов невозможно было устроиться на эту работу; чтобы стать сотрудником архива или отдела редких книг, рукописей библиотеки или музея надо было пройти тройной контроль известных инстанций, некий конкурс, иметь рекомендации и характеристики и пр., пр., пр. Что же ныне? Наступило время, когда фонды стали доступны и открыты, издаются даже те архивы, которые еще 10 лет назад казались закрытыми навечно, но… никто не спешит пополнить ряды архивистов и библиотечно-музейных работников, изучать, описывать и издавать, издавать, издавать, хотя за последние годы сделано достаточно много, огромный корпус материалов введен в научный оборот, но если знать общее количество непознанного, неописанного, неопознанного… то понимаешь, какая армия работников архивов и библиотек может спасти нас. Архивист - страшно непопулярная профессия. Да она и просто исчезает, как специальность. Делопроизводитель - это более денежно и популярно. Кто же опишет и поставит на полку эти сотни и тысячи рукописных листков? Когда? Поэтому будучи отчасти осененным иногда более глубокими знаниями не по причине особых знаний, а по причине реального и детального представления "карты архивов", понимаешь насколько та или иная картина исследований остается все-таки эфемерной. Произносится, на первый взгляд, новое слово в исследовании того или иного персонажа, того или иного явления, и это - очевидно, но тут же в воображении вырисовывается картинка: некий архивный "чернорабочий" случайно прочитывает некое "новое слово" и криво усмехается: "А как же наши бумаги по этому же поводу? Они бы точно помогли сказать несказанное…" - и идет убедиться, что пока все неизменно… В сложившейся ситуации приходится часто сталкиваться с указаниями на неразобранные бумаги, в последнее время часто попадаются сноски на первичные описи, на предварительные описи. И это хоть какое-то знание.
Расхожее мнение, что в небольшом архиве или рукописном хранилище царит полный порядок чаще бывает обманчивым. При внешней ухоженности документов и раритетов - имеются картотеки, некие описи, хранители легко и быстро выдают необходимые заказанные дела или документы - тем не менее при более пристальном изучении положения дел выясняется, что трудно понять из заголовка единицы хранения суть документа, заказанная единица не соответствует указанной в описи датировке - и это самые простые недочеты. Имеются случаи и удивительные: владельцы, сдавшие архивы своими собственными руками, предлагают сотрудникам свою помощь в описании документов, потому что обладают теми знаниями, которые очевидно понадобятся при описании бумаг, при определении заголовков, оценке раритетности и пр. Владельцам вежливо отказывают, всегда ссылаясь на высокую квалификацию сотрудников государственного хранилища. Позже выясняется, что название уникальной рукописи внесено в опись всего лишь по первой строке текста, хотя известно полное название, авторство, имеются списки, издания и пр. Владелец ничего уже не может изменить. И тогда происходит обратное - известное переходит в разряд неизвестного стараниями "высококвалифицированных сотрудников". Мне самой доводилось сдавать личные архивы на "вечное хранение". Я тоже знаю, что кроме меня никто не сможет описать многосотенное собрание писем известного московского библиофила и собирателя, поскольку эта переписка среди членов большой старомосковской семьи велась в виде рассказов для будущего поколения, поэтому все имена членов семейства домашние и кто есть кто осталось только в моей памяти. Переписка хранит много интересного из культурной жизни Москвы рубежа 19-20 веков. Но пока никто не спешит спросить меня об этом.
Давно не слышно привычного уху словосочетания "на правах рукописи". А ведь это - одна из важнейших категорий раритетности. Несомненно, что при утрате авторской рукописи первое издание произведения принимает на себя особую ответственность. Но разряд изданий категории "на правах рукописи" - лишнее раздражение для рядового хранителя, тем более что существующее количество ГОСТов, методичек и распоряжений не вносит ясности: как же хранить издание среди рукописных материалов? как доказать принадлежность книги к рукописной части фонда? и пр. Если же подобные издания остаются в книжном ряду, то их ждет традиционный образ жизни - быть выдаваемыми в читальные залы без всякого понимания и внимания к экземпляру. Так, например, не первое издание "Горя от ума" с многочисленными рукописными вставками в текст должно храниться "на правах рукописи", поскольку дополняет многочисленные рукописные варианты текста. Некоторые первые прижизненные издания произведений, подготовленные самими авторами, вполне могут претендовать на подобную квалификацию, поскольку несут следы авторского участия. Иногда это и не первые издания, но с пометами и поправками авторов, как бы редакторские экземпляры, "приготовляемые" к следующему выходу в свет. Ведь ценятся цензорские экземпляры прижизненных изданий А.С. Пушкина на вес золота, а цензорские экземпляры многих других авторов - пока остаются в ряду просто изданий…Количество сохранившихся первых изданий "Слова о полку Игореве…" подсчитано специалистами, каждый экземпляр - уникум, что понятно. Но подобных примеров много, хотя значение текста - особый вопрос, но не об этом сейчас идет речь…
Всегда важна та "золотая середина", которой достигают вероятно только некоторые в той или иной области, в том или ином деле, в творчестве ли, в исследованиях ли, в научных изысканиях ли. Хранение редкостей - это и исследование, и научное изыскание, и, несомненно, творчество, хотя последнее можно понять и превратно… Тут -то и важно найти "золотую середину", чтобы избавиться от "не пущать! не давать!", столь знакомому легиону исследователей, которые в поисках доказательств получают для обозрения лишь верхнюю часть айсберга, но и не впасть бы в бездумное использование всего и вся.
И тем не менее в фонды поступают новые рукописи, поступают новые архивы, новые неизвестные страницы прошлого приобретаются государственными хранилищами в надежде, что они все-таки сохранятся, будут когда-то доступны, в надежде и с верой, что "рукописи не горят"…
Архивный фонд Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им.М.В.Ломоносова можно сказать случайное собрание, поскольку большая часть архивов - это личные архивы, поступившие сюда, в основном, вместе с книжными собраниями, никогда Библиотека не вела целенаправленного комплектования архивных материалов. И даже среди этого небольшого количества личных архивов - более 40 - имеются неоценимые… критерий этот смешон и скорее эмоционален, ведь для хранителя рукописей, архивов - неоценима любая рукописная помета. Как осознать, что ценно в большей степени? Тетрадный лист с записью детским почерком еще неведомого миру будущего писателя и поэта Андрея Белого или пока неизвестный автограф, хранящийся рядом? Чей он? Когда мы сможем ответить на этот вопрос, ценность этих раритетов может стать равноправной, а может и превысить первый… Большая часть архивов Библиотеки не заявлена в справочнике личных архивов, поскольку лишь в последнее время эти материалы были окончательно обработаны и получили свои описи, а многие ждут своего часа… Архивные хранения, подобные нашему, должны развиваться и отчасти развиваются по законам нестандартным. Подаренный архив вместе с владельческой библиотекой часто по желанию дарителя хранится вместе - что невозможно для традиционных хранилищ. Библиотека помогает изучать архив, а архив дополняет библиотеку, что вместе является дополнением к пониманию образа дарителя, личности ученого, круга его интересов, творческих замыслов и поисков. И с точки зрения разработчиков методик хранения подобное недопустимо, но очевидно человечнее, и по опыту хранения можно утвердительно сказать - логичнее. Понятно стремление все стандартизировать, особенно в такой стране, как наша, с такими масштабами ценностей, но разумно-творческий подход в сохранении этих ценностей иногда важнее. Архивный корпус материалов по истории Московского университета, как известно, разбросан в нескольких архивах Москвы, если брать только столичные хранения, в которых подчас трудно бывает выяснить логику перемещения и поступления этих материалов. И, к сожалению, вряд ли в ближайшее время появится справочник, который мог бы дать исчерпывающую информацию о наличии архивных и рукописных материалов по истории Московского университета хотя бы по центральным хранилищам.
Московский университет подходит к своему 250-летнему юбилею, который случится зимой 2005 года. В это трудно поверить… Университет, который всегда рядом, всегда полон молодых голосов и идей, в нем рождаются новые факультеты, новые институты… и вот - 250 лет! К своему нынешнему дню рождения Университетская Библиотека получила в дар от Попечительского Совета МГУ небольшую рукопись. Это - несколько современных школьных тетрадей, исписанных аккуратным почерком и пачка уже отпечатанных на машинописной машинке листов. Рукопись представляет собой мемуары Бориса Николаевича Александровского (1893 - 1988) - выпускника медицинского факультета Московского университета, врача, автора книги "Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта" (М., 1969 г.). Автор - племянник Михаила Ивановича Александровского, известного составителя ценнейшего и уникального "Указателя московских церквей". О перипетиях жизни Бориса Николаевича можно узнать из его книги, правда, увидела она свет в советское время, поэтому неизвестно, что осталось за рамками этого издания. Мемуарный жанр имеет свои известные особенности, поэтому в этой книге автор, вероятно, поставил перед собой задачу больше рассказать не о себе, а о своем времени. По каким-то причинам полученная в дар часть мемуаров не вошла в книгу, повествование которой начинается с октября 1920 года, а рукопись представляет нам московскую жизнь рубежа 19 - 20 веков. У этой рукописи счастливая судьба - она сохранилась до наших дней, владелица этой рукописи предложила ее купить именно Университету, которому эта рукопись более всего необходима, Попечительский Совет МГУ выделил необходимую сумму денег на приобретение рукописи, и скорей всего этот документ не только будет описан в ближайшее время, но и издан со всеми необходимыми комментариями. Это - счастливое стечение обстоятельств. Ведь для многих других архивов подобная рукопись - то, без чего можно обойтись: срабатывает принцип собирания исключительных предметов, к которому столь приучены хранители. Но ведь "исключительность" понятие относительное. Вот некоторые отрывки из этой рукописи:
Борис Александровский (из воспоминаний)
"Последние годы прошлого века… Москва… 1-ая Мещанская… Детская больница Святой Ольги… Или Ольгинская больница… Или просто Больница… Но в моем сознании непременно - с большой буквы, потому что среди больниц всего мира она - единственная, при одном названии которой сладко замирает мое сердце, а сам я целиком погружаюсь в мир лучезарных воспоминаний…
Я родился 18 декабря 1893 года (здесь и далее даты даются по старому стилю - И.В.) Мой отец Николай Иванович Александровский, врач, состоял старшим ординатором этой больницы. Моя мать Варвара Федоровна Кичкина, родом из города Скопина Рязанской губернии, была преподавательницей музыки по классу фортепиано в женском Александровском институте, находившемся на Божедомке. Я был младшим сыном в семье. Старшим был мой брат Леонид, на 3 года старше меня.
Больница находилась в ведении Императорского человеколюбивого общества, но как и другие больницы подобного рода, считалась "казенной". Находилась она на 1ой Мещанской ул. (ныне Проспект Мира) напротив Капельского переулка и уничтоженной в первые годы после Революции приходской церкви Троицы, что на Капельках. Впоследствии мне неоднократно приходилось слышать, что такое колоритное название этой церкви ведет свое начало будто бы от некоего московского трактирщика, недоливавшего по несколько капелек водки каждому своему клиенту, в результате чего в исходе нескольких десятилетий эти "капельки" составили столь объемистое ее количество, что от продажи его трактирщик выручил кругленькую сумму, на которую, по данному обету, и выстроил церковь.
Ныне основные здания Ольгинской больницы вошли в состав одной из больниц Московского Горздравотдела, но громадная территория прежней больницы подверглась столь значительным изменениями, что совершенно утратила свой первоначальный облик.
Главный въезд в Больницу был со стороны 1ой Мещанской и начинался он окрашенными в "казенный" темно-желтый цвет воротами, на верху которых была водружена икона Святой Ольги, выполненная по эскизам известного художника В.Васнецова. "Васнецовский стиль" икон - подчеркнуто-суровые аскетические лики - тогда входил в моду, но только - среди людей, так или иначе причастных к живописи или, хотя бы, разбирающихся в ней. Большинство же обывателей относились к нему резко отрицательно, видя в нем только нарушение основных канонов традиционной иконописи и ничего больше.
Направо от ворот сразу начиналась отгороженная деревянным забором территория профессионально-технического училища, широко известного среди москвичей под названием "Набилковского училища". Налево - длинный двухэтажный, все также "казенно" окрашенный дом, весь верхний этаж которого был занят квартирой главного врача больницы, детского хирурга и уролога Леонтия Петровича Александрова, а нижний - квартирой одного из педиатров больницы Александра Андреевича Киселя, впоследствии, после Революции, профессора и общественного деятеля в области охраны младенчества.
Через больничные ворота посетители проходили по аллее в находившийся в отдалении два собственного больничные корпуса - стационар и амбулаторию с аптекой.
По правую руку аллеи тянулся, как я уже упомянул, деревянный забор, отгораживающий от больничной территории сад Набилковского училища, а по левую - палисадник со стоящим в нем двухэтажным деревянным домом, окрашенным в краску серо-голубоватого цвета. Здесь, во втором этаже слева - моя колыбель.
Сзади нашего деревянного дома был небольшой двор, а за ним - большая кухня, склад дров и блок одноэтажных деревянных домиков, в которых жили низшие служащие: привратники, кухарки, няни, истопники, сторожа и т.д.
За этими домиками были расположены вышеназванные два больничных корпуса. По тем временам это были довольно солидные здания, построенные из кирпича, но не отштукатуренные. Я видел их в последний раз в середине 60-х годов: они полностью сохранили свой первоначальный облик.
При Больнице, сбоку от стационара, был громадный сад. Одна из его аллей была отведена для игр, катания с гор и на коньках для нас, детей персонала Больницы. Но на основную его часть, где гуляли больные, нам ходить не разрешалось. Здесь был великолепный цветник, издававший какой-то особенный терпкий запах, запомнившийся мне на всю жизнь. По бокам дорожек и аллей стояли на постаментах зеркальные шары, постоянно привлекавшие мое детское воображение.
Сзади стационара и амбулатории расстилался грандиозный луг, отгороженный от остальной территории Больницы колючей проволокой. На нем в теплое время года паслись больничные коровы. Хорошо помню, что их было семь.
Сейчас трудно себе представить, что на территории города могли существовать такие незастроенные пространства, как этот луг и сад. В те времена, наоборот, это было обычным явлением.
Когда в конце 40-х годов после 30-летнего перерыва я посетил эти родные и дорогие сердцу места, от прежней Больницы остались только два вышеупомянутых корпуса. Все остальные дома, домики, домишки, ворота и заборы были снесены. В их числе - и достопамятный двухэтажный деревянный дом, в котором я родился и провел первые 6 лет моей жизни.
Вход в Больницу со стороны 1ой Мещанской (Проспект Мира) загородил выстроенный после войны грандиозный 10-этажный дом. Теперь вход и въезд в современную Горздравотделскую больницу осуществляется через узкий переулок, проложенный в сторону Переславльской улицы со стороны 1ой Мещанской еще в начале нынешнего века. Ему было в сове время дано весьма неблагозвучное название - Девкин переулок, вскоре измененное по просьбе жителей этого квартала на более приемлемое - Проломный переулок.
Больничный луг исчез: он целиком застроен частью новыми больничными корпусами, частью отошел к внебольничной территории, на которой в свою очередь возведены многоэтажные здания и проложены новые переулки. Подвергся частичному усекновению и больничный сад.
Нынешний Проспект Мира тоже полностью утратил облик 1ой Мещанской. Эта улица подобно старой Садовой отличались от всех прочих улиц Москвы наличием непрерывной цепи расположенных перед каждым домом палисадников, в которых было немало деревьев очень солидного возраста. Тротуары были узкие. Проезжая часть улицы, крытая булыжником, - тоже. Если представить себе, что ширина теперешнего Проспекта Мира со снесенными давным-давно палисадниками вдруг сузилась бы до ширины прежней 1ой Мещанской, то в первые же часы после этого на нем образовалась бы непробиваемая пробка автотранспорта".
"… Итак, в конце лета 1904 мы поселились в доме Владимирова на Зубовском бульваре. Возник вопрос, в какое учебное заведение меня отдавать? Мы приехали из Крыма в Москву с некоторым запозданием - занятия в учебных заведениях уже начались. Территориально ближе всего к нам была расположенная на Девичьем поле 8-ая (Шелапутинская) гиманазия, где учился мой брат, и где полтора года тому назад начинал свое учение, продолжавшееся очень недолго из-за моей болезни и я сам. Туда-то и обратилась моя мать, но по каким-то причинам получила отказ.
Тут в семье бабушки по отцу ей подсказали, что следует обратиться к директору расположенной в Замосковоречье 6-ой гимназии и высказали уверенность, что там отказа не будет по очень веской причине, именно: в этой гимназии еще до моего рождения в числе преподавателей был мой дед со стороны отца протоиерей Иоанн Николаевич Александровский. Преподавал от там не только обязательный в дореволюционную эпоху предмет - Закон Божий, но, как это ни странно, также и французский язык. Он изучил его еще в годы своего детства, находясь вместе со своим отцом, моим прадедом, тоже священнослужителем, в Голландии, где прадед был штатным священником при Русском посольстве. А языком дипломатии в те времена был французский язык.
Смутно припоминаю, что мать вернулась после разговора с директором 6-ой гимназии П.П. Никольским в приподнятом настроении. Тогда же я узнал, что директор распорядился немедленно принять меня в гимназию несмотря на полное укомплектование I класса и не взирая на то, что срок приема давно истек (шел уже сентябрь, а занятия начинались ежегодно с 16 августа). При этом он подчеркнул, что для внука всеми уважаемого преподавателя гимназии, память о котором свято чтится в гимназии, никаких формальностей при приеме быть не может. Он даже разрешил матери отправлять меня на занятия в течение первых недель, пока она не соберет денег на мою экипировку, в моей домашней одежде - рубашке-косоворотке, "штатских" брюках, пальто и шапке.
Таким образом я был принят в I класс Московской 6-ой гиманазии.
С этого дня начался для меня продолжавшийся 8 лет период жизни, когда закладывается фундамент "становления личности" и когда выявлялись и определялись все стороны соей духовной жизни и моего характера.
Этот период, имевший название в нашей семейной и моей личной жизни "гимназия", был несравнимо более обширным и многогранным комплексом явлений, идей и эмоций чем узко понимаемый процесс самого гимназического обучения, как такового.
С поступлением в 6-ую гимназию я сразу вырос в своих собственных глазах. За полтора года до этого мое поступление среди учебного года в приготовительный класс Шелапутинской гимназии и кратковременное пребывание в ней, прерванное болезнью, не оставило почти никаких следов в моей памяти. Теперь же я, десятилетний мальчуган, как-то смутно почувствовал, что в мою жизнь вступает что-то совсем новое, необычное и важное, и что 6-ая гимназия делается отныне "моей" гимназией. Необычным было и то, что я теперь ежедневно должен был ездить в казавшееся мне тогда далеким Замоскворечье, в котором я никогда раньше не бывал и в котором никто из непосредственно окружавших меня взрослых не жил. Когда же были куплены и надеты на меня гимназические куртка, шинель, фуражка и кожаный пояс с металлической пряжкой и выгравированными на ней буквами М6Г, я почувствовал, что я вырос и в глазах окружающих.
Ежедневное путешествие в гимназию отнимало у меня без малого час в один конец. Имея ранец за плечами (без чего тогда не обходился ни один гимназист I-IV классов, я проходил пешком весь проезд Зубовского бульвара, выстаивал некоторое время на Зубовской площади в ожидании конки и, когда эта "конка" подходила (вагончик на рельсах, ведомый двумя лошадьми), спускался на ней по Пречистинке (ныне ул. Кропоткинская) к Храму Христа Спасителя и - далее - к Большой Каменному мосту, откуда добирался пешком до гимназии.
В те времена все мосты через реку Москву были хотя и широкие, но совсем короткие. Начинался такой мост точно на самом краю одного берега и кончался столь же точно на самом краю берега противоположного. Большой Каменный мост находился тогда на несколько десятков метров выше (по течению реки) нынешнего - как раз и был продолжением улицы Ленивки. Его продолжением была ныне не существующая улица Всехсвятская с часовней на углу слева и обширным построенным в конце XVIII века Соляным двором справа, после Революции снесенным; теперь там высится блок многоэтажных и многоквартирных домов.
Всехсвятская улица вливалась в грандиозную Болотную площадь (ее чаще называли просто "Болотом"). Почти вся эта площадь была застроена одноэтажными лабазами, как и Соляной двор, представляли архитектурный памятник прошлого, которые, увы, в великом множестве уничтожались в 20-х и 30-х годах нашего века.
Торговали там скобяным товаром, посудой и т.д., а дальше по направления к Москворецкому мосту шли склады яблок и арбузов, которые снабжали этим добром всю Москву.
Перейдя Малый Каменный мост (через Водоотводный канал, называвшийся "Канавой") я вступал на Большую Полянку, одну из трех главных артерий Замоскворечья. По ней, как и на пространстве между обоими Каменными мостами, навстречу мне в утренние часы ехало великое множество извозчиков, отвозивших лавочников, служащих и мелких купцов в их лавки, магазины, склады, находившиеся в центре города. Владельцы крупных магазинов и складов мчались в собственных экипажах на собственных рысаках, а "конка" (замененная в 19071908 гг. трамваем) везла все в тот же торговый центр Белокаменной столицы мелкий люд: приказчиков,. Лоточников, "торговцев в разное" и т.л. И наконец, вся беднота - грузчики, сторожа, уборщики - шествовала пешком."
"…Насколько анекдотическим было у представителей власти опасение политической активности студенческой молодежи, видно хотя бы по той позиции, которую они занимали а таком, казалось бы, незначительном и маловажном вопросе, как празднование так называемого "Татьяниного дня".
День святой Татьяны (12 января ст. ст.) отмечался в Московском университете с седых времен, как престольный праздник университетской церкви, носившей имя этой святой. С течением времени его смысл и значение постепенно перемещались в сторону общегражданскую т утрачивали черты узкорелигиозные. Он сделался праздником старейшего университета в целом, а вскоре превратился в праздник всех российских высших учебных заведений вообще, короче говоря - в праздник всего российского просвещения.
Отмечался он студентами, профессорами и преподавателями торжественно и шумно, а что касается первой из этих трех категорий, то и бурно. Без этого, как известно, российские праздники не обходятся… В этот день владельцы дешевых ресторанов, столовых, "обжорок", где обычно собирались студенты, выставляли только попорченную посуду, старые порванные скатерти, явно дефектные ножи и вилки, а все более дорогое и хрупкое прятали подальше.
К полуночи центральные площади и улицы Старой Москвы заполнялись толпами сильно повеселевших после обильного "возлияния" шумящих и поющих студентов. Шум, гам, крики, пение продолжались всю ночь вплоть до утренней зари. Для чопорного центра города это было явлением невиданным и неслыханным. Полиция была, конечно, обязана воспрепятствовать столь бурному выявлению чувств учащейся молодежи. Ведь на полицию помимо всего прочего возлагалось обязанность "пресекать всякое уличное безобразие", к каковому "безобразию" относились и эти толпы молодежи в расстегнутых нараспашку шинелях, лихо заломленных на затылок фуражках, горланящих "во всю ивановскую": От зари до зари
Лишь зажгут фонари
Вереницы студентов
Шатаются…
Но в этот день и в эту ночь все обстояло по-иному. Полиции давалось свыше распоряжение не вмешиваться в такое бурное проявление обуревающих молодежью эмоций и не препятствовать "господам студентам" делать все, что им заблагорассудится. Кроме "политики", разумеется. Но в этом-то и было все дело. В "высших сферах" считалось, что в традиционное студенческое веселье, включая даже "маленькие эксцессы" и сверх-обильные "возлияния", все это - лучшее средство отвлечь молодежь от "зловредного политиканства", которое не давало покоя и лишало сна представителей этих "сфер". Поэтому Татьянин день рассматривался ими, как своего рода горчичник - средство, известное в медицине, как "отвлекающее". Их гораздо больше устраивали даже такие строфы студенческих песен, как
Первый тост за наш народ!
За святой девиз "вперед!"
чем выкрикиваемые в простые дни "господами студентами" лозунги:
Долой самодержавие!
Да здравствует учредительное собрание!
Или призывы к забастовкам, демонстрациям и вооруженному восстанию"…
© I. Velikodnaia
|