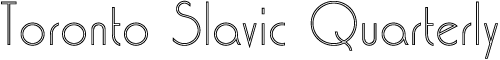Джером Г. Катцель
"ВИШНЕВЫЙ САД": РАЗМЫШЛЕНИЕ О СМЕРТИ
Чехов начал "Вишневый сад" в феврале
1903 года, в Ялте. …болезнь овладевала
всем его телом, подбираясь к желудку,
прямой кишке.1
В.С. Притчетт
C самого начала "Вишневого сада" время и пространство, свет и тьма, жизнь и смерть перемешаны, переплетены прихотливой вязью отношений взаимозависимости.
Лопахин приехал в имение, чтобы встретить Раневскую и её спутников на вокзале в полночь, но засыпает, сидя с книгой в руке. Появляется Дуняша со свечой, Лопахин спрашивает ее который час:
Скоро два. (Тушит свечу.) Уже светло.
Согласно сценической ремарке, на дворе "рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, <…> но в саду холодно, утренник". В "рассвет", в скорый восход солнца до двух часов ночи поверить нелегко. Этой очевидной нелепости предложено множество объяснений. Одни ссылаются на ослепительную белизну вишневого сада в цвету, струящуюся в окна усадьбы, другие переносят действие пьесы дальше на север, под Петербург, и тогда своим таинственным светом заливают имение белые ночи.2 Переводчики сэр Джон Гилгуд в 1963-м и Тирон Гутри и Леонид Кипнис в 1965-м году, не находя в себе силы принять идущую против всякой логики хронологию пьесы, заставляют Дуняшу ответить Лопахину: "Nearly four o'clock" ("Около четырех") или "Almost four o'clock" ("Почти четыре")!3
Для того чтобы поставить под сомнение достоверность временных координат своих произведений, Чехову уже приходилось прибегать к нарочитой нелепости. Владимир Гольштейн указывает на "Случай из практики" (1898), где в одиннадцать ночи "уже брезжит рассвет", где "восток становится бледнее" под аккомпанемент "быстро" идущего времени (стоило только фабричным сторожам в рассказе отстучать двенадцать, как "на стене и на полу" начинает дрожать "слабый солнечный свет").4 С самого начала "Вишневого сада" в противоборство вступают силы жизни (свет, детская, цветение ароматных вишневых деревьев, не спящие всю ночь в ожидании возвращающихся издалека хозяев собаки) и притяжение тьмы, смерти и их полномочных представителей (ночь, внезапная сонливость, предобморочное состояние, нарколепсия).
Собираясь встретить приезжих, Лопахин "вдруг" просыпает; он хотел развлечь себя книгой, но "читал и заснул". Дуняша полна ожидания: "Я в обморок упаду"; мгновение спустя она восклицает: "Едут! Что ж это со мной… похолодела вся". Варя жалуется, что её руки "закоченели". Реплики разных персонажей сливаются в один голос, который описывает состояние больного, умирающего - смерть властвует безраздельно. В этом доме умерли родители, деды, нелюбимый муж хозяйки; месяц спустя после смерти мужа Раневской погиб её сын, семилетний Гриша, поглощённый протекающей неподалеку речкой. За пятилетнее отсутствие Раневской в имении умерли няня, преставился слуга Анастасий; Фирс бормочет, что пора помирать и ему ("Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть").
Глагол "спать", его контекстуальные синонимы "ложиться", "покой" пронизывают первое действие "Вишневого сада". По прибытию Раневской тема сна, перекликающаяся с образами памяти, детства, сновидения и смерти, плотно обволакивает пьесу. Так, оказавшись в детской, Раневская вспоминает: "Я тут спала, когда была маленькой". Ане никак не удаётся заснуть, хотя в дороге она не спала целых четыре ночи. Трофимов спит в бане, и Варя приказывает не будить его, чтобы он не напомнил Любови Андреевне о погибшем сыне. Именно здесь Варя роняет своё кальдероновское "всё как сон".
Центростремительное притяжение сна/смерти влечёт Аню назад, к воспоминаниям об "утраченном времени", к разделенным одним месяцем смертям отца и брата. Возвращение Раневской, которая хочет заявить о своих правах на имение и оплатить долги, заставляет всех действующих лиц погрузиться в воспоминания. Даже Лопахин - деловой человек, предприниматель - не может удержаться от ностальгического упоминания давней доброты Раневской: "хотелось бы только, чтобы ваши удивительные глаза глядели на меня, как прежде". Раневская не обращает никакого внимания на излияния Лопахина; в крайнем возбуждении она восклицает: "Я не переживу этой радости". В этот момент Лопахин сообщает ей, что продажи имения можно избежать ("…спите себе спокойно, выход есть…"). Изложив свой проект раздела имения на дачные участки, он замечает, что необратимая потеря - символическая смерть - еще может быть предотвращена: "вы спасены". Персонажи вынуждены колебаться между проектом Лопахина - фактическим убийством имения - и надеждами на спасение, какими бы абсурдными, бессмысленными они не были. Пищик не может взять себе в голову, как в Париже Раневская ела крокодилов, Гаев одушевляет столетний шкаф, в то время как Фирс бормочет что Пищик, который только что запил квасом позаимствованную у хозяйки дома горсть пилюль, "скушал" на святой неделе полведра огурцов.
Действие первое представляет мир, в котором черты разумного, приметы контроля над реальностью - само имение с его вишневым садом, лопахинские планы по его спасению, Варины ключи, её назойливая рачительность, Гаевские замыслы о привлечении к делу спасения имения тетушки-графини с её богатством, попытки Фирса придерживаться дореформенных порядков - всё это втянуто в водоворот уязвимости, проницаемости, водоворот, который влечёт пьесу и её персонажей в совершенно другую сферу - сферу сна и смерти. Раневской видится покойная мать - видение это призрачно-белого цвета. В белый жилет облачен Фирс - цвет этот как нельзя лучше подходит к удивлению Раневской тем, что он всё ещё жив. В белом платье через сцену проходит "очень худая" Шарлотта Ивановна.
Отсылки к мертвенному, призрачному - вплоть до белизны цветущего вишневого сада, пылающего в два часа ночи - ведут к этому своеобразному крещендо, в котором воедино сходятся упоминания сна, тишины. Вполне может показаться, что речь идет о царстве мертвых.
Аня. Если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее.
Гаев. Молчу.
<…>
Аня. Я теперь покойна! Я покойна!
<…>
Фирс. <…> Когда же спать?
Гаев. <…> Ты уходи, Фирс.
<…>
Гаев. <…> Ложитесь.
Аня. Я теперь покойна.
<…>
Варя. Надо спать. <…> Заснула!.. <…> Душечка моя уснула! <…> Тсс... Она спит... спит...
* * *
Вступительная сценическая ремарка, предпосланная Чеховым действию второму, предельно лаконична: "Поле". Давно заброшенная, пустая часовня, колодец, большие камни, "бывшие, по-видимому, могильными плитами", старая скамья. Зрителя приветствуют врата ада. Шарлотта: "…откуда я и кто я, - не знаю… Ничего не знаю… Никого у меня нет". Не только Шарлотта, но и другие персонажи могли бы сказать то же самое и о себе. Епиходов не может отличить гитару от мандолины - его песню о "жаре взаимной любви" иронически подхватывает Яша, уводя Дуняшу. На первом плане опять оказывается шаткость людских планов - у Дуняши, разлучённой с семьёй еще ребенком, не может быть никакого будущего с мерзавцем Яшей. Со словами "жить мне или застрелиться…" Епиходов достает револьвер. Его слова лишь подчеркивают всю случайность, абсурдность существования, когда может случиться - и случается - всё что угодно: с тем же успехом, с каким в квасе можно обнаружить таракана, в этом мире можно проснуться со "страшной величины" пауком на груди.
Входят Раневская, Гаев и Лопахин. Какими бы людьми они не были, в пределах "Вишневого сада" им отведена роль господ. Предложение сдать имение под дачные участки принимает форму ультиматума - лопахинское "да или нет?" перекликается с "жить мне или застрелиться?" Епиходова. Уверенность Лопахина в том, что Раневская и её чада и домочадцы будут "спасены", если вишневый сад и имение продать под дачные участки, подорвана, когда Любовь Андреевна, заглянув в свое портмоне, произносит: "Вчера было много денег, а сегодня совсем мало". Её расточительность сводит на нет Варины попытки экономить. Реальность неясно обозначающегося на горизонте города, неизбывное присутствие Дериганова, готового прибрать имение к рукам, неотвратимо приближающиеся торги, ничтожность суммы, которую-де обещала прислать "ярославская тётушка", лопахинское предложение - всё это тяжелым бременем ложится на плечи Раневской и ее паствы. "Как будто над нами должен обвалиться дом".
Оказавшись в отчаянном положении, Раневская погружается в воспоминания, а Гаев, разыгрывающий воображаемую партию, грезит вслух бильярдными терминами, которые по своей бессмысленности не так далеки от тех фраз, которые произносит Симеонов-Пищик, выходя из своих нарколептических провалов. Раневская вспоминает: покойного мужа - ей под стать, он был мотом и "умер от шампанского"; месяц, в течение которого она "полюбила другого, сошлась и как раз в этом время… утонул мой мальчик". Оказывается, что любовник Любови Андреевны - "живым призраком пьесы" называет его Дональд Рэйфилд - ушёл к другой женщине после того, как Раневская продала свою дачу в Ментоне за долги. Воспоминание об этом эпизоде из прошлого Раневской готовит почву для торгов, на которых будет решена судьба имения; позволяет оно судить и о парижском будущем Раневской.
В действии втором впервые упомянут состоящий из шести музыкантов "знаменитый еврейский оркестр" ("четыре скрипки, флейта и контрабас") - именно он наталкивает Раневскую на мысль о "вечерке", который она задумывает устроить (замысел Раневской получит гротескное воплощение в действии третьем, вечером дня торгов). Оркестр, таким образом, становится частью той пляски смерти, в которую вовлекаются персонажи пьесы. В действии втором со своими политико-философскими речами выступает Трофимов, в том же действии раздаётся "замирающий", "печальный" звук лопнувшей струны. Тяготящая персонажей неопределённость выливается в острый конфликт. Трофимов презрительно называет Лопахина "исторической необходимостью", "хищным зверем, который съедает всё что, попадается ему на пути…" Вполне может оказаться, однако, что хищник, пожирающий все на своем пути это неизбывная, вездесущая смерть.
Из всех персонажей в согласии с природой оказывается Лопахин - тот самый выскочка-накопитель, которому предстоит пустить вишневый сад под топор. Именно Лопахин выражает сокровенное желание вкусить даров природы: "Господи, Ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по настоящему быть великанами…" Нарисованная Лопахиным картина величия природы, его призыв к слиянию с нею без лишних слов развенчаны появлением в глубине сцены Епиходова, наигрывающего на гитаре печальную мелодию. Согласно неумолимым законам перспективы, приведённым в движение чеховской сценической ремаркой, появление в глубине сцены "маленького человека", выставляет Епиходова самым настоящим лилипутом. Несмотря на всю преувеличенную помпезность того обращения к природе, с которым выступает в свою очередь Гаев, именно в словах Гаева могут быть выражены истины, которые хочет высказать автор: "…ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь…" Именно в этот момент персонажи задумываются каждый о своем и на сцену снисходит тишина, нарушаемая только бормотаньем Фирса. Вдруг "точно с неба" раздается "отдаленный звук", "звук лопнувшей струны, замирающий, печальный". Звук этот, не вызван ли он разрывом струн, связующих людей, не зовет ли нас сама смерть, не обращается ли к нам с этим печальным звуком наша судьба? Звук этот настолько призрачен, что каждый хочет дать ему какое-то земное имя. Лопахин - "где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья"; Гаев - "а может быть, птица какая-нибудь… вроде цапли"; объяснение Трофимова больше всего напоминает дурное предзнаменование - предшествующий "несчастьям" крик филина. Имя этому звуку - беззащитность; осознание его эсхатологической сути подобно неожиданному удару в солнечное сплетение, после которого так нелегко перевести дыхание.
* * *
В действии третьем зритель видит перед собой гостиную, отделённую от залы аркой. За сценой, в передней, играет еврейский оркестр. В это пространство заключён комедийный, похожий на сновидение, мир. Боль, агония, экзальтация - вот те эмоциональные составляющие, на которых держится действие третье. Задаёт тон Пищик - он сообщает нам, что у него уже два раза "был удар", но "как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй". То, что может показаться пустой болтовнёй, не только предвосхищает удар, который предстоит перенести Раневской, но и её будущее после продажи имения. Пищик "храпит и тотчас же просыпается" только для того, чтобы поделиться с нами нелепой байкой о своём происхождении: древний род Симеоновых-Пищиков происходит от Инкитатуса - "той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате". Действительно, в тоне действия третьего есть что-то от магического заклятия; "волхования" Шарлотты, из ниоткуда появляющиеся Аня и Варя лишь подчёркивают этот тон.
Фокусы Шарлотты служат своеобразным контрапунктом проходящим в городе торгам. Останется ли имение во владении Раневской и её семьи или перейдёт в чужие руки, какому-нибудь Дериганову? Тётушка присылает пятнадцать тысяч "для Ани", но этих денег не хватит даже на то, чтобы заплатить проценты. Именно в этой разреженной атмосфере происходит разговор Раневской и Трофимова - один из тех диалогов, которые так напоминают диалоги Гертруды и Гамлета (диалоги эти памятны каждому, кто знаком с "Чайкой"). Трофимов призывает Раневскую "взглянуть правде в глаза" - с имением покончено; Раневская говорит о недосягаемости истины, о людской слепоте, о непознаваемости жизни ("…я точно потеряла зрение, ничего не вижу"). Раневская не делает исключения и для нового поколения: "жизнь скрыта от ваших молодых глаз". Может ли она серьёзно надеяться на то, что Гаеву удастся воспользоваться деньгами тётушки? Ясно, что Раневская собирается вернуться в Париж к своему горе-любовнику, этому камню на её шее, который рано или поздно потянет её на дно ("Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу"). Слова Раневской перекликаются с гибелью Гриши, перекликаются они и с пронизывающей пьесу темой смерти, которая нахлынула на "Вишнёвый сад" подобно тому, как на морской берег набегает в прилив волна.
Pas de deux Трофимова и Раневской прервано: с лестницы падает Петя, начальник станции читает "Грешницу". Стихотворение А.К. Толстого представляет собой очевидную отсылку к Раневской и её дедушке - тому самому, который "пользовал от всех болезней" сургучом (Фирс готов отнести своё долголетие именно на счёт сургуча). У Яши есть ответ и на это: "хоть бы ты поскорее подох". Напряжение нарастает. Аня объявляет: "…сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишнёвый сад уже продан сегодня". Появляется Варя - она нервничает, срывает свою досаду на Епиходове, кричит на него. Характерно, что в Вариных проклятиях упоминаются мгновенная утрата человеком существования, зрения: "Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!"
Варя замахивается на Епиходова, но достаётся, однако, Лопахину, который "покорнейше благодарит" Варю за "угощение": "шишка вскочит огромадная" (не отсылает ли фраза Лопахина к статусу "большой шишки", который он только что приобрёл?).
Остальное известно: Лопахин купил имение, "надавав" девяносто тысяч сверх долга. Он никак не может прийти в себя: "я сплю, это только мерещится мне, это только кажется…" Точно также как и чревовещание Шарлотты, появление из ничего Ани и Вари, воображаемые Гаевым удары кием, произошедшее кажется правдой. Чтобы люди не предпринимали, рушащегося мира не спасти - звон брошенных Варей ключей это поминальный звон по прежним хозяевам вишневого сада.
* * *
Действие четвёртое заново подхватывает темы и мотивы символической и симфонической композиции пьесы. В сценических ремарках указано, что Яша держит поднос с шампанским - этот аккорд перекликается с темой покойного мужа Раневской, который от шампанского умер. "Лакать" шампанское Яша будет на протяжении всего действия. В действии четвёртом вновь заявят о себе и другие лейтмотивы "Вишневого сада": гаерское Яшино остроумие, крайности расточительства Любови Андреевны, оптимистические умствования Трофимова, "колдовство" Шарлотты, наивные оптимизм и идеализм Ани, любовь к суесловию Гаева, неизбывная неуклюжесть Епиходова и Варина страсть верховодить. Сознанием собственной значительности преисполняется Лопахин.
Гравитационное поле смерти обволакивает происходящее на сцене с самого начала действия четвёртого. Нет ни занавесей на окнах, ни картин на стенах; оставшаяся мебель сложена в один угол. "Чувствуется пустота". Доносящийся из-за сцены гул человеческих голосов - с отбывающими господами пришли попрощаться мужики - поневоле навевает ощущение чего-то зловещего, неминуемого. Темы неотвратимой гибели, несущегося галопом времени - неумолимого, предъявляющего свой страшный счёт, времени - ощущаются повсюду. Лейтмотивом проходит через всё действие тема трофимовских калош - весь оптимизм этого персонажа, все его высокие слова о свободе, независимости и человеческом достоинстве готовы пойти прахом перед лицом его же собственной неприкаянности, беспомощности. Читателям Чехова уже приходилось сталкиваться с этим мотивом в связи с гравитационным притяжением смерти: в солнечную погоду носил калоши Беликов ("Человек в футляре", 1898), о том, чтобы "сунуть голову в глубокую калошу и подремать немножко" мечтает Варька в "Спать хочется" (1888).
Partir - c'est un peu mourir - слова этой пословицы могли бы послужить подзаголовком всему действию четвёртому "Вишнёвого сада". Этот лейтмотив связан с темами зрения, видения и утраты. "Мы, пожалуй, не увидимся больше" говорит Лопахину Трофимов; в сутолоке из поля зрения отъезжающих исчезает Фирс. И всё же Раневская пытается сохранить хорошую мину: какое-то время она собирается жить во Франции на деньги, присланные ярославской тётушкой для Ани - "а денег этих хватит ненадолго". Раневская недоговаривает: Лопахин приобрёл имение за долги и девяносто тысяч рублей. Надо полагать, что вырученные за продажу имения деньги останутся у Раневской. Отнимем аукционные издержки, долги, расходы на содержание Ани (не забудем, однако, пятнадцать тысяч, присланные её ярославской бабушкой) - в распоряжение Раневской переходит целое состояние, что-то около - если не более - ста тысяч рублей. Очаровательная Любовь Андреевна умеет пользоваться людьми - чего стоит целая компания, организованная ею для того, чтобы поженить Лопахина и Варю; устраивая судьбу этой пары, Раневская ни на минуту не забывает о выгодах, которые может извлечь из этого брака. Не любопытно ли, что Раневская приобрела дачу около Ментоны - дачу, которая, в свою очередь тоже была частью чьего-то имения? Не бросает ли этот факт тени на нежелание Раневской согласиться на продажу своего имения и вишнёвого сада? Гаев хвалится, что теперь он "финансист", но совершенно ясно, что именно Раневская смогла заполучить в своё распоряжение деньги, ей не причитавшиеся. Вдобавок к ним, залогом парижского будущего Раневской послужит сумма, вырученная за продажу имения.
В тот самый момент, когда быт, проза, все приметы и даже временные координаты приземлённого мира вещей должны властвовать безраздельно, вслед за Шарлоттой на сцену "Вишнёвого сада" ещё раз входит совершенно другой план бытия, а вместе с ним и непредвиденность, неожиданные появления и необъяснимые исчезновения. Шарлотта берёт в руки похожий на свёрнутого ребёнка узел - "Мой ребёночек, бай, бай…" - и имитирует младенческий плач. "Мой милый мальчик… Мне тебя так жалко!" говорит Шарлотта, а потом неожиданно бросает узел на место. Это исчезновение в никуда - вполне может быть, что в сцене с ожившим узлом был намёк на погибшего сына Раневской - есть ничто иное, как топор, занесённый над каждой жизнью, над вишнёвым садом, растущим в каждой душе.
Мощь центростремительного притяжения смерти, глубокого осознания самого факта присутствия смерти в каждом, удваивается другой - центробежной - силой, влекущей живущих куда-то в вечность, в то самое царство умиротворения и покоя, интуиция которого столь эффектно сформулирована Чеховым в "Даме с собачкой" (1899):
"…однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас"
Подарок судьбы, "событие необычайнейшее", которое выпало на долю Симеонова-Пищика - какие-то англичане нашли в принадлежащей ему земле какую-то белую глину - неожиданное обретение им платёжеспособности, несёт в себе нечто большее, нежели иронический комментарий к неосуществлённым планам Раневской. Нежданная, негаданная удача дарует Пищику лишь мгновенное отдохновение от нарастающего осознания утраты, расставания, смерти: "Был на свете такой сякой… Симеонов-Пищик… (Уходит в сильном смущении.) Кланялась вам Дашенька! (Уходит)". Уходит навсегда.
Мертво и лопахинское предложение Варе. Ответ Лопахина Раневской, заговорившей было о нём, предельно ясен: "Покончим сразу…" Лопахин замечает шампанское, но зритель уже знает, что оно ассоциируется с пронизывающими пьесу утратами и смертями. Прощаются; Епиходов претерпевает свои последние злоключения, Трофимов всё-таки находит свои несчастные калоши и разражается приветствиями новой жизни. Чехов, однако, находит в себе силы для оптимизма: Гаев вспоминает себя ребёнком, шестилетним мальчиком, провожающим взглядом отца. Отец идёт в церковь на Троицу - церковный праздник весеннего обновления, когда дома украшают берёзовыми ветками со свежей листвой и цветами. На прощание Раневская оглядывается вокруг. Она вспоминает покойную мать, которая была молода и счастлива здесь, в детской этого дома, а зритель вспоминает о привидевшейся Раневской женской фигуре, идущей по саду в белоснежном платье.
В своей призрачно-белой жилетке показывается Фирс, а пустая сцена напоминает начало действия четвёртого. Брошенный дом предоставлен самому себе, из сада доносится стук топоров. Все черты, симптоматичные действию первому - закоченевшие руки, утонувший сын, временные несоответствия - сходятся в фигуре Фирса, который сказал когда-то, что теперь, когда его барыня приехала, он может и помереть. Этот самый Фирс лежит сейчас неподвижно; быть может, он уже мёртв.
"Эх ты, недотёпа!"
* * *
Театральный критик Бонни Марранка заметила: "смерть в искусстве Чехова осмыслена столь глубоко, столь благородно то религиозное чувство, с каким он подступается к этой теме, что в сравнении с чеховской другие картины художественного мировидения кажутся неполными, никчёмными, лишёнными всякого достоинства".5 Ей же принадлежит и другое наблюдение о вступительной сцене пьесы: "если бы кто-то задумал инсценировать эту сцену "Вишнёвого сада" дважды - первый раз в начале пьесы, а потом ещё раз в самом её конце - весь "Вишнёвый сад" мог бы быть представлен как сон Лопахина, который засыпает в детской перед приездом Раневской и её спутников".6
Сон, в котором и земле, и прекрасному саду бытия суждено пойти под неумолимый топор. Экстатическое "Ау… ау" Трофимова, раздающееся в финале пьесы, звучит палиндромом "уа… уа" несуществующего ребёнка Шарлотты. И то, и другое бесследно исчезают, уступая стуку топоров, опускающихся на садовые вишни и тому другому, отдалённому звуку, который доносится до сцены "точно с неба", словно "звук лопнувшей струны, замирающий, печальный". И всё же, как и дантова "Божественная комедия", чеховский "Вишнёвый сад" до самых краёв наполнен иррациональной, гротескной и потусторонней комедией, бурлящей у самой поверхности пьесы.
"Вишневый сад" это прощальный поклон автора. Как и Гаев в действии первом "Вишнёвого сада", Чехов обращается к своим зрителям и читателям: "Ну, детки, бай-бай…"
Примечания
Литература
Bentley, Eric. The Playwright as Thinker. New York: Harcourt, Brace & World, 1946.
Чехов, А. П. Собрание сочинений в двенадцати томах. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1961.
de Sherbinin, Julie. Chekhov and Russian Religious Culture: The Poetics of the Marian Paradigm. Evanston: Northwestern University Press, 1997
Geigud, Sir John. The Cherry Orchard: A Comedy in Four Acts. London: Heinemann, 1963.
Green, Michael. The Russian Symbolist Theater. Ann Arbor: Ardis, 1986.
Guthrie, Tyrone and Kipnis, Leonid. The Cherry Orchard: A Play in Four Acts.
Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1965.
Jackson, Robert Louis, ed. Reading Chekhov's Text. Evanston: Northwestern University Press, 1993.
Kataev, Vladimir and Kluge, Rolf-Dieter, eds. Anton P. Cechov - Philosophische und Religiose Dimensionen Im Leben und Im Werk. Munchen: Otto Sanger, 1997.
Marranca, Bonnie. Theatrewritings. New York: Performing Arts Journal Publications, 1984.
Pritchett, V.S. Chekhov: A Spirit Set Free. New York: Vintage Books, 1988.
Rayfield, Donald. Understanding Chekhov: A Critical Study of Chekhov's Prose and Drama. Madison: The University of Madison Press, 1999.
© J.H. Katsell
|