Giuseppe Ghini
ВЛАСТЬ ПОРТРЕТА
(Икона, русская литература и табу на портрет)
В тридцатые годы XIХ века, пишет Михаэлa Бёмиг, русская литература «открывает для себя тему искусства и художника. […] Так получает свое начало традиция, в рамках которой живописцу или музыканту отводится роль протагониста и в центр внимания ставятся противоречия гениальной личности. В многочисленных драматических произведениях и художественных текстах, среди которых «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Невский проспект» Гоголя, «Художник» и некоторые рассказы из «Русских ночей» Владимира Одоевского , «Последний из Колонна» Кюхельбекера, а также менее известные «Живописец» Полевого и «Художник» Тимофеева, появляется разносторонний и противоречивый персонаж, вмещающий в себя божественное призвание и демонические или преступные наклонности; — это одновременно и творец идеала, и существо, переживающее глубокий экзистенциальный кризис, иными словами, — герой, приближающийся к образной парадигме современного человека.»1
Глубоко изучено влияние европейского романтизма на разработку этой темы. В исследовании Пассажа (1963 г.) впервые выявляются фантастические основы гофманианского типа в произведениях русской литературы. В работе, в частности, утверждается, что русские гофманианцы, вводя собственные поправки в развитие характера персонажа, в качестве прототипа использовали таинственного живописца-иностранца из «Эликсира дьявола» (1816 г.). Предполагается, что отсюда, от этого призрачного существа, обреченного на томление до тех пор, пока его собратья по ремеслу не освободятся от последствий договора с дьяволом, ведут свое начало в русской литературе все персонажи живописцев, несущих тяжесть проклятия, художников, вступивших в сделку с духом зла. Думается, однако, что если бы это был единственный источник появления данной темы, то можно было бы рассматривать русскую культуру как простое уподобление западноевропейской и, в особенности, немецкой культуре. Тогда мы могли бы сказать, вслед за Достоевским, что русская литература в своей разработке темы художника и музыканта вся вышла из шинели Гофмана.2
Нельзя не заметить, что и в этот период развития русской культуры бесспорное западноевропейское влияние дополняется особенностями «принимающего» контекста — контекста, который, вступая во взаимообмен с воспроизводимыми моделями, не теряет своих собственных достоинств.3. В частности, все, что связано с символикой и семантикой изображения личности не могло не нести на себе отпечатка иконной культуры, полученной Россией в наследство от восточного христианства и составляющей еще сегодня одну из важных и легко узнаваемых ее характеристик. Все вышесказанное приводит нас к убеждению в том, что портрет, — специфический тип изображения, который является предметом нашего наблюдения, нельзя рассматривать в отрыве от сопровождающего его культурного контекста.
В произведениях самых крупных русских писателей второй половины Х1Х века часто встречаются литературные портреты (назовем их художественными изображениями) и, напротив, в этих текстах исключительно редко встречаются портреты как элементы интерьера (вывешенные на стенах). Чем это объясняется? — задаемся мы вопросом. Приведенные ниже наблюдения дают, на наш взгляд, некоторые из возможных ответов.
Картины на стенах не появляются в тексте «Исповеди» Л. Толстого, очень редки указания на них и в «Семейном счастье», и в «Войне и мире». В «Анне Карениной», романе, опубликованном в период с 1875 по 1877 гг., Толстой посвящает несколько страниц значительного по содержанию текста портрету главной героини. Сначала мы видим Вронского безуспешно пытающегося перенести на полотно красоту Анны, но его дилетантизм не позволяет ему, как заметил в свое время Рипеллино, создать портрет, способный запечатлеть подлинную жизнь.4 И даже когда кисть берет в руки живописец — профессионал (в романе фигурирует художник по фамилии Михайлов, возможным прототипом которого считается И.Н. Крамской5) — портрет Анны не удается, поскольку многое из характера героини остается в нем неотраженным.
Можем интерпретировать этот эпизод как реализацию романтического мотива невозможности запечатлеть красоту женщины во всей ее полноте, того мотива, который часто использовался поэтами круга Афанасия А. Фета и звучит в его «К портрету графини С.А. Толстой» (1885). В любом случае необходимо иметь в виду высказывание Шкловского о том, что Толстой считал невозможным мимезис реальности и чаще предпочитал создавать, а не копировать действительность.6
В те же годы, а именно, в период с 1878 по 1879 гг., Ф.М. Достоевский сдает в печать своих «Братьев Карамазовых». Здесь , хотя и не так, как в других произведениях великого писателя, живопись вводится в структуру романа как функциональный элемент, в особенности, картиной уже названного выше Крамского, который несколько лет спустя напишет знаменитый портрет Достоевского на смертном одре.7 Писатель создает ситуацию, не во многом отличающуюся от той, которую предлагает нам проза Толстого: действительно, «Ачи и Галатэя» Лорэна выполняет важную образную функцию в «Бесах» и в «Подростке», «Мертвый Христос» Голбейна играет немаловажную роль в «Идиоте», «Сикстинская мадонна» Рафаэля несет значительную художественную нагрузку в «Преступлении и наказании», в «Подростке» и особенно в «Бесах».8 Но несмотря на то, что Достоевский в своих романах отводит большое место портрету как субъекту, он, тем не менее, избегает описания персонажа через посредство портрета (исключаем из нашего наблюдения важный, обладающий огромной силой воздействия портрет Настасьи Филипповны из «Идиота» Ф.М. Достоевского, поскольку здесь речь идет о фотографическом портрете9).
В двух, по меньшей мере, произведениях И.С. Тургенева появляются портреты, играющие важную роль в тексте. В первую очередь, в «Фаусте» — повести в письмах, созданной в 1856 г. и описывающей жизнь русской провинции того времени — тургеневской деревни, как ее принято называть. В четвертом из своих девяти писем главный герой, Павел Александрович, рассказывает о том, как Вера Николаевна Ельцова — главный женский персонаж повести — была «разбужена» Фаустом. Героиня совершает акт интеллектуального прозрения и, что особенно важно, бросает вызов покойной матери, которая и из-за гробовой доски продолжает навязывать дочери свои косные, ограниченные моральные установки. «Что, взяла, — подумал я с тайным чувством насмешливого торжества, — ведь вот же прочел твоей дочери запрещенную книгу!» Вдруг мне почудилось… ты, вероятно, заметил, что глаза en face всегда кажутся устремленными прямо на зрителя… но на этот раз мне, право, почудилось, что старуха с укоризной обратила их на меня.» 10
Здесь в борьбе за душу непорочной Веры — Маргариты реальному Павлу — Фаусту противостоит говорящий портрет старухи Ельцовой — материально выраженное замещение прототипа, впервые появляющийся именно в этом рассказе знак типично фантастического смешения потустороннего мира с миром реальным. Действительно, как следует из последнего письма, старуха Ельцова и не думает сдаваться, отчаянно сражается за дочь, врываясь в мир живых. «Она — признается Павел, — сберегла ее до конца и, при первом неосторожном шаге, унесла ее с собой в могилу.» 11 Через две недели, после повторившихся несколько раз встреч с призраком матери, Вера умирает от воспаления мозга.
В другом произведении, датированном 1881 годом, в «Песне торжествующей любви», Тургенев вводит мотив портрета главной героини Валерии, которую ее муж безуспешно пытается изобразить в обличии Святой Цецилии. Здесь речь идет не о реалистическом стиле портретной живописи, а об идеалистической интерпретации образа главной героини, для запечатления которого необходима «непорочность окружения». Но этого невозможно достичь до тех пор, пока гость в дьявольском обличии по имени Муцио не покинет их дома. Отъезд Муцио, которым завершается произведение, возвращает жизнь в дом Валерии и, таким образом, делает возможной реализацию ее идеализированного портрета.
Вопрос о формах передачи изображения человека был и прежде объектом размышления — в самом знаменитом из рассказов, посвященных этой теме, — в «Портрете», опубликованном Н.В.Гоголем в двух разных редакциях между 1835 и 1842 гг.. Тон рассказа, казалось бы, исключительно романтический. В явном противопоставлении модного художника — живописцу по призванию можно бы усмотреть ни что иное, как две возможности выбора, стоящие перед творцом-романтиком: идти по пути заключения сделки с духом зла, приводящей к трансформации искусства в дьявольское оружие, или же через страдания и муки приблизить свое искусство к святости. Внимательный анализ текстов и здесь позволяет выявить индивидуальные особенности русского контекста. Художник, который появляется во второй части рассказа, — это не просто живописец — романтик, способный в своем произведении отобразить трансцедентальную «вещь в себе», скрытую для непосвященного зрителя «вещью познаваемой», принадлежащей конкретно-чувственной действительности. Он иконописец! В самом деле, процесс подготовки и создания «Рождества» воспроизводит схему работы над иконой: живописец удаляется в монастырь, принимает постриг, «очищается», все более ужесточая тяжесть монашеской жизни, и, после благословления настоятеля, окончательно удаляется от мира, питаясь кореньями, непрестанно трудясь в смирении и молитве, и все это — на протяжении многих, бесконечно длящихся лет, готовя себя к деянию. Наконец, он удаляется на год в свою келью, где находится безвыходно в непрерывном посту, молясь без устали, ибо, по оценке братии, только при этом условии его бренное человеческое искусство, будет считаться благословленным свыше.12
В тексте первой редакции преображение художника в иконописца еще более явно, чему свидетельством является использованная автором лексика. Если в редакции 1842 года художник предлагает все вышеописанное, чтобы «удостоиться приступить к такому делу» и в конце создает картину на религиозный сюжет, то в редакции 1835 года появляются определения «священное изображение» и «подвиг». «Нужно было видеть, с каким высоким религиозным смирением трудился он над своею работою: в строгом посте и молитве, в глубоком размышлении и уединении души приуготовлялся он к своему подвигу. Неотлучно проводил ночи над своими священными изображениями, и оттого, может быть, редко найдете вы произведений даже значительных художников, которые носили бы на себе печать таких истинно христианских чувств и мыслей»13.
Подвиг и священные изображения — такие наименования даются (первое, наверное, чаще, чем второе) произведению живописца, как если бы это было творение рук святого, который по праву мученика попадает в Царствие небесное. Действительно, подвиг в древнерусской традиции, как указывается в словаре Срезневского, — это одновременно «великое и тяжкое деяние» мученичества и борьба, при этом акцент здесь ставится именно на духовной борьбе.14 Не случайно русские святые совершали свой подвиг15, и аскеты по русской традиции назывались подвижниками.16 Таким образом, в создании святых ликов, читая между строк, следует видеть аскетическую работу гоголевского художника, его подвиг.
Этот краткий, но необходимый обзор подводит нас к вопросу: правомерно ли при анализе темы портрета в русской литературе обращаться только к тем моделям искусства, художника, портрета, которые являются элементами культуры и литературы Западной Европы. К тем моделям, которые только частично могут объяснить особенности портретов или полное отсутствие таковых в русской литературе. Находим вполне логичным и, более того, необходимым, предположение о том, что в рассказе, подобном «Портрету» Гоголя, присутствует не только так называемое гофманианское влияние, но и влияние «иконное». Иными словами, выглядит вполне очевидной важность учета художественного опыта, продолжающего русскую традицию тесной связи с православными христианскими корнями, наряду с анализом вклада европейского романтического искусства в русский художественный опыт.
В этой связи, заключение, к которому мы приходим в первую очередь, таково: в России XIX века, в отличие от Западной Европы, фигура художника — живописца затмевает собой фигуру иконописца, которая, без сомнения, еще жива в этот период (более того, вновь привлекает к себе внимание именно в конце XIX в.). Плоды работы художника — картины и особенно портреты — налагаются на икону, портретная живопись совмещается с иконографическим искусством. Заметим, что во взаимоотношении прототипа и копии, которое лежит в основе портрета, русская культура основывается на концепции, отличающейся от той, которую выработала культура европейского Возрождения. Действительно, русское искусство посвятило столетия размышлениям о различии между прототипом и его иконным образом — почти единственной теологической проблеме в теологии образа, которая, по утверждению Аверинцева, заместила в России всю догматическую теологию. Размышлялось о пределах соответствия образа иконе, в которой воплощается энергия (хотя и не сама сущность), прообраза.17
В своем труде, посвященном интеллектуальным основам иконокластии, Алэн Безансон останавливается не только на «античной фазе» этого феномена, но и на «фазе модерна», на его возрождении после веков триумфа иконодулов. Этот триумф, по мнению автора, совпадая с неустойчивым компромиссом, придает изображению человека характер незавершенности, временности. Именно отсутствие значительного культурного барьера позволит возродиться новой форме иконокластии — эстетике гностиков, старающейся подавить самою идею субъекта и объекта живописи. Той эстетике, которая легла в основу русского абстракционизма18.
Искусство иконописи, таким образом, несет в себе, как это ни парадоксально звучит, элемент внутренней нестабильности: на том самом христианском Востоке, который знал иконоборчество в такой его форме, которую латинский Запад никогда не смог понять, именно здесь иконопись несет в себе иконокластический заряд. Таким образом, мы должны, вслед за Безансоном, понимать иконокластию как длительный процесс, не всегда явный, но тем не менее особенно активный на русской почве.
В изучении взаимоотношений между портретистикой и русской литературой мы не можем обойтись без культурного противопоставления этих явлений иконографическому искусству и представляющей важный аспект его Wirkungsgeschichte иконокластии. Это противопоставление, на наш взгляд, объясняет:
1. полное отсутствие портрета во всей массе произведений реалистического направления;
2. неудовлетворительный результат использования реалистического портрета в литературе (как это происходит в «Анне Карениной»);
3. наличие тех дьявольских элементов, которые характеризуют портрет и связывают его с потусторонним миром (что во многом объясняет невозможность создания портрета позитивного или, по меньшей мере, нейтрального);
4. чрезвычайную власть портрета в некоторых произведениях русской литературы.
Как мы уже видели, в «Песне торжествующей любви» и в «Портрете» Гоголя «очистившийся» художник пишет не портрет, а лик Святой Цецилии или икону.
Портрет, а именно об этом, как нам кажется, свидетельствует русская литература, в XIX в. окружается табуированной зоной: отсутствующий, нереализуемый или заключающий в себе такую силу воздействия, которая делает его не нейтральным, а, наоборот, сакральным. В этот период иконокластическая традиция не оказывает более влияния на фигуративное искусство, но ее присутствие ощущается в той концептуальной сфере, в которой пересекаются живопись и литература.

Рис. 1
|
Напомним, что здесь речь идет о портретах как части интерьера в текстах русской литературы. Следует уточнить, что нами не рассматриваются здесь литературные описания персонажей19 и портретный жанр живописи, т. е. изображения, соответствующие разным формам художественного творчества (литературное описание принадлежит словесному искусству, а портрет — изобразительному). Обнаруживаем, что в подобных случаях две культурные зоны — литература и живопись, выглядят синхронизированными, даже если и следуют ритму, который дополняется, как увидим далее, устойчивым русским иконокластическим табу.
Здесь следует вспомнить определение, данное литературе так называемого смутного времени — начало XVII в. — Лихачевым и Панченко, которые говорят об «открытии характера», и подводят под это определение появившиеся в русской литературе биографии «простых» людей, жития святых «из народа»: «Открытие характера —пишут они — означало, что писатели первой половины XVII в. стали оценивать своих персонажей независимо от средневекового этикета, от их положения на иерархической лестнице»20.
Как уточняет впоследствии Лихачев, «сама литература как целое начинает создаваться под действием этого личностного начала. В литературу входит авторское начало, личная точка зрения автора, представления об авторской собственности и неприкосновенности текста произведения автора, происходит индивидуализация стиля»21.

Рис. 2.1 |

Рис. 2.2 |
Приняв во внимание гипотезу Лихачева, необходимо, на мой взгляд, углубить фундаментальный аспект, заключающийся не только в выявлении теоретических оснований запоздалого, по сравнению с Западной Европой, «открытия» Россией портрета и индивидуального начала — трудноразрешимого вопроса, могущего быть интепретированным с различных идеологических позиций. То, что мне действительно кажется эссенциальным, это необходимость выявления конкретных этапов этого «открытия». И в этом случае перед нами длительные процессы, никогда не приводящие к неожиданностям и одновременным изменениям во всех сферах культуры. «Открытие характера» происходит постепенно во всех видах изобразительного искусства и занимает временное пространство, совпадающее в общих чертах с периодом правления Петра Великого. Этот процесс усложняется противостоянием, которое можно назвать иконокластическим, присутствием которого можно объяснить целый ряд особенностей отношения к портрету, которые русская культура будет демонстрировать в течение веков. Необходимо, в частности, подчеркнуть, что антипортретный характер значительной части русской литературы объясняется не феноменом «открытия характера», а конкурирующей иконокластической тенденцией.
Если проследить вкратце историю развития жанра портрета в русском изобразительном искусстве, то можно обнаружить, что в своем движении оно следует направлению, во многом отличающемуся от того, которое Дж. Поп-Хенесси, Э. Поммие и П. Сорлен определяют как свойственное западноевропейской культуре.22

Рис. 3
|
На самом деле, в период Средневековья реалистический, натуралистический портрет встречается очень редко. Упрощенные и стандартизованные черты изображенного персонажа позволяют идентифицировать его только с определенной общественной ролью. Значительно позже, в период поздней Готики, появляются реалистического направления (один из первых — портрет Энрико Скровеньи работы Джотто на стенах капеллы дель Арена в Падуе, 1304-1306, рис. 1).23 Долгий путь к реалистическому портрету начинается с изображений патрона; и долго еще будет обнаруживаться большая разница в технике создания образов патронов и святых (см. например Мадонна канцлера Ролена — картина Яна ван Эйка 1436-39, и так называемый диптих Мелуна кисти Жана Фуке, 1450 — рис. 2.1 и 2.2).
Окончательное утверждение реалистического подхода в западноевропейской портретистике, как известно, — завоевание эпохи Возрождения.24

Рис. 4
|
Линия развития русской портретистики другая. Одной из черт русской живописи до Петра Первого является так называемый мистический реализм, не имеющий ничего общего с натуралистическим подходом. Лик святого в образах — своего рода «мистический портрет»,25 который иконописец должен писать «с древних образцов, как греческие живописцы писали»26, и который верующие могли бы узнать безошибочно. Кажется, антинатуралистический подход к образу человека — в самом ядре русской культуры допетровского периода.27 Не раз русская живопись встречается с элементами натуралистического отношения и отказывается от них: долгое время они остаются бесплодными на фоне русской культуры.
Первое из изображений, на котором мы остановимся (рис. 3), — икона Кирилла Белозерского письма Дионисия Глушицкого (1424 г.). Как гласит надпись на киоте XVII-го века, «образ чудотворца Кирилла списан преподобным Дионисием Глушицким, еще живу сущу чудотворцу Кириллу». И действительно, живописная техника и выразительность этого образа потрясающие, но, более того, они неповторимые, выходящие за рамки привычного. Это — уникальное в своем роде произведение русской иконописи.

Рис. 5
|
Второе изображение обнаруживается в эскизах, составляющих подготовительную работу к росписи Благовещенского собора Московского Кремля, и относится к началу XVI в. (рис. 4). Эти фрагменты, как говорит Георгий Карлович Вагнер, «заставляют вспомнить произведения художников итальянского кватроченто, особенно Синьорелли».28 Все изображения — от канонических ликов до следующих образцам средневекового символизма — не имеют ничего общего с анонимностью и символизмом средневековой типологии: они индивидуализированы, выписаны рельефно — даже те, на которые сделан только намек в глубине второго плана. Кроме того, интересно, что они очень похожи на те портретные этюды, рисунки, наброски, которыми итальянские художники раннего Возрождения предваряли создание фресок и картин.29 (рис. 5)
И все же, эта модель портретной живописи не прививается в русской культуре: остался лишь подготовительный эскиз, не имевший продолжения в России того периода.
Однако, если подготовительный набросок остается забытым среди изображений, составивших идеальную галерею русского портрета, то ксилографический портрет Ивана Грозного (рис. 6), по времени недалеко отстоящий от упомянутого эскиза, принадлежит, без сомнения, русской официальной иконографии.

Рис. 6
|
И в этом случае перед нами образчик западноевропейского искусства, представляющий собой достаточно идеализированный портрет первого русского царя30, вновь не приведший к эпигонству: несмотря на то, что это был самый известный портрет Ивана IV, он остался единственным в своем роде изображением, принадлежащим руке анонимного западноевропейского художника XVI в. (как следует из комментария О.А. Белобродовой)31
Следующие два изображения позволяют представить со всей определенностью разницу между путем развития русского портрета и эволюцией западноевропейского портретного искусства. Это две парсуны, от латинского persona, как называли самые первые образчики русского портрета, созданные во второй половины XVI в., выполненные в фигуративной технике, во многом еще повторяющей иконопись32. Первое (рис. 7) — это фресковое изображение князя Михаила Юрьевича, которое находится в Архангельском соборе Кремля. Фреска относится к периоду 1564-1565 гг. и является частью портретной галереи, все изображения которой связаны друг с другом. Используя выражение Лихачева, можем сказать, что период создания этого портретного цикла совпадает с эпохой «открытия характера» в русской живописи.
Намного более поздней является вторая парсуна — первая половина XVII в.- запечатлевшая в идеализированной форме последнего из Рюриковичей, сына Ивана VI, Федора Иоанновича (умершего в 1598 г.) (рис. 8).

Рис. 7
|
Как и в предыдущем случае, в портрете царя Федора узнаются технические приемы, свойственные иконописи, которые особенно заметны в том, как выписаны глаза, нос и лоб33. Здесь, как и в иконах, отсутствует источник освещения — кажется, что само лицо излучает свет — своего рода разновидность хорошо известного так называемого иконного фаворского света: не случайно Стерлигов определяет эти изображения как «почти иконы»34.
«Почти иконы» — в этом выражении сосредотачивается суть русского пути к портрету. Долгое прощание с иконой, постепенное отдаление от традиции мистического реализма со временем проявляется и в технических приемах. Но на более глубинном уровне иконная и иконокластическая традиции — две стороны одной медали — продолжают оказывать громадное влияние на художественное воплощение образа человека. «Мистический реализм» и «мыслимая правдоподобность» постепенно уступают место «натуралистическому реализму» и «видимая правдоподобность»; идеализированные и стандартизированные черты замещаются конкретными и неповторимыми деталями портрета. Как пишут авторы Художественно-эстетической культуры Древней Руси, начиная с первой трети XVI в., «человеческие фигуры […] стали более реалистичны […] появилось стремление психологизировать образы». В течение XVII в. священные персонажи «очеловечиваются» эмоциями, и иконописец Иосиф Владимиров говорит о Спасе Нерукотворном, что «Христос по божеству не описан, описуется по плотскому смотрению». Таким образом, «на первый план для него вышла не возможность возведения ума к первообразному, а точность соответствия иконы плотскому облику изображенного — то есть критерии портрета». «Это не означает, конечно, что иконописцы XVII в. сразу же перешли к […] писанию портретов своих современников», так как степень реалистичности и правдоподобности еще надолго осталась весьма относительной.35

Рис. 8
|
Но портрет — «почти икона» — наследует внутренний характер иконы, ее силу. И эту ее священную силу сохраняет и тогда, когда, к концу XVII века, каноны портретного изображения окончательно отдаляются от иконописной традиции. Не случайно И.Л. Бусева-Давыдова пишет о «сакрализации личности в русских парсунах XVII века», упоминая в этой связи свойственное той эпохе отношение к зеркалам: «зеркала никогда не оставляли открытыми, либо задергивая их запонами, либо закрывая створками и убирая в лагалища-футляры. Учитывая, что на Руси отсутствовала традиция античного скульптурного портрета, подготовившего почву для европейских иортретов Ренессанса, идея запечатления своей особы на полотне могла выглядеть подозрительной и даже опасной».36 Как заключает Стерлигов, портрет становится бесспорным завоеванием русской национальной школы живописи конца XVII в.37 И неудивительно: рождение реалистического портрета означало коперниковский переворот, имевший своим результатом обращение русской портретной живописи к миру и к человеку, к социальным темам и к реализму. Переворот, приведший к нарушению запретов на натуралистические изображения князей, святых, людей, реально существующих, и символизирующий переход от иконописных ликов к индивидуальному изображению.
Чтобы быть до конца точными, следует вспомнить, что в конце концов линия реалистического портрета вторгается в русскую культуру посредством иконописи, т. е. благодаря школе Симона Ушакова, обвиненного — et pour cause — в скандальной замене чередования светлых и темных тонов световыми бликами и в отходе от стилизации под «мистический реализм».38 Учитывая это, можем утверждать, что отдаление от старой иконографической традиции мистического реализма и от запрещения натуралистического портрета происходит благодаря обновлению иконописи: культура русского портрета вначале следует за иконографией, лишь много позже переходя к портрету, и как следствие, к введению реализма в иконографию39.

Рис. 9
|
Подтверждение этому тезису получаем из генеалогии. Титулярник — название первой русской генеалогии, датированной 1672 годом и содержащей портреты всех русских князей, патриархов (глав русской церкви), а также западноевропейских властителей. Портреты, собранные здесь, принадлежат кисти Ивана Максимова, Дмитрия Львова и других последователей Симона Ушакова. Они следуют «реалистической» технике, незадолго до этого введенной в иконографию40. Можно сказать, что перед нами первые образцы портретных изображений, выполненных в технике, демонстрирующей польское и западноевропейское влияния, влияние школы Ушакова. Приводим здесь один из этих портретов — могущественного патриарха Филарета, отца царя Михаила Федоровича Романова (рис. 9).

Рис. 10
|
Следующее изображение — еще одно свидетельство новых тенденций — происходит из другого источника. По причине своей исключительности и происхождения — речь идет о портретах членов царской семьи — оно может быть сравнимым с иконным изображением и в этом своем качестве является еще более авторитетным свидетельством изменения климата. Действительно, речь идет о рисунке, расположенном в начале «Книги любви знак в честен брак», преподнесенной в 1689 г. в качестве свадебного подарка Петру Первому монахом и придворным поэтом Карионом Истоминым, принадлежащем, без сомнения, школе Ушакова41 (рис. 10). Оформление «Книги любви знак в честен брак» неоднородно: так, на одной из первых страниц обнаруживаем эмблему сердца, идущую от барочных сердец, использовавшихся иезуитами, появление которых объясняется культурным влияниям завоеванной Польши, игравшей в тот период решающую роль в русской культуре. На самом значительном из помещенных здесь рисунков, о котором и ведется речь, обнаруживаем один из первых русских портретов реалистического направления, выполненных в стиле Ушакова, ориентированном на западноевропейские образцы. В портрете молодого Петра живо воспроизведены черты его лица, узнаваемы детали реального облика и его жены Евдокии, с реалистической точностью выписаны символы царской власти — скипетр и шапка Мономаха. Таким образом, это изображение в общем и целом выглядит отстоящим от распространенного представления о метафоризации и игривости — выразителях сущности западноевропейской и московской барочной культуры. Делая акцент на библейской imagery, в рисунке эпиталамиа сопоставляется брак Адама и Евы, брак в Кане Галилейской и женитьба Петра Великого, в чем и выражается реализация фигурального принципа, который был утерян эмблемами или метафоризирован42.

Рис. 11
|
В общем и целом эпиталамий, являясь первым образцом барокко на русской почве, тем не менее, не может быть отнесен исключительно к барочной культуре; нет оснований говорить и о его исключительной принадлежности к старой фигуративной традиции, несмотря на явное ее преимущество; не можем рассматривать его и как проявление новых тенденций в школе Ушакова, хотя присутствие ее влияния очевидно. Не ошибемся, если определим это как свидетельство переходных тенденций, типичных для русского московского барокко.
Такие переходные тенденции были обнаружены в corpore vili при реконструкции палат боярина Романова, проведенной Государственным Историческим Музеем Москвы. Здесь, как в части здания, которая была отведена челяди, так и в господской части — тереме — обнаруживаем два портрета, относящиеся приблизительно к концу XVIII в. На одном из них изображен боярин Т.Н.Стрешнев. на это изображение исследователи смотрят как на «новшество, проникшее лишь в узкий круг знати»43. На втором изображена царица Евдокия Лопухина (рис. 11), и этот портрет назван в каталоге музея модной диковинкой того времени. В любом случае, оба портрета бесспорно являются парсунами.

Рис. 12
|

Рис. 13
|
Последние два изображения, о которых мне хотелось бы сказать, уже полностью соответствуют западноевропейским требованиям к портретной живописи, выработанным в эпоху Возрождения. «Открытием характера», как уже было подчеркнуто, в России конца 1600-х г.г. открывается эпоха светской портретной живописи — аристократической и буржуазной — одним словом, реалистической портретной живописи. Но, если нам неизвестны автор и время создания первого из этих портретов — Якова Тургенева (рис. 12) (возможно, конец XVII — начало XVIII в.в.), то мы можем с уверенностью говорить об авторе портрета казацкого атамана (рис. 13) (1720 г.), являющимся зрелой работой мастера — И. Никитина (1690-1742), одним из широко признанных (наряду с Андреем Матвеевым) в стране портретистов.
Описанные здесь процессы развития портретистики были свойственны и миниатюрной живописи. Как объясняет Т.А.Селинова, портретная миниатюра в России развивается как художественный жанр только при Петре Первом. Действительно, именно во время своего знаменитого пребывания в Западной Европе он открывает для себя этот жанр и заказывает одному английскому художнику лаковые портретные миниатюрные копии рисунка, созданного в 1697г. По возвращении он организует русскую школу миниатюры, которая постепенно приближается к западноевропейским образцам44.
Еще одно свидетельство русского «отставания» в портретной живописи получаем из другого источника, находим его в жанре чисто репрезентивном, а именно — в чеканке монет и медалей. Рождение монетного изображения в Западной Европе связывается с монетой, вычеканенной Пандолфом Малатеста для города Бреща (около 1420 г.). Это было началом отхода от средневековой традиции воспроизведения при чеканке символического образа властителя и, как следствие, перехода к изображению конкретного лица. В России же еще долго живет унаследованное от Византии средневековое отношение к изображениям на монетах, в основе которого лежит четкое разграничение плана реальности, в объеме которого властитель — это только грешный человек и семиотического плана, в пределах которого облик властителя воплощает в себе трансцедентальное величие Бога, вследствие чего идентичность изображения и оригинала становится иррелевантной:45 на маленьких старинных русских копейках вплоть до петровского времени настойчиво воспроизводится фигура всадника с пикой в руке (неслучайно и название
«копейка» — от «копьё, пика»). Идентичность всадника, которого мы видим на деньге Ивана IV, и того, который изображен на копейке начального периода правления Петра Великого (рис. 14), может быть объяснена скорее культурно-семиотическими причинами, чем техническими — в то время достаточно примитивными, или слишком небольшим — меньше сантиметра — диаметром монеты.
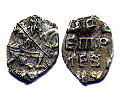
Рис. 14
|
Все меняется уже через несколько лет, когда Петр полноправно берет в свои руки бразды правления государством, и одной из его инициатив по европеизации России становится чеканка монеты нового образца46. И если на полтине 1699 г. невозможно узнать черты Петра в лице, изображенном в старой технике: со скипетром, булавой и шапкой Мономаха, то на золотом червонце 1712 г. помещается уже европеизированный портрет императора. Здесь (рис. 15) мы приводим образец серебряного рубля, незначительно отстоящего по времени создания (1723 г.). Монета выполнена в новой технике, достаточно большого размера (4 сантиметра), Петр на ней вполне узнаваем. Этот портрет стал первым в России монетным изображением, появившимся на 300 лет позже своих европейских аналогов.
Не менее примечательна история медали: в России ее начали чеканить в конце XVII в. Действительно, если не учитывать золотых эпохи Смутного времени, которые вряд ли можно отнести к реалистическим изображениям, или медалей с изображением Дмитрия Самозванца с явными признаками европейского влияния, (несмотря на то, что относятся к периоду XVIII в.), одними из первых образцов фигуративного искусства стали, как и следовало ожидать, портреты совместноцарствовавших Ивана и Петра, задуманных в виде парсуны. Вслед за тем, в стремительном ритме, заданном истории Петром после достижения им полновластия, портрет и на медалях становится одним из ведущих жанров эпохи47.
Последней деталью в этой краткой истории иконокластии в России, будет то, что Нина Дмитриева называет открытым противостоянием скульптурному портрету еще в XVII веке; противостоянием, которое сводится, по мнению исследовательницы, к восприятию статуи как идола48. Речь идет о еще одном аргументе в поддержку истинности положения о значительной продолжительности процесса христианизации, длившемся действительно целые века на безбрежных пространствах русской равнины — процесса, сущность которого не может быть сведена к узкому понятию двоеверие49.

Рис. 15
|
Вернемся к литературе. То, что я старался показать, обращаясь к другим жанрам искусства — живописи, миниатюре, геральдике, нумизматике, чеканке медалей, также имеющей отношение к искусству портрета, происходило за 70 лет до появления Пушкина и вполне может быть отнесено к периферии культурного процесса, но несмотря на это, имело, наряду с литургическо-иконной культурой, большое значение. Этим объясняется необходимость обращения, при выявлении особенностей взаимоотношений русской литературы с искусством портрета, не только к западноевропейским моделям.
Не повторяя расхожее и малообоснованное мнение о русской исключительности и непознаваемости, следует, в любом случае, признать, что западноевропейские модели, объясняя некоторые особенности портретистики в данной культуре, некоторые виды представленных в ней литературных жанров, не дают возможность прояснить сущность явления, которое мы назовем вслед за Безансоном иконокластическим. Все это, действительно, объясняет широкое распространение портрета, точно воспроизводящего действительность, часто оставляемого в альбоме для гостей в форме эпиграммы, иногда написанной в шуточном тоне, автоироничной или галантной и любовной. Образцами первого типа являются: одно из ранних лирических произведений А. Дельвига «Надпись к моему портрету» созданное между 1814 и 1817 гг.; “Mon portrait”, написанное Пушкиным по-французски в 1814 г., «Портрет» - эпиграмма, посвященная им одному из профессоров Лицея, «К портрету Дельвига», помещенное под акварельным портретом, «К портрету Чаадаева», «К портрету Каверина», «К портрету Молоствова», «К портрету Вяземского» — все они созданы в первые годы творчества. Примерами второго типа являются: лирическое стихотворение «Портрет в… » Е. Баратынского (1819 г.); «К портрету Жуковского» Пушкина, «К портрету Батюшкова» и «К портрету Гете» В. Жуковского (1819), «К портрету» М. Лермонтова и другое очень знаменитое стихотворение с первой строкой «Расстались мы, но твой портрет…», как и «Портрет» поэтессы Каролины Павловой (1856).
Элемент неустойчивости, которую Тодоров относит к характеристическим чертам европейского фантастического жанра XIX века50, обнаруживается в длинной поэме А.К. Толстого, тоже названной «Портрет» (1872/73)51. В ней главный герой, вынужденный жить в скучной, сонной русской деревне, влюбляется в женский образ, запечатленный на портрете, который обращается к нему с призывом о помощи, назначает ему ночное свидание. Изображенная на портрете рассказывает главному герою о том, что была пригвождена живописцем к холсту будучи живым и думающим существом. Она танцует с ним и в ответ на его растерянность обещает ему свою любовь. Проснувшийся на следующее утро главный герой видит изображенную на портрете улыбающейся, а его доктор и воспитатель ставят диагноз: «Somnabulus e febris cerebralis»52.
И если все описанное является последствием европейского влияния, то табу, которое повсеместно окружает портрет в различных сферах русской культуры, вызвано приверженностью к иконокластической традиции. Это тот запрет, который присутствует уже в коротком фрагменте Лермонтова «Расстались мы, но твой портрет…», с его настойчиво проводимым мотивом исключительной силы портрета. Кажется, в портрет перенесена энергия реального человека, изображенного на нем. Благодаря этой энергии портрет, в текстах исследованных авторов, или отсутствует, или недостаточно выразителен, неудачен, или представляет собой средоточие могущественных сил.
Не остается ничего другого, как рассмотреть последнее из следствий этой власти портрета, в особенности интересное в силу своей современности, иными словами, тот портрет, который был создан русской культурой после социалистической революции. Александр Афиногенов (1904-1941), драматург, с энтузиазмом принявший новую советскую реальность, написал в 30-е годы комедию, названную «Портрет». Идея комедии, находящаяся в русле нашей темы, заключается в демонстрации процесса перерождения бывшей заключенной Лизы, прошедшей перевоспитание социалистическим трудом на строительстве Беломоро-Балтийского Канала. Это обстоятельство ставит комедию в один ряд с другими гротескными произведениями, восхвалявшими труд заключенных в лагерях, среди создателей которых был и Максим Горький. Образ жизни и поведение Лизы демонстрируют, по замыслу Афиногенова, возможность «человеческой переделки социалистическим трудом». Сейчас, в самом начале пьесы, родственница Лизы — Ира, жаждущая славы художница, пишет с нее портрет и, безуспешно пытаясь создать образ, ее удовлетворяющий, просит своих друзей рассердить позирующую модель, чтобы изобразить ее такой, какой она была однажды53.
Этот портрет, передающий отрицательные стороны личности Лизы, находится в центре комедии. Он должен запечатлеть раздвоенность ее личности — до и после перевоспитания работой в составе передовых бригад на строительстве Канала. Но портрет, который «открывает Лизе правду о себе самой» («Он мне глаза на самое себя открыл» (стр. 34)), воспринимается ею как оскорбительный, создающий негативное представление о ее жизни. Все плохое, все оставшееся в прошлом становится на полотне видимым и затмевает собой все хорошее и новое в Лизе («не понимают нас, — говорит Лиза (стр. 38). — обижают нас. Видел, как нас изображают на портретах.»), все это давит на Лизу психологически. В ходе комедии Семен, ее бывший муж, закоренелый уголовник, неспособный к перерождению, организует кражу, в которой обвиняется другая реабилитированная. Будучи выведенным на чистую воду, он подвергается товарищескому суду Лизы и ее друга, которые решают отравить его.
Последующее признание Лизы, преодолевшей жажду мести, тоже находится в тесной связи с темой портрета. Действительно, только после уничтожения своего портрета Лиза в состоянии отказаться от идеи самосуда: она решает сдать виновника в «органы диктатуры рабочего класса» (стр. 42-43). Пьеса завершается двумя хорошими новостями, о которых сообщает один из участников спектакля, в полном составе представленных на сцене: несправедливо обвиненная Маруся полностью оправдана, а это значит, что реабилитация при посредстве социалистического труда произвела положительный эффект; законченный Ирой портрет куплен художественной галереей. Актеры идут искать портрет и обнаруживают, что Лиза его уничтожила, о чем зрители уже знают. Но остается надежда, заключает один из участников представления, обращаясь к художнице Ире: «Ты создашь портрет нового человека и тогда мы сами отнесем его в Художественную Галерею» (стр. 48).
Если сейчас мы кратко проследим историю этого портрета, то сможем выделить в ней следующие фазы: вначале создание портрета невозможно, затем портрет слишком реалистичен, отражая только прошлое Лизы и влияя тем самым на ее действия. Только когда портрет уничтожен, изображенной на нем женщине удается реабилитироваться окончательно, что и становится источником надежды на то, что другой ее портрет запечатлит образ «нового человека».
В России эпохи тридцатых годов утопический пафос советского возрождения распространяется не только на людей, но и на их образы (изображение). И нельзя сказать, что только реальность влияет на то, как изображается человек. Напротив, могущественный портрет (или невозможный, или неудавшийся, что, собственно, является обратной стороной той же медали) определяет реальность. Через художника второй части Гоголевского «Портрета» и живописца Тургеневской «Песни» к Ире Афиногенова проходит нитью мысль о том, что портрет не только изображает нечто, влияющее отрицательно. Возможно, возвращаясь к впечатляющей интерпретации Безансона, в пьесе Афиногенов обнаруживается совмещение трех культурных направлений: 1. давние иконокластические тенденции, запрещающие реалистические изображения божества, продолжающие присутствовать в русской среде; 2. направления портретной живописи, возникшие под влиянием вышеназванных тенденций, — свидетельством их присутствия является отставание в развитии искусства портрета на монетах и медалях, помимо длительного запрета на портрет в русской литературе; 3. обновленные формы иконокластии, которые привели к появлению в России абстрактного искусства.
Это могущество портрета, исходящее от древних икон и перешедшее в советский портрет двадцатого века, дополняется в период между восемнадцатым и девятнадцатым веками европейской традицией, которая присоединяется, подобно ветке, к могучему стволу, глубоко уходящему корнями в ту традицию иконного образа, которая ведет как к идее могущества божественной силы, так и к иконокластическому запрету на любое изображение.
Примечания
|

