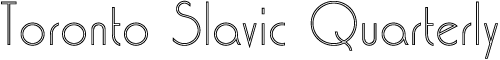Дмитрий Иванов
О ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕПУТАЦИИ В. А. ОЗЕРОВА:
"РУССКИЙ РАСИН"
Одной из важнейших черт русского литературного процесса XVIII - начала XIX в., как не раз отмечалось исследователями, была ориентация на французские образцы. Проявлялось это непосредственно в подражании, а также в стремлении осмыслить те или иные литературные явления по иностранным моделям. В функции таких моделей выступали отдельные сюжеты из истории французской литературы или биографические легенды писателей-классиков. Наименования типа "северный Расин", "наш Мольер", "русский Буало" или "Лафонтен", по замечанию Ю. М. Лотмана, определяли восприятие личности писателя современниками, его самооценку, и, в итоге, образовывали "целостную программу личного поведения, которая в определенном отношении предсказывала характер будущих поступков и их восприятия" [Лотман: 259]. В какой мере данный культурный механизм повлиял на формирование литературной репутации Озерова, мы рассмотрим ниже.
Известность Озерову принесла трагедия "Эдип в Афинах" (ноябрь 1804). Пьеса, содержавшая явные похвалы Александру I (см.: [Медведева: 29]), была одобрена царем и поддержана проправительственным "Северным вестником" И. И. Мартынова1. На страницах этого журнала в 1805 г. появились апологетическое послание В. В. Капниста "В. А. Озерову" (№ 5) и подробный разбор трагедии, сделанный учеником издателя - Н. И. Бутырским (№ 7). Оба текста, видимо, отражали взгляды близкого драматургу круга и заложили основу его литературной репутации.
Послание Капниста было ответом на анонимную эпиграмму "Во храм бессмертия наш <Озеров> идет, / Но как ему дойти? Слепой его ведет" [Эпиграмма: 341]. Поэт увидел в ней происки "зоилов злоязычных" и советовал адресату презреть их "яд". Кроме актуализации сюжета о "завистниках" в связи с Озеровым, Капнист закрепил за драматургом славу "чувствительного певца", чья пьеса пробудила в зрителе "жалость", растрогала его душу и извлекла "отрадных слез поток" [Капнист: 182].
Частично развитием интенций Капниста стала статья Бутырского2. Характерно, что в описании русской трагедии критик опирался на суждения Лагарпа о трагедии французской. Так, в финале своей статьи Бутырский заявлял: "если Синна и Андромаха произвели две эпохи на французском театре3, то Росслав и Эдип в Афинах то же самое учинили на нашем" [Бутырский 1805: 49-50]. Тем самым, история русской литературы разделялась им по образцу французской литературы XVII в. на эпоху "старую" и "новую" - Корнеля и Расина. Бутырский противопоставил "Эдипу" всю предшествующую традицию - и, в первую очередь, "Демофонта" Ломоносова, написанного на "греческий" сюжет. При этом критик переносил на русский материал заимствованные из "Лицея" устойчивые характеристики трагедий Корнеля и Расина. В "творении" Ломоносова Бутырский отмечал "более высокопарность Пиндара, нежели нежность Расина" [Там же: 19]4, а также писал:
Оно возбудит во мне удивление, заставит меня трепетать; но никогда не произведет умиления; никогда не сделает того, чтоб сердце мое излилось в тех горьких, но приятных слезах, <…> которыми платим мы чувствительности [Там же: 20].
По его мнению, Озеров знал: чтобы "извлечь слезы" - "надобно самому обливаться слезами"5 [Там же: 21]. Статья Бутырского была практически написана "языком" Лагарпа (см.: [Там же: 25, 28, 46]), что, по нашему мнению, явилось, с одной стороны, следствием ее ученического характера, а с другой - было отражением общего способа рассуждать о литературе. Сами приемы анализа (категории, аналогии и примеры) подбирались так, чтобы говорить об Озерове как Лагарп говорил о Расине.
По той же схеме Бутырским (в "Лицее" Мартынова) была описана и вторая трагедия Озерова - "Фингал" (декабрь 1805). Как и в разборе "Эдипа", критик следовал за Лагарпом (см.: [Бутырский 1806: 50, 53, 55, 65]) и уподоблял Озерова Расину. Он писал: "да будет мне позволено сказать об нем то же, что ла Гарп сказал о Расине, когда сей слишком пиитически изобразил смерть Ипполита" (в "Федре") [Там же: 52-53]. Любовь Моины ("Фингал") Бутырский сравнил с любовью Юнии ("Британик"), а Фингал напомнил ему Пирра ("Андромаха") [Бутырский 1806: 53, 60].
Характерно, что критик, перечисляя достижения русской литературы, заявлял: "Поприще Сумарокова и Княжнина еще не исполнено. Какие лавры, какие венцы ожидают тех, кои чувствуют в себе силы шествовать путем сих первых указателей!" Называя так предшественников Озерова, Бутырский относил их к эпохе основания русской трагедии, новый же этап, по его мнению, начал "автор Эдипа" [Там же: 49]6. И хотя критик соглашался с тем, что Княжнин "имеет многие совершенства и конечно заслуживает название Российского Расина", но считал, что Озеров превзошел его в языке [Там же: 59].
На наш взгляд, восприятие автора "Эдипа" как "русского Расина" было вызвано не его более значительными, по сравнению с предшественниками, заимствованиями из трагедий Расина7, но той нишей, которую занял Озеров в русском театре. По сути, с начала нового царствования вплоть до постановки "Эдипа" в репертуаре не появилось ни одной новой успешной оригинальной трагедии8. Такая ситуация, действительно, ставила Озерова в особое положение - вплоть до 1807 г. драматург оставался монополистом в этом жанре9 (см.: [Арапов: 156-173]). Он первым прославил Александра I в "Эдипе" и в "Димитрии Донском" (как Расин - Людовика XIV) и в глазах современников обозначил начало нового "золотого века" при русском "Короле-Солнце"10. Царское одобрение "Эдипа", а потом "Фингала" и "Димитрия" [Арзамас: 414] только подчеркивало параллель между отношениями Озерова с Александром и Расина с Людовиком11. Разборы Бутырского, опубликованные в проправительственных изданиях Мартынова, закрепляли за драматургом славу "русского Расина" и, следовательно, поддерживали миф о новом "золотом веке" в России.
В какой-то момент Озеров сам, видимо, оказался под влиянием этой сложившейся репутации. Две последние трагедии были написаны им с отчетливой ориентацией на Расина. Современник драматурга Р. М. Зотов даже считал, что "Димитрий Донской" (январь 1807) был написан как русская "Ифигения", с "чрезвычайно" близким подражанием Расину в отдельных сценах и стихах [Зотов: 14]. Потапов позднее указал, что появление Ксении в военном лагере, вызвавшее резкое осуждение Шишкова и Державина, также было заимствовано из "Ифигении" [Потапов: 741].
Еще яснее эта ориентация Озерова проявилась в "Поликсене" (май 1809). Зотов писал: "И опять всякий видел в этой пьесе Ифигению в Авлиде, и уже гораздо ближе нежели в Димитрии" [Зотов: 16]. На "весьма значительное влияние" Расина у Озерова обращал внимание и Потапов, подробно анализировавший источники "Поликсены" [Потапов: 855-862]. По нашему мнению, история постановки этой трагедии была также обусловлена влиянием на Озерова сложившегося образа "русского Расина".
"Поликсена" была закончена в конце октября 1808 г. [Озеров: 129], уже в деревне, куда автор уехал после конфликта на службе. Трагедия была играна 14 июля 1809 г. После второго представления Озеров забрал ее из театра.
Не вдаваясь в подробности этой истории (см.: [Медведева: 47-48]), отметим лишь, что сам автор заранее не надеялся на успех "Поликсены", обосновывая свои предположения необразованностью публики [Озеров: 144], происками "последователей <…> старого Сумароковского вкуса" и недоброжелательством директора театров А. Л. Нарышкина [Там же: 141-142]. Озеров писал А. Н. Оленину: "Неуспеху Поликсены я бы не удивился, помня, что Расинова Федра была дурно принята Парижскою публикою" [Там же: 147]. Тем самым драматург предлагал модель для интерпретации возможного провала: интриги "зависти" должны были оспорить успех его трагедии, после чего он мог бы, как Расин12, оставить театральное поприще13.
Но "Поликсена" все же "имела успех" [Арапов: 193], о чем Озеров знал. 26-го июня он получил письмо Оленина о втором представлении пьесы, которое его "несказанно порадовало". Ему стало известно, что некоторые места "принесли удовольствие" зрителям, а третье действие "поразило слушателей" и "более других" понравилось [Озеров: 148-149]. Однако в письме Оленину от 2 июля трагик настаивал, что хочет "остановиться на Поликсене", "отстать от стихотворства" и "бросить перо". Такое решение он объяснял неприятностями "по службе", вызванными авторским успехом, и несправедливостями Нарышкина, который откладывал выплату гонорара за "Поликсену" до третьего представления. Не желая ждать, Озеров категорически требовал пьесу "от Дирекции обратно" [Там же: 150]. На основании этого можно предполагать, что трагик сознательно шел на конфликт: "Поликсена" должна была стать последней трагедией подвергшегося гонениям автора. Оленин выполнил волю драматурга, тем самым дав ему основания считать себя, как Расина, жертвой "завистников".
Спустя несколько лет интерпретация событий вокруг "Поликсены" по "расиновской" модели была в полемических целях использована "арзамасцами". П. А. Вяземский в статье "О жизни и сочинениях В. А. Озерова" (1817) подчеркивал параллель между "Поликсеной" и "Федрой". Он писал:
Расин, обогативший "Федрою" своих современников, нашел в них пристрастных и несправедливых судей; Озеров испытал почти ту же участь, написав "Поликсену" [Вяземский: 32].
Хотя Вяземский упоминал, что трагедия "с удовольствием принята была публикой", но основной пафос сохранялся - "Поликсена" стала для автора "источником многих неприятностей, и чувствительное сердце поэта сохранило до гроба живую память о нанесенном оскорблении" [Там же]. В интригах против Озерова был обвинен А. А. Шаховской, занявший в данной легенде место "русского Прадона".
Таким образом, изначальное восприятие Озерова как "русского Расина" определило как последующую "мифологизацию" его литературной репутации, так и его собственный взгляд на свою биографию. Последнее обстоятельство, по нашему мнению, привело к искусственному моделированию самим автором конфликта вокруг "Поликсены".
ЛИТЕРАТУРА
Арапов: Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861.
Арзамас: Арзамас: Мемуарные свидетельства; Накануне "Арзамаса"; Арзамасские документы: Сб.: В 2 т. М., 1994. Т. 2.
Бутырский 1805: Бутырский Н. И. Трагедия Эдип в Афинах, сочинения г. Озерова // Северный вестник. 1805. Ч. 7. № 7.
Бутырский 1806: Бутырский Н. И. Разбор трагедии: Фингал // Лицей. 1806. Ч. II. Кн. 1.
Вяземский: Вяземский П. А. Сочинения: В 2 т. М., 1982. Т. 2.
Державин: Державин Г. Р. Сочинения. СПб., 2002.
Дмитриев: Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986.
Зотов: Зотов Р. Биография Озерова // Репертуар и Пантеон. 1842. Кн. 6.
ИРДТ: История русского драматич. театра: В 7 т. М., 1977. Т. 2.
Капнист: Капнист В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1960. Т. 1.
Карамзин: Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. Л., 1966.
Лотман: Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1.
Медведева: Медведева И. Владислав Озеров // Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960.
Озеров: Письма В. А. Озерова к А. Н. Оленину. 1808. 1809 // Русский архив. 1869. Кн. 1.
Потапов: Потапов П. О. Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В. А. Озерова // Записки Новороссийского ун-та историко-филологич. фак-та. Одесса, 1915. Вып. XI.
Эпиграмма: Русская эпиграмма (XVIII - начала XIX века): Сб. Л., 1988.
Fellows: Fellows O. E. French Opinion of Moliere (1800-1850). Providence, Brown University, 1937.
La Harpe: La Harpe J. F. Lycee ou Cours de litterature ancienne et moderne: 14 t. Paris, 1825.
ПРИМЕЧАНИЯ
© Dm. Ivanov
|