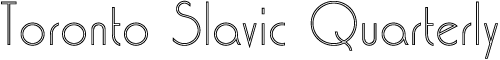БОРИС КОЛОНИЦКИЙ
"РУССКАЯ ИДЕЯ" И ИДЕОЛОГИЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В последнее время в России весьма большое (возможно преувеличенное) внимание уделяется изучению так называемой "русской идеи". Однако участники дискуссии спорят о разном: многие никак не определяют "русскую идею", для большинства, похоже, это разговоры "о русском", "о русских", "о России". Попытки же дать определение часто нельзя признать удовлетворительными(1).
Действительно, довольно сложно говорить о какой-то одной "русской идее": ее сторонники подчас являлись и являются оппонентами, а иногда и политическими противниками. Все же при всех различных толкованиях термина "русская идея" разнообразные концепции, объединяемые этим понятием, отличают, на наш взгляд, следующие моменты:
1. Пути развития российской цивилизации (российской культуры, общества) принципиально отличаются от цивилизации западной (разные авторы по-разному оценивают значение этого отличия).
2. Российская культура содержит такие элементы, которые не только отделяют ее от всего остального мира, но и содержат условия спасительного преобразования последнего - идеи "богоизбранности" и "богоносности" русского народа, веру в его "всемирно-историческую" миссию.
3. Политические отношения не выделяются в качестве самостоятельной сферы. Политика рассматривается через призму моральных и морально-религиозных воззрений. "Русские идеи" - непременно цельны, недифференцированы. Поэтому политический идеал "русской идеи" также синкретичен ("соборность", "теократическая империя", "вселенская теократия" и пр.).
Своеобразный вариант "русской идеи" был присущ официальной идеологии императорской России, в особенности во время царствований Александра III и Николая П.
Дискуссия о национальных корнях Февральской революции в настоящее время крайне идеологизирована. Вопрос "Почему?" часто заменяется вопросом "Кто виноват?" - что вполне соответствует отечественной традиции. Однако в известной степени это напоминает и осмысление феномена германского нацизма в западной исторической литературе 40-50-х годов. Если некоторые англо-американские авторы видели буквально во всей истории Германии лишь предысторию нацизма, то многие немецкие авторы консервативной и либеральной ориентации стремились подчеркнуть зарубежное происхождение доктрин, повлиявших на формирование гитлеризма.
Соответственно и Февральская революция подчас интерпретируется как исключительно русское явление, причем эту интерпретацию отличает негативная оценка: "Воздух был насыщен специфической русской атмосферой общего настроения насилия - потребностью бить и разрушать - для которой русский язык создал слова погром и разгром. <…> В действительности это было не солдатское восстание, типа тех, которые вспыхивали во время войны в других армиях, включая французскую и немецкую, но типичный русский бунт, в котором сильнее всего звучали анархические обертона", - пишет о восстании в Петрограде Ричард Пайпс(2). Неясно, что же отличало массовые беспорядки, сопровождавшие политические перевороты в других странах, от специфически "истинно-русских" погромов.
С другой стороны, часто подчеркивалась и подчеркивается чуждость, враждебность революции российской политической традиции. Описание Февраля как чужеземного и инородческого заговора против России находила и находит сторонников различной идейной ориентации. Типичный пример дает публицистика эпохи Гражданской войны: "Теперь, впрочем, всем стало ясно, что и вся революция наша не русского происхождения, что ее и начали и продолжили те, кто не имел в России ни церкви, ни отечества, кто с детства был научен оплевывать все родное, относиться с презрением ко всему, что носит печать русской самобытности"(3).
Особый взгляд на корни русской революции высказывал в 1918 г. Н. А. Бердяев (он менял свои взгляды на эту проблему): "Русская революция антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом антинациональном ее характере отразились национальные особенности русского народа и стиль нашей несчастной и губительной революции - русский стиль"(4).
Но чаще Февральская революция, свергнувшая самодержавие и отвергнувшая господствовавшую идеологию, воспринимается лишь как неудачная попытка модернизации политического и социального строя страны на пути вестернизации (демократическая, буржуазно-демократическая революция), радикально порывавшая с политической традицией дореволюционного общества. А. Янов полагает, что "русская идея" потерпела "оглушительное поражение" в 1917 г. (правда, он определяет "русскую идею" лишь как теоретическое ядро "русской новой правой")(5). Подчас важнейшей причиной неудачи Февральской революции считается несоответствие ее идеологии "русской идее".
Подобный подход представляется крайне упрощенным. Сложнейший феномен революции 1917 г. возник в результате взаимодействия нескольких революционных потоков, которые то усиливали, то гасили друг друга(6). Февральская революция была, безусловно, в некотором отношении и демократической, и буржуазной. Но в то же время она была и антиимперской, и антивоенной, и, в известной степени, антимилитаристской. Если идеи "правового государства" вдохновляли деятелей Временного правительства, то составной частью крестьянской революции были антизападные, антимодернизаторские настроения. Как нам кажется, различные компоненты "русской идеи" были присущи некоторым важным революционным потокам.
Религиозная революция
Многие современники, радостно приветствовавшие Февральскую революцию, воспринимали ее не только как политический, но и как тотальный нравственный переворот: "<…> политическая победа может быть понята многими именно как политическая, между тем как это общая победа русского духа над пассивностью и мертвечиной, мешавшей жить, дышать, творить". Падение самодержавия объяснялось его "греховностью": "Русские люди забыли самую цель, для чего нужно жить союзом, а не в одиночку. А забыли русские люди правду по простой причине - разделились она на богатых и бедных, на знатных и бесправных. Царская власть вся покоилась на страшном грехе". Многие современники искренне полагали, что с революцией исчезнут ложь и воровство, сквернословие и азартные игры, тюрьмы и заборы. С радостью фиксировались и действительные и лишь желаемые изменения: "Люди стали внимательнее и вежливее друг к другу, пробудилось острое почти опьяняющее чувство общенациональной солидарности", - писал С. Л. Франк(7). В этом отношении Февраль был крайней формой "революции завышенных ожиданий".
Разумеется, подобное сознание отличало и другие революции. Однако в условиях России синтез морально-политических ожиданий имел свои особенности. Российская православная церковь и самодержавие были связаны и институционально и идейно. Многие верующие привыкли относиться к государству религиозно, "царь" был не только главой государства: официальный культ монарха переплетался с культом религиозным. Некоторые религиозно настроенные современники считали это важнейшей причиной революции: "Отчего рухнуло царское самодержавие в России? Оттого что оно стало идолом для русского самодержца. Он поставил свою власть выше церкви, в этом было и самопревознесение и тяжкое оскорбление святыни… Повреждение первоисточника духовной жизни - вот основная причина этого падения", - писал Е. Н. Трубецкой(8).
Различные религиозные эксперименты части политической элиты, в том числе и некоторых представителей царской семьи (распутинщина и др.), многие верующие воспринимали как кощунство. Общественный кризис в канун революции проявлялся и в церковной жизни, политический переворот не мог не привести и к перевороту в этой области(9).
Революция немедленно повлияла даже на церковные службы. Митрополит Евлогий вспоминал: "С первого же дня после переворота передо мной, как главой Волынской епархии, встал вопрос: кого и как поминать на церковных службах? Поначалу, до отречения Великого князя Михаила Александровича, он разрешился просто. После возникло осложнение. В конце концов решено было поминать "Благоверное Временное правительство"… Диаконы иногда путали и возглашали "Многие лета" - "Благоверному Временному правительству"…"(10).
Современник, член Общественного комитета Иркутска, вспоминал о мартовских днях революции: "Наряду с серьезными делами много времени отнимали пустяки. <…> Приходил соборный протоиерей с запросом, за кого "возглашать" на эктении.
-Преосвященный владыка предполагают благословить духовенство возглашать "за державу российскую и благочестивых правителей ее"…
- Возглашайте!"(11)
Здесь показателен и сам факт быстрого обращения священника к новой светской власти - только она может найти выход из ситуации, и отношение к этому вопросу как к "пустяку", и быстрое решение проблемы.
Затем специальные решения об унификации церемонии "возглашения" были приняты Петроградской духовной консисторией и Синодом(12).
Первой реакцией многих сторонников нового строя была организация благодарственного молебна: "первой ласточкой переворота" для митрополита Евлогия, первым известием о революции была телеграмма одного священника: "Рабочие просят отслужить молебен по случаю переворота". Во время торжественных процессий перед иконами несли красные знамена с лозунгом "Да здравствует демократическая республика!" и др.(13)
Некоторые священники украсили себя красными бантами. Революция вторгалась и во внутреннее убранство церквей: "Теперь в Казанском соборе у подножия Распятия, где столик панихидный, заупокойный, у ног Христа кто-то приколол красный шелковый платок и цветы. <…> Это то же красное знамя. И это очень мудро. Я только что писала о кресте и этот платок меня потряс, в редкие минуты такое волнение внутреннее испытываешь и особенно я ноги Христа поцеловала, не так как всегда", - писала Т. Н. Гиппиус, сестра 3. Н. Гиппиус, активно участвовавшая в деятельности Петербургского религиозно-философского общества(14).
Управление церковью было дезорганизовано. Во многих епархиях возникло движение мирян и низших церковных служителей, которых подчас именовали "социал-диаконами" и "социал-псаломщиками". По России прокатилась волна "низвержений епископов" и их переизбрания (подчас при этом выдвигались кандидатуры мирян), Синод был завален петициями с требованием выборного епископата. На развитие ситуации противоречивое воздействие оказывала политика "революционного" оберпрокурора Св. Синода В. Н. Львова, который "держался диктатором", сместил московского митрополита, полностью обновил Синод. Некоторые архиереи и священники отстранялись местными Советами. Революционные массы требовали "чистки духовенства", отправки церковных служителей на фронт как "ненужного элемента".
Существенным элементом кризиса церковного управления было движение за автокефалию (Грузия, Украина). Движение это переплеталось с национальным движением и было сильно политизировано, сторонники автокефалии не дожидались канонических решений. Так, требование независимости украинской церкви содержалось в программах ряда украинских партий, соответствующее решение приняла и Центральная рада, которая рассматривала это как удар по российской контрреволюции. Неудивительно, что церковные вопросы стали предметом рассмотрения армейских организаций, так, 3-й Всеукраинский войсковой съезд постановил 1 (14) ноября: "Признать необходимым автокефалию украинской церкви. Службы должны совершаться на украинском языке". Подчас движение за автокефалию было революционным и "по форме": современник с ужасом вспоминал "стриженых и бритых" украинских военных священников с винтовками и в шинелях, игравших активную роль на Всеукраинском церковном соборе(15).
Кризис церковного управления переплетался с кризисом власти в стране - так, специфическая ситуация двоевластия проявлялась и в том, что со всевозможными петициями по религиозным вопросам верующие обращались в Советы и комитеты. Монахи АлександроНевской лавры писали в Петроградский Совет: "Веря вашему комитету как справедливому органу правды, мы обращаемся к вам с просьбой об удалении из монастыря Александро-Невской лавры изверга-тирана наместника лавры архимандрита Филарета". Миряне же подчас жаловались в Советы на священников и требовали смещения последних(16).
Некоторые священники избирались в состав Советов и войсковых комитетов, подчас занимая довольно радикальную позицию. Так, П. Н. Врангель вспоминает о своем столкновении со священником, председательствовавшим на соединенном заседании комитетов казачьего соединения. А. И. Введенский, в будущем - создатель так называемой "Живой церкви", вошел в Петроградский Совет. Многие священники избирались в состав волостных сельских комитетов(17).
Съезды и заседания Советов и комитетов подчас выступали с инициативами, касающимися церкви. Так, в апреле на заседании съезда Западного фронта священник Елашенцев потребовал отнять у церкви драгоценности, - с тем, чтобы использовать их для "укрепления свободы и завершения войны". Собрание встретило этот призыв овациями и постановило напечатать текст вступления и разослать его духовенству(18).
О распространении крайних революционных настроений в церкви свидетельствовал и тот факт, что на заседании Поместного собора была создана специальная Комиссия о большевизме в церкви. На ее заседании указывалось: "Большевизм захватил немалое число священнослужителей" ("большевизмом" тогда часто называли любое радикальное движение)(19).
Часть интеллигенции давно полагала, что борьбу против самодержавия следует вести и в сфере религии. Подобных взглядов придерживались и некоторые лидеры Февральской революции. На одном из собраний петроградской интеллигенции 29 октября 1915 г. А. Ф. Керенский заявлял: "<…> политика - эмпирия, а самодержавие - религия… с этой религией нужно бороться тем же оружием, т. е. религией, религиозным сознанием". Подобные взгляды высказывал и другой участник беседы - Д. С. Мережковский(20). Появлялись различные течения, которые стремились соединить революционное движение и обновление православия - "голгофское христианство", "христианский революционаризм", "религиозная революция" и др.(21)
Попытки соединения религии и революции, религии и социализма усилились после Февраля (деятельность части Петербургского религиозно-философского общества по организации митингов, издательства, попытки создания общества революционно-религиозной пропаганды). В этих кругах свержение самодержавия оценивалось с религиозным энтузиазмом: "Атмосфера прочищается. Поголовное воскрешение из мертвых. <…> Слава богу, соборность торжествует над партийностью", - писала Т. Н. Гиппиус(22).
Часть современников, напротив, воспринимала акт свержения царя как вызов своим религиозным убеждениям, а революцию - как начало кощунственного похода против религии и церкви. Даже наш современник, священник Алексий Остаев в 1992 г. оценивал Февральскую революцию как "безбожную" и осуждал Поместный Собор 1917-1918 гг., признавший ее. По его мнению, "православные "едиными усты и единым сердцем" исповедуют только и исключительно то, чему учит нас Единая и Святая Соборная и Апостольская Церковь, которая и есть Церковь Православная. В области государственного устройства это самодержавная монархия в симфонии с православием. В церкви установлен особый чин Царя как епископа мирских дел. <…> христианство и демократия - понятия несовместимые, само словосочетание это кощунственно…"(23).
Нет сомнения, что и в 1917 г. и многие священники, и миряне считали Февраль "безбожным", а упомянутые религиозные эксперименты этому способствовали. Так, несмотря на опасность, многие священники продолжали "поминать" царя, вели монархическую пропаганду. Некоторые были за это арестованы(24).
Для многих верующих весть об отречении царя была сильным религиозным потрясением. "Церковь была полна плачущих крестьян: "Что с нами будет? - повторяли они, - у нас отняли царя"" - вспоминал Ф. Ф. Юсупов. Сходную картину рисует и митрополит Евлогий: "Манифест об отречении Государя был прочитан в соборе, читал его протодиакон - и плакал. Среди молящихся многие рыдали"(25).
Можно утверждать, что и для сторонников, и для противников революции восприятие этого грандиозного переворота часто было не только политическим, но и религиозным переживанием(26).
Однако с самого начала революция была направлена и против участия церкви в политической жизни, Февральская революция была и революцией антиклерикальной. Некоторые современники воспринимали этот поток революции крайне упрощенно, 3. Н. Гиппиус записала в свой дневник: "Одни искренне думают, что "свергли царя" - значит, "свергли и церковь" - "отменено учреждение". Привыкли сплошь соединять вместе, неразрывно. И логично. <…> У более безграмотных это более выпукло: "Сама видела, написано, долой монахию. Всех, значит, монахов по шапке""(27).
Особое значение имело то обстоятельство, что жертв Февральской революции хоронили без священников, без служб. Погребение без отпевания вызвало возмущение со стороны части верующих. Казаки петроградского гарнизона по этой причине отказались участвовать в церемонии.
Против церкви были направлены и некоторые социально-политические эксперименты: например, еще 25 марта Никольский союз анархистов-коммунистов решил послать в Шмаковский мужской монастырь делегатов с предложением присоединиться к союзу и отменить монастырский режим, а нежелающим жить светской коммунистической жизнью - удалиться "в более глухие места". Нередко сельские сходы принимали решения об удалении священников из приходов, во многих резолюциях содержались требования изъятия церковных ценностей для покрытия Займа свободы(28).
Однако многие носители антиклерикальных воззрений продолжали оставаться в поле воздействия глубокой религиозной традиции, хотя подчас этого и не осознавали. Она же оказывала воздействие на политизацию общества: массовое сознание, будучи по форме политическим, было организовано как религиозное сознание. Объектом квазирелигиозного поклонения стали символы, институты, лидеры революции(29).
Современники сравнивали революцию с "возрождением", "воскресением", "воскрешением" России и ее народа:
"Христос воскрес! Гремя, упали цепи,
Ликуют небеса - восторгом ночь полна…
Привет вам и поклон, России чудо - степи,
Поклон тебе земной, родимая страна!
Перед тобой - простор. Перед тобою - Слава,
Осанна! Светлый клич доносится с небес.
Все, все перед тобой, Славянская Держава,
России Вечный Бог - воистину воскрес!"(30)
Солдат русского экспедиционного корпуса во Франции писал:
"Как колокольный звон к окопу от окопа
Плывет волнение: Народ воскрес, воскрес.
Он начинает жить. С тоской глядит Европа
На смелые дела, на быстрый ход чудес"(31)
В то же время его соотечественник, сражавшийся в экспедиционном корпусе в Македонии, полагал:
"Я верю, что страдалица Россия
Воспрянет вновь и пышно зацветет.
Придет, придет желанный к ней Мессия
И к новой лучшей жизни поведет" (32)
Сходные мотивы звучат и в другом пасхальном стихотворении:
"… И для тебя пришел Мессия
В кровавый, страшный, грозный год,
Многострадальная Россия,
Великомученик народ"(33)
Разумеется, стихи поэтов-любителей - весьма специфический исторический источник. Однако и во многих резолюциях (приговорах, наказах), и в личной переписке прослеживается тот же мотив: вера в возрождение (воскрешение) страдающей (несчастной) России и ее народа: "Поздравляю с большим праздником - Воскрешением Великого Всероссийского народа", - писал солдат домашним(34).
Тема воскрешения и воскресения - воскрешения нации и человека - присутствует, наверное, в самосознании любой революции. Однако в Российской революции 1917 года прослеживается особая связь этой темы с религиозным сознанием.
Революция привела к массовой политизации общества, этот процесс был болезненным и противоречивым. Подчас, компенсируя отсутствие соответствующих политических знаний и навыков, современники подставляли - сознательно или бессознательно - привычные и значимые этические и религиозные понятия для оценки событий. И такой грандиозный переворот воспринимался и переживался как праздник Пасхи. "Первая революционная ночь была как Пасхальная по ощущению чуда близко, рядом, вокруг тебя", - писала в письме от 26 марта Т. Н. Гиппиус. В своих дневниках и воспоминаниях участники событий также сравнивали революцию с Пасхой(35). Часто и ритуалы Пасхи использовались современниками для выражения их отношения к происходящему. Учительница вспоминает о встрече с коллегами: "Многих товарищей я увидела здесь впервые после перерыва занятий и, пожимая их руки, вместо приветствия говорила каждому: "Христос воскресе!" и со многими троекратно целовалась"(36). Сознательная и бессознательная ориентация на праздник Пасхи проявлялась и в целовании незнакомых людей (часто солдат) на улицах городов.
Подобный подход - оценка революции как важнейшего религиозного события - освящался и авторитетом религиозных мыслителей: "Может быть, с первых времен христианских мучеников не было во всемирной истории явления более христианского, более Христова, чем русская революция", - писал Д. С. Мережковский. Религиозный публицист В. П. Свенцицкий в те же дни отмечал: "Русская революция - нанесла поражение "дьяволу". И потому она так явно походит на чудо <…> Мы знали, что существуют "революционные организации". Но пусть скажет каждый по правде, - не исключая самых крайних революционеров, - думал ли он, что в три дня воскреснет русский народ. Конечно никто об этом не мечтал никогда. И вот - воистину воскрес!"(37).
Любопытно, что так относились к революции и некоторые духовные лица: "Иеромонах Иван (из пастырского училища), несмотря на пост, приветствовал меня: "Христос Воскресе!", "Христос Воскресе!", а в ответ на мои увещевания быть более сдержанным возразил: "Вы ничего не понимаете!" Потом я узнал, что он в училище со стены сорвал царский портрет и куда-то его спрятал"(38).
Но если революция часто сравнивалась с Пасхой, то и Пасха сопоставлялась подчас с революцией. Празднование праздника Пасхи было политизировано: "Пасхальную заутреню я служил в соборе, битком набитом солдатчиной. Атмосфера в храме была революционная, жуткая… На приветствие "Христос Воскресе!" среди гула "Воистину Воскресе!", какой-то голос выкрикнул: "Россия воскресе!!"(39) Компания по посылке на фронт пасхальных и первомайских подарков велась под лозунгом: "Пошлем красное революционное яичко".
Поздравления же органов власти (Временного правительства, Советов разного уровня) с праздником Пасхи носили политический характер: "Христос воскресе! Многоуважаемые защитники свободы, 7 рота Б. Д. Р. П. 35 пехотной дивизии поздравляет Вас с Высокоторжественным праздником Светлого Христова воскресения и этот праздник желаем Вам встретить и провести с таким чувством и восторгом, с каким мы и вся страна встретили свободу, завоеванную вами", - писали солдаты Временному правительству(40).
Таврический дворец именовался "храмом свободы", "храмом революции", министры Временного правительства - "жрецами свободы": "Клянемся верить вам, охранять светлое солнце свободы и защищать в вашем лице первых ее жрецов", -- заявляли делегаты 40-го корпуса(41). Подобное отношение к революции вызывало протесты Н. Бердяева: "Преклонение перед земной богиней, именуемой революцией, есть рабство духа и идолопоклонство"(42).
Религиозная традиция оказала влияние на символику революции: многие флаги повторяли форму хоругвей, на красных знаменах подчас изображались архангелы с трубами, возвещавшие, по-видимому, приход для угнетателей страшного суда - революции(43).
Сакрализация издавна присуща политике. Однако в 1917 г. процесс массовой политизации совпадал по времени и с антиклерикальным движением, и с религиозной революцией, политические проблемы переплетались с проблемами религиозными. Массовое сознание было политическим лишь по форме, по сути же политика становилась идеологическим суррогатом религии. Подобный процесс сакрализации политики описал в то время Н. А. Бердяев: "Началось новое идолотворение, появилось много новых идолов и земных божков - "революция", "социализм", "демократия", "интернационализм", "пролетариат"(44). Культ революции затем повлиял на формирование большевистской политической культуры советского периода(45).
Вера в Чудо политического, экономического и морального Воскресения страны и нации стало важнейшим элементом массового политического (политико-морально-религиозного) сознания. Отсутствие же этого Чуда "объяснялось" происками общего политического врага, упрощенный образ которого ("внутренний немец", "враг народа", "буржуй") дьяволизировался.
Российскую революцию 1917 г. часто сравнивают с революциями иных эпох. Но не меньше оснований сравнивать ее с религиозными конфликтами и битвами за веру.
"Русская революция"
Февральская революция дала импульс движениям в национальных регионах - движениям за национальные реформы, за автономию, а в ряде случаев - и за выход из Российской империи. Но в то же время многие современники рассматривали Февраль как национальную русскую освободительную революцию:
"Мы, солдаты, бесстрашно и смело,
Против царских холопов пошли!
За великое русское дело!
За великое счастье земли!"(46)
Революция трактовалась подчас как специфически российское явление, не имеющее аналогов в мировой истории, как доказательство особой миссии России: "Это революция единственная или почти единственная в своем роде. Бывали революции буржуазные, бывали и пролетарские. Но революции национальной в таком широком значении слова как русская, доселе не было на свете", - писал Е. Н. Трубецкой в статье "Народно-русская революция.
С. Л. Франк считал, что в революции проявился "инстинкт национального самосохранения". Его трактовку революции отличали мистические тона: "<…> народная душа, исполненная великого страдания и оскорбленная в этом страдании бессовестной царской властью, одним порывом свергла эту власть". П. В. Струве, по оценкам его друзей, говорил о "патриотической необходимости" государственного переворота(48). Так оценивали Февральскую революцию авторы "веховского" круга.
Многие современники с умилением рассматривали факт "великой и бескровной" революции как подтверждение особого, уникального характера русских. Часто звучало: "Подумайте только! <…> в России великий переворот - и ни капли крови! Невиданное в истории революций явление. Русские - святой народ"(49). В "Декларации" петроградской интеллигенции революция трактовалась как "чудеснейший из всех известных всемирной истории переворотов"(50). Показательно, что революция сразу же была провозглашена "Великой".
Подобные взгляды выражали и некоторые политические деятели. Кн. Г. Е. Львов, глава первого Временного правительства, заявлял 9 марта: "Честь и слава всему русскому народу. Над Россией засияло солнце свободы и сразу осветило глубокое дно озера - гений русского народа". Характеризуя настроения Г. Е. Львова в дни переворота, его биограф писал: ""Родина-Мать" - на краю гибели… И неужели в этот час он усомнится в "глубокой мудрости" русского народа, в божественных началах, живущих в его душе, - в его доброжелательстве, миротворстве, смиренстве?" Подобная идеализация России и ее народа влияла и на процесс принятия политических решений(51). Идеологи славянофильства оказали большое влияние на формирование мировоззрения Г. Е. Львова. В некоторых же его речах находили отражение идеи "революционного мессианизма": "Великая русская революция поистине чудесна в своем величавом, спокойном шествии. Чудесна в ней не фееричность переворота, не колоссальность сдвига, не сила и быстрота натиска, штурма власти, а самая сущность ее руководящей идеи. Свобода русской революции проникнута элементами мирового, вселенского характера. Идея, взращенная из мелких семян свободы и равноправия, брошенных на черноземную почву полвека тому назад, охватила не только интересы русского народа, а интересы всех народов всего мира. Душа русского народа оказалась мировой демократической душой по самой своей природе. Она готова не только слиться с демократией всего мира, но стать впереди ее и вести ее по пути развития человечества на великих началах свободы, равенства и братства"(52).
Важнейшим достижением переворота многими считалось создание действительно национального правительства: "Отныне в России нет грани между властью и страною. Отныне русское правительство и русский народ - едино, и это единое есть русская нация", - писал будущий идеолог "сменовеховства" Н. В. Устрялов. Н. А. Бердяев, характеризуя Временное правительство и его главу, отмечал: "В этом правительстве <…> есть что-то характерно-русское, русская нелюбовь к властвованию"(53).
Революция воспринималась как сигнал к исполнению исторической миссии России. М. Я. Феноменов, рекомендовавший себя как социалиста, заявлял: "<…> наш русский патриотизм резко отличается от грубого немецкого шовинизма"; "Освобождение народов - историческая задача великого русского народа"(54).
Часто переворот оценивался как всенародная патриотическая революция, "революция во имя победы", призванная предотвратить национальную катастрофу, подавить "заговоры" и "измену", смести антинародную власть. После Февраля Н. А. Бердяев писал: "Русская революция была патриотической по своим основаниям и по своему характеру"; "Русская революция - самая национальная, самая патриотическая, самая всенародная революция, в которой участвовали все классы и группы, противостоявшие антипатриотической старой власти <…>"; "Не социальная классовая борьба привела у нас к политическому перевороту, а непримиримое столкновение старой власти со всеми классами общества, со всем русским народом, всей нацией"(55).
Многие рядовые участники событий описывали послереволюционную ситуацию как своеобразную оппозицию, противостояние "русского народа" и "врагов народа", "изменников народному делу"(56)
Тема победы над "внутренним врагом" подчас переплеталась с темой "воскресения":
"Много крови, мучений, страданий и слез
Терпеливый народ на Руси перенес, -
Переполнилась чаша терпенья!
Сломлен внутренний враг, и воскресла страна.
Пробудилась она от кошмарного сна.
Прославляя свое воскресение"(57).
Победа над "врагом внутренним" трактовалась как важнейшее условие победы над "врагом внешним": "Справившись с внутренним врагом, взоры освободившегося народа обратились в сторону более лукавого и хитрого врага - Вильгельма и его верных разбойников, всегда помогавших самодержавию держать в неволе русское тело и душу".
Подобную оценку разделяли даже некоторые представители царствовавшего дома: "Наконец-то мы можем торжествовать над врагами России", - так, по словам Ф. Юсупова, заявил великий князь Николай Николаевич, назначенный на пост Верховного
Главнокомандующего(59).
Нельзя не сказать, что важной частью послереволюционных настроений были антигерманские настроения: революция воспринималась подчас как патриотическая антинемецкая революция, предреволюционная антимонархическая агитация была отмечена чертами германофобии и слухами об измене в верхах. Антигерманские настроения проявились и в ходе Февральской революции: звучати призывы, направленные против царицы-немки, многие офицеры, чиновники, обыватели - обладатели немецких фамилий - были арестованы, а то и убиты. Известный публицист Д. В. Философов 1 марта записал в свой дневник: "В 10 ч. вечера телефонировал Нувель. К ним пришли солдаты и повлекли его и брата на улицу, под арест, потому что у них "немецкая фамилия". На улице они уже объяснили, что у них фамилия французская. Тогда ему сказали: "Ну ступай домой". Живущего у них члена Государственного Совета Икскуля (бывшего государственного секретаря?) арестовали из-за фамилии и поволокли пешком в Думу, там разберут". О подобных фактах писали и иностранные газеты. Английская "Таймс" сообщала: "В населении господствует сильное антигерманское настроение". Зарубежные газеты (английские, германские) сообщали о преследовании людей с немецкими фамилиями(60).
Антигерманские настроения были присущи и сторонникам обновления церкви: "Режим немецкого полицейского государства, Установившийся в России в т. н. "императорский" период ее истории не мог не оказать своего мертвящего замораживающего влияния и на церковную жизнь"(61).
Комитет 9-го Финляндского стрелкового полка заявлял: "Приветствуя великий исторический факт падения монархии, а с нею и зловредного засилия немцев <…>"(62). Сходные настроения встречаются и в частной переписке. "Поздравляю вас с новым русским, а не немецким правительством", - писал солдат домашним. В обзоре же солдатских писем, подготовленных военной цензурой, отмечалось: "Часто повторяется мнение, что свержение старого режима является спасением России от германцев, которым неизбежно досталась бы Россия при прежних министрах-изменниках"(63).
И в массовой бульварной "антираспутинской" литературе, и в соответствующих театральных постановках, и в фольклоре переплетаются антимонархические и антинемецкие настроения:
"Вы компанию водили
Все с Вильгельмами,
А народ простой ругали
Прямо шельмами.
Эх, вы принцы, мои принцы
Да дворецкие!
Настоящие голштинцы
Вы немецкие!" (64)
Массовидная версия о заговоре царизма оставила глубокий след в массовом историческом сознании: и десятилетия спустя многие экскурсанты, посещавшие бывшие императорские дворцы, пытались выяснить, где именно находились телеграфные аппараты, по которым царь и царица "выдавали тайны" немцам.
Вопрос о наличии ксенофобии в идеологии российского освободительного движения нуждается в специальном изучении. Однако подобные настроения в 1917 г. имели и более близкий источник: шовинистическая и милитаристская агитация эпохи Мировой войны повлияли на многие интерпретации Февраля. В "патриотической" литературе военного времени победа над "немцем внутренним" рассматривалась как предварительное условие победы над "немцем внешним". Именно такие термины мы встречаем во многих послефевральских резолюциях.
Логические построения "немец - враг, враг - немец" повлияли на послефевральскую политическую борьбу. Политических противников обвиняли в германофильстве и измене. Первоначально подобные обвинения выдвигались в адрес левых, а потом и умеренных социалистов. Однако многие солдаты обвиняли в измене и Верховного главнокомандующего: они были уверены, что П. Г. Корнилов, бежавший из плена, в действительности, был "заслан".
До Февраля многие представители власти указывали на опасность безудержной антинемецкой пропаганды для государственной безопасности. После революции антинемецкая пропаганда всячески поддерживалась армейским командованием. В "Письме на родину", отпечатанном и раздававшемся матросам, говорилось: "Немцы, живущие в России и старое правительство делало большую измену. <…> Только надо еще не забывать, что и в стране у нас немец, которому тошна русская свобода"(65).
Именно такая интерпретация революции (патриотическая революция во имя победы, антинемецкая революция) навязывалась пропагандой союзников в России.
Необходимо отметить, что именно российские солдаты, а в некоторых случаях и русские рабочие, были подчас инициаторами и проводниками радикализации революционного движения на национальных окраинах, в то время как местные общественные деятели выступали с более умеренных позиций. Это, по-видимому, также накладывало отпечаток на восприятие революции как революции русской.
Антибуржуазная революция
Ни "религиозная революция", ни "патриотическая революция" не были основными потоками революции. Социалистические партии различного толка играли наиболее активную роль в этом процессе, именно они оказали наибольшее влияние на формирование языка революции, на возникновение ее символов. В этом отношении "буржуазная" Февральская революция была изначально и антибуржуазной революцией. Казалось бы, интернационалистическая идеология социалистов противостояла "русской идее". Красный флаг фактически стал государственным флагом, попытки же демонстраций под национальным знаменем даже либеральная пресса рассматривала как "монархические манифестации". В антипатриотизме упрекал социалистов Н. А. Бердяев: "Интернациональная социалдемократия вполне немецкая по своему духу. Она и является одним из германских влияний, мешающих русскому сознать, что в мире происходит великая, всемирно-историческая борьба славянства и германства, двух враждебных сил истории, что славянская раса или выйдет из этой борьбы победительницей, отразит притязания германизма и выполнит свою роль в истории или будет унижена и оттеснена"; "Интернационализм на русской почве есть вывернутый на изнанку германский национализм или национализм инородцев, населяющих Россию"(67).
Однако следы "русской идеи" мы встречаем при изучении социалистической субкультуры 1917 г. Да и сам Н. А. Бердяев в 1917 г. отмечал связь социализма с отечественной политической традицией: "Русский революционный социализм есть явление совершенно реакционное, он есть лишь наследие процессов разложения старой России"(68).
Даже многие умеренные социалисты рассматривали Россию как центр международной революции: "<…> совместными усилиями всех живых сил страны мы доведем нашу революцию до конца и, быть может, перекинем ее на весь мир", - заявлял в одной из своих речей И. Г. Церетели (69).
Революционные массы, усваивая пропаганду социалистов, стали рассматривать себя как "передовой отряд" международного рабочего движения - именно так именовали себя солдаты запасных батальонов российской гвардии. "Наиболее демократическая во всем мире" - так оценивали свою страну во многих резолюциях. "Угнетенные народы всех стран" постоянно призывались "последовать примеру" России, русского народа: "Германский народ, следуй нашему примеру в борьбе с твоим правительством"(70).
Революционный мессианизм проявился в создании символов новой России: на многих знаменах и эмблемах того времени встречаются изображения земного шара, иногда планету украшала фигура русского рабочего с красным флагом. Изображения земного шара появились и на проектах нового государственного герба России(71). Это повлияло и на формирование геральдики советского периода.
Характеризуя подобные настроения, многие публицисты начали говорить о "славянофильстве наизнанку". Известный социолог П. Сорокин писал: "Когда видишь, как темный, до 80 % своих членов безграмотный, а в остальной части - едва умеющий читать и писать русский пролетариат под гипнозом революционной фразеологии всерьез начинает думать, что он и впрямь "передовой", самый просвещенный и самый лучший отряд Интернационала - когда видишь все это, невольно вспоминаются славянофилы и "русский школьник" Достоевского"(72).
Можно говорить и о взаимном влиянии религиозного и антибуржуазного потоков революции. Это, в частности, проявилось в создании различных моделей христианского социализма, в организации соответствующих и организаций. Так, Союз новых христиан-социалистов, характеризуя свергнутый строй как "совершенно противохристианский", своей задачей считал утверждение Царства Божия на земле. Предпринимались различные попытки создания христианско-социалистической, "церковно-социалисти-ческой" партии. Да и В. Н. Львова некоторые современники упрекали в том, что он "одевает" Православную церковь "в одежды христианского социализма"(73).
С другой стороны, и движение религиозного обновленчества развивалось под воздействием "моды на социализм". Союз демократического духовенства и мирян высказался за борьбу с капитализмом, предсоборное совещание Российской православной церкви - за отмену капитализма(74).
Социалистическое и антибуржуазное массовое сознание также было связано с религиозной традицией. В докладе "Революция и русское национальное самосознание", прочитанном в Московском религиозно-философском обществе им. Вл. Соловьева 18 октября 1917 г., А. М. Ладыженский утверждал: "Но все же отнюдь не верно, будто массы одушевлены только личным эгоизмом, будто наша революция безыдейна, будто отказ полков идти в наступление вызывается только стремлением избежать опасности. Нет, в массах, наряду с чисто своекорыстными побуждениями в настоящий момент есть глубокая вера в то, что они создают чрезвычайно справедливый строй, что через несколько лет, а может быть и месяцев наступит царство Божие на земле. Есть люди с чисто религиозной верой относящиеся к большевизму. [Не случайно солдаты заставляют священников в молитву о мире всего мира Господу помолимся вставлять перед последними словами "без аннексий и контрибуций""(75). В работе "Религиозные основы большевизма" Н. А. Бердяев высказывал сходные мысли: "Большевизм есть социализм, доведенный до религиозного напряжения"(76).
В условиях "моды на социализм" появляются и различные модели русского "национального социализма". Либеральную версию представлял Союз эволюционного социализма, девиз которого гласил: "Через народную Великую Россию к социализму". В то же время уличная правая, шовинистическая "Маленькая газета" (в ней сотрудничал и В. П. Свенцицкий) именовала себя "газетой беспартийных социалистов"(77).
Нельзя не отметить, что и идеи ксенофобии, и крайние формы антибуржуазной идеологии формировали сходную ментальность, в центре которой находилась идея могущественного заговора "темных сил": в одном случае - заговор "внутреннего врага", в другом - заговор буржуазии. О подобном явлении еще до революции писал П. Б. Струве: "Сущность и белого, и красного черносотенства заключается в том, что образованное (культурное) меньшинство народа противопоставляется народу как враждебная сила, которая была, есть и должна быть культурно чужда ему. Подобно тому, как марксизм есть учение о классовой борьбе в обществах, - черносотенство обоих цветов есть своего рода учение о борьбе культурной"(78). Действительно, антибуржуазные, "антибуржуйские" настроения оформляли подчас не только классовые, но и социокультурные конфликты: носители антизападных, антигородских настроений использовали термин "буржуй" для характеристики своих противников(79).
Но и пропаганда левых социалистов подчас содержала элементы ксенофобии. Так, антибуржуазная и антиимпериалистическая агитация была направлена в значительной степени против французских и, в особенности, против британских капиталистов, угнетающих русский народ, использующих его в своих целях и пр. Подобная пропаганда смыкалась с германской военной агитацией на русском языке - в ней доминировали мотивы англофобии.
Представляется, что выделенные нами элементы "русской идеи" были присущи в 1917 г. различным политическим течениям. Они встречаются в источниках самого различного характера. Данные компоненты присутствовали и в программных, и в пропагандистских материалах, и в массовом сознании. Часть была использована впоследствии советской официальной идеологией на разных этапах ее развития.
Но насколько распространены были разнообразные версии "русской идеи"? На каких этапах революции они пользовались популярностью? В какой степени они были "программными" компонентами идеологий, а в какой - лишь тактическими приемами? Эти проблемы требуют специального исследования.
При этом следует рассмотреть вопрос о соотношении идеологии и традиционной политической культуры, массового сознания и политического менталитета. Так, в ряде случаев демократическая идеология накладывалась на авторитарную ментальность, модные политические лозунги вступали во взаимодействие с глубинными религиозными и общинными традициями. Можно предположить, что политическая традиция часто деформировала и адаптировала внешне враждебные ей идеологические системы. В этом отношении показательно, что через несколько недель после радикального антимонархического переворота в России возникает - без какого-либо внешнего силового принуждения - культ всемогущего вождя-спасителя, культ А. Ф. Керенского. Этот культ затем повлиял на большевистскую и советскую политическую
культуру.
Примечания:
© B. Kolonitski
|