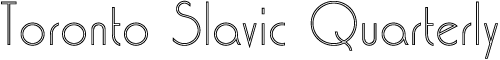ТАТЬЯНА ЦИВЬЯН
К СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДИАСПОРЕ: "СЛУЧАЙ РЕМИЗОВА"*
* Вариант этой статьи печатается в сборнике, посвященном юбилею А. А. Зализняка.
О том, чем для Ремизова были русский язык и русская словесность, постоянно и напряженно писал он сам, особенно - в эмиграции, когда поставил себе задачу не только писать на русском языке, но и писать о русском языке: и то, и другое имело особое значение для послереволюционной диаспоры(1)/ Задачи сохранения и развития русского языка в условиях, когда был насильственно оторван наиболее ценный (в определенном смысле элитарный) пласт русской культуры, ощущались носителями этой культуры ностальгически остро. Едва ли не единственной неотчуждаемой собственностью, которую нельзя было реквизировать, остался родной язык, выступавший как самый надежный гарант сохранения культуры во времени - в надежде будущего воссоединения ее и в пространстве даже тогда, когда, по слову Георгия Иванова, надеяться стало смешным.
В этой ситуации речь шла и о сохранении и развитии в новых условиях живого и полнокровного русского языка как языка общения (так сказать, русской речи), и о сохранении и развитии русского языка как "текста культуры", т.е. по сути дела о непрерывающемся продолжении русской литературы(2). Последнее, естественно, ложилось на писателей (или, шире, вообще на словесников) и осознавалось ими как важнейший долг, с которым они справились блестяще и героически: теперь, наконец, это увидели и мы. Тема русского языка широко обсуждалась в эмигрантской художественной, критической литературе и публицистике (3); доходящие только сейчас до нас мемуары показывают, насколько насущной она была. Ремизов в этом отношении - один из наиболее ярких примеров.
Как представляется, он пытался изменить взгляд на русский литературный язык как на нечто отлитое и застывшее, функционирующее в рамках строгих правил (4). В художественных произведениях, так же как и в "авто-метаописании", т.е. в анализе собственной писательской техники (а у позднего Ремизова одно от другого отделить достаточно трудно), Ремизов утверждал принципиально более свободное, широкое и масштабное обращение с языком, расширение его границ едва ли не до той точки, когда возникают сомнения в том, можно ли так манипулировать языком и где вообще кончаются границы языка - не только литературного, но и вообще русского.
В культуре первой эмиграции общим местом стало противопоставление двух первых прозаиков, Бунина и Ремизова, по принципиально разному, почти контрастному "обращению с языком". Если Бунин считал, что Ремизов "перешагнул все пределы издевательства над русским языком", то Ремизов (конечно, не имея в виду Бунина) проходился по адресу "праведных судий и оценщиков искусства с карманными словарями русского языка", которые "долбят тридцать лет: пишу не по-русски"(5).
Глядя назад, в начало своего творчества, Ремизов пишет о полемике с "петербургскими аполлонами" (название журнала становится и указанием на требования классичности, гармонии и т.п.): "Природа моего "формализма" (как теперь обо мне выражаются) или точнее <...> "вербализма" была им враждебна: все мое не только не подходило к "прекрасной ясности" <отсылка к Кузмину. - Т. Ц.>, а нагло перло, разрушая <...> чуждую русскому ладу "легкость" и "бабочность" для них незыблемого "пушкинизма". Они были послушны данной "языковой материи", только разрабатывая и ничего не начиная <Курсив наш. - Т.Ц.>" (ПД 263). Соответственно свою задачу Ремизов видит не в том, чтобы разрабатывать, a в том, чтобы начинали.. Он был из тех писателей-"строителей", которые "прут напролом, пробивая и проминая тропу, со своим словом, ухом и рукой" (KP 42).
Это пробивание пути, как нам представляется, лежит в принципиально новом взгляде на оппозицию язык/речь, вернее, на ее приложение к словесному творчеству. У Ремизова было особое, профессионально-лингвистическое отношение к языку, что поддерживалось С. П. Ремизовой-Довгелло, специалистом по палеографии, к чьим советам и консультациям Ремизов относился с глубоким почтением(6). Это определяло и его, в сущности, осторожность по отношению к языку - при всех экспериментах: свою неуемную творческую фантазию он поверял наукой(7) и прежде всего нормативной грамматикой.
В 1931 г. Ремизов, под псевдонимом "баснописец В. Куковников", опубликовал в "Новой газете" статью "Щуп и цапля"(8). Своего "псевдонима" он характеризует так: "Самый подходящий редактор - и кто еще может так легко <...> выщупать и зацепить то, что совсем не к месту или не при чем или наоборот или "по недоразумению", а попросту от великого ума" (М 211). Выщупаны и зацеплены отступления от правил нормативной грамматики, прежде всего синтаксические: "<...> в письме <...> не может быть живого беспорядка - <...> слова разговорной речи должны быть строго организованы: каждое слово знает свое место. <...> место слова дает ему свое значение" (М 211-212). Пример: (из заметки в парижской газете) "Профессор Н. А. Добровольская-Завадская <...> прочла ряд лекций о раке и раковой наследственности в университетах и ученых собраниях. И комментарий Куковникова-Ремизова: "Из этого сообщения ясно, что Надежда Алексеевна читала лекции о каком-то особом виде "рака", называемом "университетский рак" и о раковой наследственности, наблюдаемой в ученых собраниях. <...> Ведь совсем пустяковая перестановка, а ведь смысл другой!" (М 212). Другие замечания столь же ювелирны (стилистическая разница между езжайте и поезжайте, разница в употреблении предлога о и об, и т.д.), и все они делаются если не с прямой отсылкой, то во всяком случае с оглядкой на грамматику. Выступая в роли наставника молодых писателей, Ремизов постоянно заставляет их обращаться к грамматике, особенно к синтаксису, и к словарям (его настольными книгами были Даль - для русских слов и Ушаков - для иностранных, т. е. для заимствований в русском). Такое "выучивание" грамматики и словаря он считал особенно важным в условиях эмиграции, при отрыве от основного массива родного языка (9).
Смелость ремизовских экспериментов стоит на двух китах: нормативная грамматика и словари. Только эта твердая основа позволяет ему устанавливать новые границы русского литературного языка и заниматься вербализмом (10). Казалось бы, - почти общее место: с одной стороны, "по правилам" никто не говорит (пародирование языка иностранцев основано как раз на том, что они чересчур точно следуют грамматике), с другой стороны, правила присутствуют - среди прочего и как ограничитель, контролирующий "вольности" и не дающий выходить за пределы языка.
Однако новаторство Ремизова не ограничивается расширением границ языка за счет отхода от нормативной грамматики и включения нового лексического слоя (архаичная, разговорная, иноязычная лексика и т.п.). И то, и другое также более или менее обычно и в определенном смысле является, если можно так сказать, нормированной инновацией. Не касаясь в этой заметке лексического уровня произведений Ремизова, точнее, его лексического мира, остановимся на его грамматике и специально на синтаксисе, который и определяет то, что можно назвать строем его языка. Подчеркнем, что, по нашему мнению, Ремизов, строго говоря, не выдумывает ничего несообразного, но: он вводит в письменную речь принципиально иной строй - строй разговорной речи: "Все, что я пишу - моя исповедь. Я хочу выразить не книжно, "сказом" (11), исповедь ведь не пишут, а говорят" (К 127). Составляя свой текст (это обозначение не случайно: Ремизов "собирал" слова: "И складываю и раскладываю слова" (РП 32); "собирать слова" (РП 214) и т.п.), он не только осознавал, но точно описывал свою писательскую технику и своим описанием конструировал ее, действуя в соответствии с собственной терминологией.
В каком бы значении ни употреблял Ремизов слово слово (лексема, текст, язык, речь), основой для него является звук: слово происходит из звука и осуществляется в звуке - произнесении (12). Ремизов постоянно настаивает на том, что писатель должен проверять написанное на слух (13). Это не только авторский прием (известно, например, что Алексей Толстой, работая, "разыгрывал в лицах" свои произведения), это твердая установка, цель: организовать письменный язык по законам речи.
"Проверка произнесением" только во вторую очередь имеет в виду действительно звучание, звуковое оформление, проверяемое "глазным слухом" (14). Более важен здесь ритм, который Ремизов считает основой фразы и далее - текста: "Всякое ограниченное словесное пространство, от Гоголя до прейскуранта, ритмично" (РП 356; Кодрянская, со слов Ремизова, говорит, что словесное выражение для него - ритм - К 135; ср. к этому же: "Искусство слова - вес, число и мера" - К 110). Ремизов пишет по грамматике, но это грамматика речи, и ее действительно надо проверять на слух и верно интонировать, иначе смысл фразы останется темным; интонация может быть более сильным, чем слово(15), смыслоразличительным средством, а графические знаки - лишь ее бледное соответствие (16): "Переписывая, приучитесь делать "красные строчки". Помните, я говорил, как выразить интонацию? Я думаю, в какой-то мере, или отчасти, это невыразимое словами можно передать графически: расположением строчек" (РП 51)(17).
Грамматика Ремизова описывается терминами: лад, склад, уклад русского природного языка/речи ("корплю над "русским ладом"" - РП 32; "следую природному движению русской речи" - РП 275). Это термины, а не метафоры, и основаны они на его весьма продуманных и основательных суждениях об истории русского литературного языка, о направлении его развития, иноязычных влияниях и т.д.(18) Ремизов опирается на то, что он называл родным "природным" языком, ориентированным не на застывшие клише "неподвижного" литературного языка, а на живую речь ("Надо входить в самую гущу склада живой речи, иначе будет наше стертое" - РП 262), в которой "не все лады слажены - русская книжная речь разнообразна, общих правил синтаксиса пока нет и не может быть" (К 42). Иными словами, Ремизов исходил из принципиального разнообразия различных performances русского литературного языка, причем разнообразия, основанного на ладе речи: "Природный лад живой речи неизменен, а народная речь непостоянна и словарь народных слов меняется в зависимости от слуха и памяти <...>" (OB 51); "Я не хочу воскрешать какой-нибудь стиль, я следую природному движению русской речи, и как русский с русской земли, создаю свой" (РП 275) - таково лингвистическое credo Ремизова, которое он практиковал в своем творчестве.
Речь отличается принципиально иным порядком слов: большая, по сравнению с нормативными канонами, свобода не означает бессистемности. Работая над словом, над любой единицей текста (элементарная синтаксическая конструкция, фраза, абзац и т.д.), Ремизов имел в виду пространство всего текста. Организовать это пространство, т.е. передать "звучащие смыслы", найдя адекватное соответствие интонации, можно было, по его убеждению, средствами синтаксиса разговорной речи, и прежде всего - свободным(19), вернее обусловленным иными критериями(20) порядком слов. "Ведь, дело не в словах, а в порядке слов, в синтаксисе. <...> Пишите как у вас сказывается <Курсив наш. - Т. Ц.>" (РП 32). В этой формулировке - формула ремизовской письменной речи, перестроенной по законам устной: "Запись - силуэт, или только скрепленные знаками строчки. Надо разрубить, встряхнуть, перевести на живую речь - выговаривая слова всем голосом и заменяя книжное разговорным" (К 134)(21).
Эту формулу он повторяет и развивает: "Перебрасываю слова и строю фразу как во мне звучит" (К 42); надо "слышать и видеть отдельные слова и соотношения слов" (OB 143); "Искусство начинается, когда вы по написанному СОБИРАЕТЕ звуки (слова) <...>" (РП 204); "Слова приходят на ум гурьбой, не одно. Искусство не только выбор слов, а и сочетание - сложение" (К 110); "За три года я научил вас словесному порядку и вы достигли ступени не только "рассмотрения дела", но и "рассуждения", по ученому инверсии - переворачиванию, перестановки слов <...>" (РП 138); "Буду мучиться не над словами и как их разместить - слова и порядок слов, все у Гоголя - а построением из этих слов" (РП 200); "В "Учителе музыки" я делаю всякие опыты со словом. (Все это возможно, только владея языком). <... > Например: постройте фразу "одним духом" без остановки - 1/2 страницы <...>" (РП 112); "И мне ли не знать, что музыка как и литературное произведение - "математика". И вы это хорошо знаете по себе и что такое переброска слов, как не алгебраическое решение уравнений" (РП 193), и т.д.
И вот подбор примеров, ремизовская теория на его же практике (чтобы проникнуть в синтаксический строй, читать надо вслух):
Выхожу на кухню, прислушиваюсь, как ветер поет, но это в сумерки. Лампа в 60 так ярко осветила и что-то не слыхать. А я люблю слушать его песни, - его песни отзвук - u земли не будет, а Он останется, то, что было до создания мира и будет, когда все разрушится (РП 85);
<... > да у нас жгли без затей, ничего с инквизицией, лишали причастия, а просто "чтобы впредь не повадно было воровать" <...>" (РП 86);
Бедность моя, сегодня на прогулке думал, может быть из 60-и 3, 4, 5 не больше, все остальное хочу взлететь, а земля тянет (РП 143; речь идет о собрании записанных Ремизовым снов);
Моя жизнь шла кувырком, но я свой за зеленой оградой, а она только через меня сюда, и вся жизнь ее была пронизана горечью жить у чужих (РБ 309);
<...> я очень "физический", "предметный", "образный", и чистая мысль - у меня нет рук схватить ее и подчинить себе (И 26);
<... > и я иду крепко, не хоронясь, и если в метро, не растерянно, а как полагается всякому, прежде чем углубляться, рассматриваю и замечаю направление, чтобы туда попасть, куда нужно, а не в другую сторону ехать, а по утру из булочной с "фиселью", такой длинный и узкий хлеб-палка, несу не горбясь, человеком по роду и кости - русский (В 158-159);
И вечером на кухне слушаю - гудит ветер. В его песне - куда мы все уходим и в свой срок там найду свой угол (РП 340);
И как мои игрушки существуют, потому что я, так и эти печати, потому что есть еще на белом свете такой чудак, есть вера его в их неподдельность (ВР 357).
Но Манилов - с природной чистотою мысли и чистым сердцем - Чичиков выкрутится - Манилов кончит плохо: такие по своей доверчивости непременно впутаются в грязную историю, и ошельмуют: "дурак, туда же <Т.е. ошельмуют их, а не они, как выходило бы по нормативному синтаксису. - Т. Ц.>!" (ОВ 66);
А в наше время - война: каких только городов и местечек не узнали мы нынче, под боком у нас лежащих, а о которых и слыхом не слыхивали, ну, война, что беда, всему научит, и географии, и не тому еще, - дурака-то валять, видно, конец пришел! (РвП 130).
На содержательном уровне эта структура может быть сопоставлена со структурой и соответственно записью сна (ср.: "<...> мои сны пронизаны словами и фразами" - РП 333; "Этот первый мой и единственный рассказ написан "куроляпкой" без связи в почерке и в словах, как бывает во сне" - И 20), и к этому изложение снов:
Конь мимо меня, какая доброта, приветливость, а у меня в руках ведро - сверкает луной <...> И этот конь после вчерашних (в сне) серых жерновов и теплого камня с блеском - камень Лермонтова - роковой - на пороге (РП 356);
И далеко отошли, а я все вижу, как движется он на своих обрубках и какой это через силу усталый от безчувственной (не вызывающей сочувствия) мольбы взгляд (РП 101) и т. п.
Разумеется, обнаружить в произведениях Ремизова приемы и обороты устной речи - в определенном смысле ломиться в открытую дверь; это не раз отмечалось в литературе и особенно подробно изложено в работе О. Раевской-Хьюз, значимо озаглавленной "Защита Ремизовым русского языка"(22). Нам бы хотелось показать, что речь идет о планомерной и последовательной перестройке языка в принципиально иной лад (если пользоваться музыкальной метафорой, которую, как мы видели, использовал Ремизов для обозначения своей "грамматики"), об актуализации устно-разговорной разновидности русского литературного языка и о стремлении сделать ее равноправной (а в понимании Ремизова - истинной) ипостасью литературного языка.
Мы опираемся на известную книгу О. А. Лаптевой о русском разговорном синтаксисе(23). Название книги уже ее содержания, о чем свидетельствуют выводы, по сути дела описывающие "случай Ремизова": "Современный русский литературный язык наряду с компонентами стилевого характера располагает своей устно-разговорной разновидностью <...>" (363). Устно-разговорная разновидность обладает собственным набором средств со своей внутренней синтагматикой и парадигматикой. В то же время этот набор входит в системные отношения с общелитературными средствами (см. 364); в этом языковом варианте действуют совокупно строевой синтаксис, актуальное членение и ритм, а изменения касаются сферы словорасположения и сферы структурно-грамматической; словорасположение становится участником организации синтаксической модели и обретает способность отличать устно-разговорное синтаксическое средство от общелитературного (см. 365). Словорасположение, поддерживаемое свободным характером порядка членов в русском предложении, основывается на трех главных принципах: стремлении к инициальному положению информативно более значимого члена; добавлении в конце высказывания информативно малозначимого члена, отсутствующего в первоначальных коммуникативных установках высказывания; ритмически организованном чередовании ударных и безударных звеньев (см. 183-184); актуализируются конструкции с именительным темы (и происходит вообще экспансия именительного падежа); состав, который представляет основную информацию, дробится (185, 189); порядок слов подчиняется порядку ассоциативного нанизывания (196); свободное размещение энклитик и проклитик (198) и т. д. и чрезвычайно важное: порядок слов "выступает в качестве равноправного грамматического средства и становится элементом структуры модели <...> из "сопроводителя" он становится участником синтаксических отношений" (203). Высокая по сравнению с письменным вариантом литературного языка свобода, затрагивающая и элементарные синтаксические конструкции, и более крупные единицы, от предложения до текста, не означает хаотического безразличия, как и не означает подчинения формы содержанию: выделяются не только отдельные клише, но и закономерности, тяготеющие к правилам, т.е. в конце концов - к грамматике устно-разговорного варианта литературного языка, потому что именно законам своей грамматики он и подчиняется. В изобилии приводимые в книге примеры по структуре идентичны ремизовским опытам (ср. случайную выборку:
А где мой шнурок держала ты; Там "Березка" магазин; Чисто чтобы было; "Уран" уже кинотеатр проехали; Там семеро было москвичей и еще один; Пусть там как хотят критики смотрят; Что же это, мои отстают часы, что ли, да?; - Ты это наверно еще Гудзию сдавала выучила?; Вообще очень досадно, что ни один сегодня педагог к нам не пришел; Две копейки не у вас; Я лежала их и считала; Туда далеко там турник где стоит; Я вот ходила за молоком через дом к старушке-то вот глаз кривой и т. д.).
Это примеры бытовые, они выглядят стилистически заниженными, но именно на их фоне прекрасно видно богатство художественных возможностей (прежде всего, конечно, это большая эмоциональная напряженность), скрытых в устно-разговорном варианте литературного языка и "вытягиваемых" из его глубин Ремизовым. То, что Ремизов писал не спонтанно, а на основе грамматики устно-разговорного варианта русского литературного языка, видно хотя бы из следующего примера: "Единственный Бунин обратил вниманье не на слова, а на слог - связь слов. Мой синтаксис приводил его в ярость: безграмотно. Пример - последняя фраза в рассказе о Шмелеве ("Мышкина дудочка"): "И не палка, не посох, клюкой стуча по тротуару, центурион - повернул за угол. И пропал". (По Бунину надо было: "И не палкой, не посохом, клюкой... ")" (К 300) - классический пример экспансии именительного падежа(24).
Этот пример возвращает к противопоставлению (противостоянию - открытому, со стороны Бунина, и поддразнивающему, со стороны Ремизова) двух первых прозаиков первой эмиграции, раскрывая его как противопоставление двух вариантов русского литературного языка, письменного и устного. Сейчас становится особенно очевидной ненужность этого противопоставления и более того, своего рода contradictio in adjecto: выбор Бунина (конечно, при его мастерстве) - надежность материала и гарантия успеха; выбор Ремизова - заведомый риск, предусматривающий условность, почти искусственность результатов. В определенном смысле Ремизов - экспериментатор, ставящий опыт на самом себе и вполне сознающий опасность, которой он себя подвергает. Пожалуй, только теперь ( да и то не в полной мере) мы можем оценить его упорную смелость в "перетряхивании" русского литературного языка, так же как планомерность и лингвистическую обоснованность его реформаторской деятельности(25).
В заключение - несколько слов о темах, которые здесь не были затронуты, но которые стоит хотя бы обозначить - на будущее. Говоря о русской речи, о "русском выборе" Ремизова, нельзя не затронуть и столь занимавшую его проблему "иноязычия". Она может быть рассмотрена в нескольких аспектах, которые мы здесь лишь упомянем. Первый: неоднократно высказываемые Ремизовым суждения о внедрении в русскую речь чуждого ей "европейского" синтаксиса, что привело к тому, что родной язык стал звучать для русского уха как латынь, сравним хотя бы известное "русский во французской упряжке" (о синтаксисе Толстого - ОВ 59) или: "<Достоевский> продолжает традицию книжной искусственной речи по немецким образцам (Карамзин) и переводам с французского (Пушкин) <...> дух природного слова, его лад, жив, и русскому <...> будет ближе и понятнее всякой выглаженной по французским правилам тургеневской речи" (ОБ 218); "<...> и только потом и не скоро понял, что вина не во мне, а в искусственном, на немецкий лад, синтаксисе литературной "книжной" речи" (И 32); "В слова и обороты "писцовых книг" и всякой археологии вмякивалась английская речь. Российское благородное дворянство принесло в Россию Париж, а островское купечество - Лондон" (И 42-43) и др.
Своего рода компендиумом взглядов Ремизова на русский лад, искаженный иностранными моделями литературного языка, является раздел "На русский лад" (с рефреном "Заговорит ли Россия по-русски?") в недавно опубликованной А. Грачевой его "Рабочей тетради" 50-х гг. (АР 213-217): "Над русской природной речью <...> мудровали. И в веках разнообразно создавалась русская книжная речь. XVIII век порвал всякую связь со своим исконным русским началом, заговорил и книги пишет на свой лад. В конце концов через сатирические журналы, с лубочной пробивкой, заслуга Новикова, через немецкое Карамзина, французское Пушкина - Лермонтова, и "роскошное" польское - Марлинский и Гоголь, а за ними Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Дружинин, Лесков, Слепцов, Чехов, выработалась русская проза. Все это русское, но лад природной русской речи отлетел от этой словесности, изображающей, мудрой и действующей на человеческую душу.
Всю русскую литературу можно перевести на любой иностранный язык: движение русского слова втиснуто в синтаксис по иностранным образцам, "корректировано" по Гречу и Гроту. Подлинно русское непереводимо: можно изложить "своими словами", и только так случилось с Аввакумом. <...> Россия достойна выражаться на своем языке - русским ладом, а не на мешанине иностранных стилей. <...> Оживить русскую прозу может только свойственный русской речи русский лад. <...> Как по земле идут, надо пройти по словесной земле в веках, прикоснуться к живой русской речи" (АР 215 - 217).
Второй аспект - чрезвычайно важная для Ремизова проблема перевода, которая начиналась с "приноравливания чужих сказаний к своей национальности: перевода чужого понятия на современный язык" (К 132), т.е., по сути дела, рассматривалась в контексте гумбольдтовско-потебнианских (и сэпировских) идей, которые получили сейчас такое развитие при описании и анализе лингвистической модели и/или лингвистической картины мира. Что и как звучит на своем языке и на чужом, как объединить свое и чужое ("пусть прозвучит наше родное через чужие звуки" - РП 173), - к этому Ремизов возвращается постоянно(26). Ср. о чтении Каляевым перевода "Тоски" Пшибышевского: "В его чтении русских звуков я не слышу: Варшава и его мать полька" и далее, о восприятии Словацкого, Красиньского, Норвида - "тянет любопытно, но у самих у нас, в нашей душе затаено, беззвучно" (И 200); "Во француз. тексте приключения, но для меня незвучны" (РП 303)(27); "Сличая тексты Тристана, я понял, что такое переводить <...> гнаться за каким-нибудь переводом зря: надо воссоздавать словом чувство, а это может только автор, если знает иностранный как свой" (РП 186); к этому же - "интернациональная" звукопись: "<...> если русские для вселенной усвоили греческое слово - освященный благоухающий елей "муро" надо найти русское слово, по французски sonore и выразить звучное благоухание вселенной" (РП 289)(28) и т.д.(29)
И, наконец, третий аспект - эксперимент Ремизова с включением в текст иноязычного слоя, блестяще проведенный в "Учителе музыки": "В языковой ткани Учителя музыки <...> особенно заметен один прием: текст насыщен французскими словами в русской транскрипции и французскими выражениями, набранными курсивом. <...> Ремизов, употребляя русифицированные французские слова и непереведенные французские выражения, стремился с наибольшей точностью передать разговорную речь и стиль мышления русских эмигрантов во Франции" (А. д'Амелия УМ XXX). Добавим к этому, что Ремизов включает в текст большие французские фрагменты с переводом (письмо Жана Дора) и без перевода (ломбардная квитанция, переписка Корнетова с соседом и т. п). Особая тема - выбор языка общения и выбор слова (см. название для интервью - юнёр=une heure или в гостях, визит(30), ср. конфликты из-за незнания французского, постоянные ослышки и среди них драматический эпизод с zut). Можно сказать, что "Учитель музыки" написан на "frarusse", предвосхищающем возникший позже franglais, и что это первый (или один из первых) "эмигрантских" опытов создания текста на новом, "местном" языке. Причем, как представляется, сама регистрация соответствующего языкового состояния при всей ее важности - только первый, поверхностный слой. Главное - тот же эксперимент над языком, проверка его границ, его возможностей к выходу за собственные пределы и одновременному сохранению тождества самому себе. Но об этом - отдельно.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АР - Алексей Ремизов: Исследования и материалы. - СПб, 1994.
В - Ремизов А. М. Встречи: Петербургский буерак. - Paris, 1981.
ВР - Ремизов А. М. Взвихренная Русь. - London, 1990.
И - Ремизов А. М. Иверень. - Berkeley, 1986.
К - Кодрянская Н. Алексей Ремизов. - Париж, <1959>.
КР - Ремизов А. М. Крашеные рыла. - Берлин, 1922.
М - Ремизов А. М. Неизданный "Мерлог" // Минувшее. - М., 1991. - Вып. 3
ОВ - Ремизов А. М. Огонь вещей. - М., 1989.
ПД - Ремизов А. М. Пляшущий демон. - Танец и слово // ОВ.
РБ - Ремизов А. М. В розовом блеске. - Letchworth, 1969.
РвП - Ремизов А. М. Россия в письменах. - New-York, 1982. - Т. I.
РП - Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. - Paris, 1977.
УМ - Ремизов А. М. Учитель музыки. - Paris, 1983.
RLT - Russian Literature Triquarterly.
Примечания:
© T. Tciv'ian
|