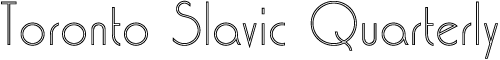Елена Румановская
Герцен о Ф.М. Достоевском и Л.Н. Толстом.
А.И. Герцен не будучи профессиональным литературным критиком, написал тем не менее несколько программных историко-литературных произведений, оказавших влияние на литературный процесс 1850-60-х гг. в России. Значение его критики определяется и талантом писателя, и авторитетом публициста, философа, издателя, и свободой высказывания, и личностным отношением к русской литературе как к делу жизни.
Я задалась вопросом: почему же, поставив на первое место в русской литературе 1860-х гг. И.С. Тургенева, названного уже в 1860 г. "величайшим современным русским художником" (1), написав - по-разному оценивая - и о Гончарове, и о Некрасове, и об Островском, и о Григоровиче, и о других литераторах, Герцен так немного сказал о Достоевском и Льве Толстом? Особенно мало написано Герценом о романах обоих, появившихся при его жизни: "Преступление и наказание" (1866), "Идиот" (1868), "Война и мир" (1865-1869 гг.). Часто его отклики находятся только в переписке.
Отмеченное мной "зияние" требует исследований и объяснений, которые, насколько мне известно, не предлагались, т. к. подобный вопрос не ставился исследователями. Мне бы хотелось предложить некоторые соображения, которые могли бы послужить отправной точкой для последующих размышлений.
Во-первых, оба писателя принадлежали к другому, чем Герцен, поколению: Достоевский был младше его на 9 лет, а Толстой - на 16. Эта, довольно значительная, разница в возрасте могла привести к взгляду Герцена на своих младших современников как на "учеников" в литературе. Правда, Достоевский первым романом "Бедные люди" в 1846 г. блистательно вошёл в литературу ненамного позже Герцена, но вскоре после этого он был насильственно удалён из русского литературного процесса. Лев Толстой напечатал первую повесть в 1852 г., когда Герцен уже был признанным писателем и эмигрантом. Несомненно, положениe старшего и младших в литературе могло cказаться на отношении Герцена-критика.
Во-вторых, блестящее образование Герцена, не только формальное - на физико-математическом отделении Московского университета, законченном с серебряной медалью, - но и домашнее и, главное, самообразование, особенно в сфере философии и истории, отличало его от Достоевского и Толстого. Человек, прошедший гегелевскую школу логики, имевший серьёзную философскую подготовку, Герцен мог воспринимать философские и исторические идеи своих младших современников-писателей как дилетантство.
В-третьих, жизнь Герцена в 1865-1870 гг. была осложнена множеством дел, отношений, чувств: он продолжал писать и печатать "Былое и думы" и публицистику, перенёс Вольную русскую типографию из Лондона в Женеву, но "Колокол" всё равно пришлось прекратить в 1867 г. Писатель переезжал из города в город, нигде не обосновываясь надолго, дома у него, в сущности, не было (2).
Возможно, Герцену в таком состоянии духа было просто "некогда" и неинтересно читать новые - и длинные - русские романы?
Литературно-критическая деятельность, несмотря на целостную систему взглядов на литературу, всё же не была для Герцена основной, и его отбор литературных явлений для анализа был и идеологизирован (связан с основной, с его точки зрения, тенденцией русской литературы - обличительной), и отчасти случаен, ибо с течением времени обозначился отрыв от русской жизни, в котором его упрекали многие, и в их числе Тургенев. Кроме того, я полагаю, что для такого критика, как Герцен, с его личным отношением к русской литературе, субъективные факторы были очень важны, а впечатления от встреч с обоими писателями в Лондоне составились не совсем восторженные.
Герцен пережил (после 1863 г.) потерю своего влияния в России, но очень многое он сохранил до конца жизни - силу и бесстрашие мысли, веру в необходимость справедливого переустройства жизни и в гуманистические ценности, главные из которых - свобода, наука и искусство; он сохранил оптимизм, темперамент, нравственное чутьё, скепсис, отвращение к любому фанатизму, уважение к человеческому разуму, атеизм. Многие из этих основ его личности могли отталкивать его от Толстого и Достоевского (от каждого по-своему, разумеется).
Творчество Фёдора Михайловича Достоевского привлекло внимание Герцена ещё в 1846 г., когда в утраченном письме Белинскому он писал о первом романе Достоевского "Бедные люди". (3) Личное знакомство писателей состоялось в октябре 1846 г. у И.И. Панаева (Герцен в письме отозвался о нём прохладно - (XXII, 259). Достоевский также отметил Герцена в качестве соперника в литературе - в апреле того же года он писал брату: "Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров".(4)
В книге "О развитии революционных идей в России" (1850) Герцен упомянул и общество Петрашевского, и роман "Бедные люди" в качестве образца протеста "против современного общества с точки зрения не только политической" (VII, 252). Других произведений писателя он, скорее всего, не знал. Само возникновение имени Достоевского в книге связано более с "социалистической тенденцией" в русской литературе, чем со вниманием собственно к его произведениям. Ни критического разбора, ни даже более подробных замечаний в книге Герцена нет.
Настоящий интерес Герцена вызвали позже "Записки из Мёртвого дома" (1860 -1862) - "страшная книга" о "мрачном царствовании Николая" (XVIII, 219). В июле 1862 г. его посетил в Лондоне Достоевский и преподнёс "Записки" с дарственной надписью "в знак глубочайшего уважения".(5)
Герцен написал о "Записках..." через два года в статье "Новая фаза в русской литературе" (1864), сравнивая их с трагическими образцами мирового искусства: "...эта эпоха (николаевское царствование - Е.Р.) оставила нам одну страшную книгу, своего рода carmen horrendum [ужасающую песнь - лат.], которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это "Мёртвый дом" Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей-каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонаротти" (XVIII, 219). Сравнение из области пластических искусств делает и литературную оценку Герцена многомерной, но собственно критического анализа книги в статье нет. (Замечу в скобках, что отзываясь о "Записках из Мёртвого дома" в письме Достоевскому в декабре 1861 г., И.С. Тургенев также вспоминает имя Данте: "Картина бани просто дантовская, и в Ваших характеристиках разных лиц <...> много тонкой и верной психологии".(6) Писатели близки в своём - несколько "литературном" - восприятии описанной Достоевским русской каторги, т. к. для обоих это мир "совершенно новый", "до сих пор неведомый", - как пишет Достоевский во "Введении" к своим "Запискам" (7)).
Вместе с тем, в книге появлялись, хотя и мельком, некоторые герои, которые должны были заинтересовать Герцена: "политические" преступники, о которых автор говорит глухо, и среди них упоминаются декабристы (8) и поляки. Герцен, всегда поддерживавший поляков в их освободительной борьбе, наверное, прочёл об их участи на русской каторге сочувственно. Достоевский же был близок в этом вопросе к официальному патриотизму и потому изобразил своих героев неприязненно.(9)
Могла привлечь Герцена гуманная позиция автора "Записок" в отношении к каторжникам, ведь и он отметил, что русский народ "обозначает словом несчастный каждого осуждённого законом" (VII, 263). Вопрос, заданный Достоевским в самом конце "Записок": кто виноват? - предполагает, что ответ известен: условия жизни, крепостное право, неправильное развитие народа и власти, - но одновременно напоминает известный роман Герцена, вызывает в памяти читателя имя запрещённого в России писателя, ставившего за 15 лет до "Записок" этот же вопрос.
Достоевский, побывав на каторге, подтвердил своей книгой то, о чём неоднократно писал Герцен,- наличие "бездны" между образованным классом в России и простым народом.
В статье "Новая фаза в русской литературе" Герцен снова напоминает o петрашевцах и их трагической истории (XVIII, 191), он пишет короче, чем в 1850-м, но с большим количеством подробностей "гражданской казни", о которой мог рассказать автору Достоевский в Лондоне в 1862 г.
После встречи с Достоевским Герцен написал Огарёву: "Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиасмом (так у автора - Е.Р.) в русский народ" (XXVII, 247). Письмо к ближайшему другу описывает Достоевского "наивным" (может быть, в отношении к вопросам политики, истории, философии, религии, которые могли быть затронуты в беседах?), "не совсем ясным" (Герцену не ясны идеи Достоевского или, может быть, неясен он сам как болезненная, изломанная личность, совсем не герценовского круга и воспитания?), "но очень милым человеком". Отдельной фразой выделена вера писателя в русский народ. Эта последняя могла привлечь к Достоевскому Герцена, но многое другое и в самом писателе, и в его творчестве могло только оттолкнуть. Достоевский так и не стал близким Герцену писателем, и Герцен больше ничего не написал о нём.
Таким образом, только два художественных произведения Достоевского оказались в поле зрения Герцена - "Бедные люди" (1846) и "Записки из Мёртвого дома" (1860-1862). В обоих заметны "социалистические тенденции". В первом - явный след гоголевского направления (наряду с пушкинской традицией отношения к "маленькому человеку"), во втором - новый, неосвоенный пласт русской жизни, ещё одно обвинение николаевскому царствованию. В обоих произведениях Достоевский близок основному, по Герцену, - "отрицательному" - направлению русской литературы, но ни разу его имя не упоминается критиком в качестве начинателя нового.
Герцена не привлекли ранние произведения писателя: возможно, во время революционных событий в Италии и Франции ему, действительно, было не до "двойников", больных страдальцев и мечтателей Достоевского, но он не прочёл эти повести и позже, даже зная, что Достоевский на каторге по делу Петрашевского. Мне кажется, что не сложности получения русских журналов за границей, не погружённость в европейские дела, хотя и то, и другое имело место, а отсутствие внутреннего влечения отвращало Герцена от поисков произведений Достоевского. Вероятно, писатель рассказывал Герцену в 1862 г. и о своём романе "Униженные и оскорблённые" (хотя подарил только "Записки из Мёртвого дома"), но нет сведений о том, что Герцен читал его. Возможно, не заинтересовался проблематикой, героями, поэтизацией христианского смирения, в которой упрекнул Достоевского Добролюбов в статье "Современника" 1861 г. "Забитые люди" (журнал "Современник" Герцен читал регулярно). Мог он также обратить внимание в 1860 г. на издание сочинений Достоевского в двух томах (издание Н.А. Основского в Москве), однако, и этого не произошло.
Хотя была одна тема, к которой проявляли интерес оба писателя - это европейская буржуазная современность. Вернувшись в Россию, Достоевский в "Зимних заметках о летних впечатлениях" (1863) пишет о Европе, и его оценки в некоторых случаях очень близки, даже текстуально, "Письмам из Франции и Италии", отчасти книге "С того берега" и эпистолярному циклу "Концы и начала" Герцена. Это заметил ещё Н.Н. Страхов, написавший, что "Заметки" "отзываются несколько влиянием Герцена".(10) Выводы, впрочем, существенно разнятся: Герцен остаётся верен "религии общественного пересоздания", "человеческому разуму", "отваге знания" (VI, 7-8); Достоевский доходит до "последнего предела" в отрицании творческого человеческого разума (Д., V, 78).
Достоевский в 1860-е годы ведёт "прямой, открытый идейный и творческий диалог с Герценом", - как пишет С.Д. Лищинер,(11) но Герцен почти не откликается на творчество Достоевского.
Исследователи много писали о влиянии диалогической прозы Герцена на Достоевского, об идеологической полемике Достоевского с Герценом, о соотнесении героев, жанров, философско-сатирического пафоса в творчестве писателей.(12) Но во всех указанных исследованиях не ставится вопрос, который меня интересует в данном случае: почему Герцен не заинтересовался дальнейшим развитием творчествa Достоевского?
Предложу некоторые соображения на данную тему.
Достоевский принадлежал не только к другому поколению, но и к другому кругу общества, хорошего философского и исторического образования он не получил и, может быть, отчасти поэтому показался Герцену "наивным" при встрече в Лондоне. Какие пути решения стоящих перед Россией проблем мог предложить Достоевский в беседах с Герценом в июле 1862 г.? Судя по написанному им к тому времени, это были идеи христианского смирения и социального гуманизма. Достоевский решительно отвергал атеизм и материалистическую философию, а также путь революционного насилия, который Герцен допускал как крайность.
Творческий мир Достоевского вряд ли мог быть близок Герцену. Мрачный колорит "петербургских углов", герои с самого "дна" жизни, нездоровая психическая "изломанность"многих персонажей - всё это не могло импонировать критику. Он "частью читал" роман Достоевского "Преступление и наказание" в журнале "Русский вестник" презираемого им М.Н. Каткова и отозвался лишь беглым замечанием в письме Огарёву от 29 (17) октября 1867 г.: "В нём (романе - Е.Р.) много нелепого" (XXIX, 221). Герцен ничего не написал о "Преступлении и наказании", хотя роман "Что делать?" Чернышевского, к которому у него были серьёзные эстетические претензии, он перечитал дважды, так же, как и статьи не близкого ему Писарева о Базарове. Но если Базаровых Герцен ощущал "блудными детьми", то герои Достоевского были ему чужды и социально, и идеологически, и психологически. Последнее я считаю очень важным для личностной критики Герцена.
В "Былом и думах" он описал и подробно проанализировал характер одного вполне "достоевского" персонажа - В. А. Энгельсона. Но, описывая, Герцен старался понять и не мог "приблизиться" к своему герою, Достоевский же многие чувства и переживания черпал из собственной души. Талант подобного рода - "психиатрический талант", по выражению народника Н.К. Михайловского (13) - мог только оттолкнуть и, по-видимому, действительно отталкивал здоровую натуру сангвиника Герцена. Он не хотел погружаться в болезненные переживания героев Достоевского, и поэтому, вероятно, только "частью читал" "Преступление и наказание" и вовсе не прочёл, судя по сохранившимся свидетельствам, "Идиота". Подобное положение очень обижало самого Достоевского, который, путешествуя по Европе в 1867 г., читал все сочинения Герцена.
Проанализировав в своей статье "Герцен о Достоевском" (основные положения которой я частью здесь повторяю)(14) образ Владимира Аристовича Энгельсона, созданный Герценом в "Былом и думах", а также психологическую характеристику героя и его жены в переписке 1851 г., я прихожу к выводу, что подобный тип людей отталкивал Герцена. Важно при этом отметить, что Энгельсон был ровесником Достоевского, так же, как и он, участвовал в обществе Петрашевского, провёл некоторое время в тюрьме, и от своих убеждений не отказался (Герцен напечатал его статью "Что такое государство?" в первой "Полярной звезде на 1855").
В главе "Энгельсоны" (написанной в 1858 г. и напечатанной в 1866, после смерти героев рассказа) Герцен называет Владимира Аристовича представителем нового типа русских, именуя его "петрашевцевцами" (Х, 343-344). Писатель очень пристально вглядывался в черты Энгельсонов как представителей нового русского типа, он хотел понять причины их "сломанности", болезненности и видел их как в "страшном грехе" николаевского царствования, так и в нестойкости самого поколения. Его родовыми чертами Герцен называет "безмерное самолюбие" (с.344); "психические себябичевания, доходившие до клеветы на себя" как "форму того же самолюбия"; "непостижимую жёсткость слова", воспринимаемую автором как "страшный эстетический недостаток" (с. 345).
В очерке любопытнее всего именно обобщения, относящиеся ко всему психологическому типу людей, вроде Энгельсона, которые похожи на героев романов Достоевского своим болезненным самолюбием, неустроенностью, неиспользованными способностями, "жалкостью", бесконечными исповедями и многословием. Герцен, описывая Энгельсонов, "отталкивается" от них, подчёркивает свою непохожесть, свою здоровую натуру. На его предложение "прервать горячку без катастрофы" последовал отказ: "...они тайно хотели остаться при кануне этих решений, не приводя их в исполнение. Мнение моё было слишком просто и здорово, чтоб быть верным в отношении к таким сложно-патологическим субъектам и к таким больным нервам" (с. 343).
Сама история женитьбы Энгельсона на женщине, не любящей его, но которую он любил страстно, его предложение быть ей мужем только формально для путешествия за границу (с. 342-343) не напоминает ли взаимоотношения Ивана Петровича и Наташи в "Униженных и оскорблённых" или князя Мышкина и Настасьи Филипповны? И возможно предположить, что однажды сойдясь близко с такими людьми, Герцен не захотел читать о них в романах Достоевского.
Кроме прочего, Герцен считал болезненностью "страсть самонаблюдения, самоисследования, самообвинения", любовь к "бесконечным исповедям и рассказам о нервных событиях своей жизни" "у этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении" (с. 345). Сам тон показывает, что автор хочет отделить себя от описываемого типа людей, как, возможно, он позже отгородился "не-чтением" от подобных героев произведений Достоевского.
Дважды на протяжении рассказа Герцен пишет об эстетических недостатках описываемого типа людей: это упоминавшаяся уже "непостижимая жёсткость слова" и нарушение "гармонического сочетания" жизни, когда "эстетическая мера потеряна" (с. 346). И как вывод звучат после этого слова: "... с ними жить нельзя, им самим с этим жить нельзя" (ibid).
В 1860 г. в полемической статье из "Колокола" - "Лишние люди и желчевики" - Герцен рисует обобщённый портрет "желчных людей", в котором также видны черты того нового типа, к которому относились и Энгельсоны, и другие русские, встреченные Герценом в 1850-х гг. Правда, статья не является художественным созданием, она написана в разгар споров "Колокола" с "Современником", и её адресатами, в основном, являются Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. Тем не менее, речь идёт о людях того же нового русского поколения, и история его развития и некоторые психологические черты совпадают в статье и в главе "Энгельсоны".
В статье Герцен подчёркивает, что он изучил "тип желчных людей" "не на месте (то есть не в России - Е.Р.) и не по книгам", а лично и близко "по экземплярам, выезжавшим за Немань (так у автора - Е.Р.), а иногда и за Рейн с 1850 г." (XIV, 322). Это явный намёк на Энгельсонов, с которыми Герцен познакомился "в конце 1850 года" (Х, 335). Их психологические черты узнаются в следующих строках: "Первое, что нас поразило в них, - это лёгость (так у автора - Е.Р.), с которой они отчаивались во всём, злая радость их отрицания и страшная беспощадность <...> Они носили на лице глубокий след души помятой и раненой. У каждого был какой-нибудь тик, и, сверх этого личного тика, у всех один общий - какое-то снедающее их, раздражительное и свернувшееся самолюбие <...> Все они были ипохондрики и физически больные.." (XIV, 322-323).
Есть и текстуальные совпадения. В "Былом и думах": "...я встречал много людей <...> с тем же видовым, болезненным надломом по всем суставам" (Х, 344). В статье сказано о людях, "которых душа и сердце были поломаны по всем составам" (так у автора; XIV, 323).
Исторические объяснения такого "изломанного" развития поколения "желчных людей" также очень близки в "Былом и думах" и названной статье (XIV, 323 и Х, 344-345).
Как можно видеть, и в очерке "Энгельсоны", и в статье "Лишние люди и желчевики" Герцен "отталкивает" подобный психологический тип людей от себя. Мог ли он, расставшись с Энгельсонами, хотеть погружаться в сходный в некоторых чертах психологический мир героев Достоевского с их нездоровой психикой, странными поступками и запутанными отношениями? Ответ, мне кажется, должен быть отрицательным. И, возможно, эта причина и была - внутренне - одной из основных для Герцена в отмеченном не-чтении многих произведений Достоевского и отсутствии критических отзывов на них.
Близость же психического типа героев Достоевского, в частности, Парадоксалиста из "Записок из подполья", и Энгельсона была отмечена ещё в 1934 г. Л.Б. Каменевым, а затем Л.Я. Гинзбург, С.Д. Гурвич-Лищинер.(15)
Несмотря на "отталкивание" от художественного мира Достоевского, Герцен понимал значение писателя, хотя для него основным произведением оставались "Записки из Мёртвого дома". Характерен в этом смысле совет, данный Герценом в 1868 г. парижскому издателю Gromort, который издавал "несколько томиков переводов с русского": "Я ему рекомендовал "Детство" Толстого, "Героя нашего времени", "Мёртвый дом"" (XXIX, 272).
Личной же близости с Достоевским, как и с его героями, не получилось.
Лев Николаевич Толстой ещё далее отстоял от Герцена по возрасту, чем Достоевский, но принадлежал к тому же кругу общества. Граф Лев Толстой получил должное воспитание, но его формальное образование ограничилось двумя с половиной годами в Казанском университете, оставленном им в 1847 г. Он числился сначала на философском факультете, затем на юридическом, но наукой почти не занимался и курса не окончил.
О философском образовании Льва Толстого очень иронически отзывался его сверстник и бывший друг, профессор Московского университета и известный либерал (печатавшийся в "Голосах из России" Герцена) Б.Н. Чичерин (1828-1904). В своих воспоминаниях "Москва 40-х годов" Чичерин писал, что "серьёзные умственные интересы были вовсе не его (Толстого - Е.Р.) сферою <...> О философии он не имел понятия. Он сам признавался мне, что пробовал читать Гегеля, но что это для него была китайская грамота. Шопенгауэр, рекомендованный ему Фетом, был его единственной пищею".(16) Правда, к свидетельству Чичерина нужно отнестись с осторожностью, т. к. после небольшого периода дружеских отношений в 1858-1861 гг., он разошёлся с Толстым, которым думал ранее руководить. Портрет Толстого в "Воспоминаниях" Чичерина носит на себе явные следы досады и раздражения.
В литературу Лев Толстой вошёл своей повестью "Детство", напечатанной в некрасовском "Современнике" за 1852 г. Герцен отметил эту повесть, говоря о новой литературе в России в статье "Ответ" (1856): повесть его "поразила своей пластической искренностью", но тут же отмечено, что она "не составляет же нового направления" (XII, 316). Герцен был неудовлетворён произведениями "сознательно-гоголевского направления" и искал новое течение в русской литературе, которое нашёл, как ему казалось, в "крестьянском романе" "Рыбаки" Д.В. Григоровича.
В 1856 г. Герцен сообщает в письме, что "есть новый очень талантливый автор - граф Толстой" (XXV, 339). Вероятно, Герцен теперь следит за произведениями "очень талантливого" писателя, например, пишет в письме, что новый рассказ Толстого "Метель" "чудо" (XXVI, 11), советует в 1857 г. М.К. Рейхель достать "Повести и рассказы" Толстого, которые "удивительно хороши" (XXVI, 91). На предложение И.С. Тургенева в марте 1857 г. познакомить его с Л.Толстым, Герцен отвечает радостным согласием: "Очень, очень рад буду познакомиться с Толстым - поклонись ему от меня как от искреннего почитателя его таланта. Я читал его "Детство", не зная, кто писал, - и читал с восхищеньем, но второго отдела "<Отрочество>" не читал вовсе - нет ли у него ?" (XXVI, 77-78). В ответном письме Тургенев передаёт, что Толстой очень "обрадовался" привету Герцена: "Велит тебе сказать, что давно желает с тобой познакомиться - и заранее тебя любит лично, как любил твои сочинения (хотя он NB далеко не красный)" (ТП, III, 93-94).
Знакомство в 1857 г. не состоялось, писатели встретились позже, в 1861 г. В 1858 г. Герцен в письмах к Мальвиде Мейзенбуг (переводчице на немецкий язык многих произведений русской литературы) отмечает трудности перевода рассказа Толстого "Севастополь в мае" и даёт ей некоторые конкретные советы (XXVI, 169-170, 173).
Л.Толстой также читает произведения Герцена: "Полярную звезду на 1856" ( с главами "Былого и дум"), по поводу которой отмечает в дневнике: "Очень хорошо"; (17) первую часть сборника "За пять лет", записывая своё мнение о Герцене: "Разметавшийся ум - больное самолюбие. Но широта, ловкость и доброта, изящество - русские". (18)
Знакомство писателей произошло в начале марта 1861 г. в Лондоне: Толстой пришёл впервые в дом Герцена между 3 и 6 марта и продолжал посещения почти каждый день до 16 марта. В письме 7 марта И.С. Тургеневу Герцен уже пишет, что "Толстой - короткий знакомый", и о начавшихся беседах и спорах: "Мы уже и спорили, он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек <...> Только зачем он не думает, а всё, как под Севастополем, берёт храбростью, натиском" (XXVII, 139). В следующем письме Тургеневу (12 марта) Герцен ещё раз пишет о спорах с Толстым, "который сильно завирается подчас": "У него ещё мозговарение не сделалось - после того, как он покушал впечатлений" (XXVII, 139-140). Оба замечания Герцена очень скептичны по отношению к способностям Толстого мыслить критически (вспомним недостаток "правильного" образования и философской подготовки, которые должны были проявиться в спорах с диалектиком Герценом). Не потому ли возникает эпитет "простодушный" в письме к Тургеневу?
Время же встречи с Герценом было самое "горячее" для русских дел: 3 марта (19 февраля) был подписан Александром II манифест об освобождении крестьян, слухи о нём уже достигли Лондона, хотя в русской печати текст манифеста был напечатан только 17 (5) марта. Споры Герцена и Толстого должны были касаться уже объявленного, но неизвестного в подробностях, освобождения крестьян, которое являлось одним из непременных условий герценовской программы (наряду с "освобождением слова от цензуры" и "податного состояния от побоев"-XII, 358) и о котором много думал Толстой, составивший в 1856 г. собственный проект освобождения, отвергнутый его крестьянами.(19) Отголоски споров слышны в письме Толстого 20 марта Герцену из Брюсселя: "Дай-то бог, чтобы через 6 месяцев сбылись ваши надежды. Всё возможно в наше время; хотя я и возможность эту понимаю иначе, чем вы" (ЛТ, т.60, с. 370). Теперь уже Толстой играет роль скептика по отношению к герценовским надеждам на предстоящие общественные преобразования в России.
В следующем письме Толстого Герцену (от 26 марта) эта нота слышнее: Толстой называет себя "практическим человеком", вероятно, в отличие от Герцена, и пишет о своём знании России: "Вы говорите, я не знаю России. Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на неё с своей призмочки. Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который ещё сами не видим. И этот пузырь есть для меня твёрдое и ясное знание моей России, такое же ясное, как знание России Рылеева может быть в 25 году" (ЛТ, т. 60, с. 374).
Любопытным, вероятно, был этот спор о знании России: Герцен уже 14 лет жил за границей, и это не могло не быть отмечено Толстым, но Толстой, по мнению Герцена, знал Россию с очень ограниченной точки зрения, что в письме и не отрицается ("своя субъективная Россия").
Последнее замечание Толстого в его письме удивительно: он апеллирует к авторитету, перед которым Герцен, безусловно, преклонялся - к декабристу Рылееву. Hо являлось ли "знание России Рылеева" таким уж "ясным"? Что касается мыслей о будущем устройстве страны, то Герцен скорее мог бы обратиться к написанному "первым социалистом" Пестелем, чем "Шиллером заговора" Рылеевым. Но имя декабриста не случайно возникает у Толстого, оно связано с его новым замыслом - романом "Декабристы".
В начале марта, вышла шестая - "декабристская" - книжка "Полярной звезды", которую Толстой увёз с собой, и по прочтении писал к Герцену, советуясь о "приличии и своевременности" сюжета о декабристах: "Я затеял месяца 4 тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с вами об этом, да так и не успел. - Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгой (так у автора - Е.Р.) и несколько идеальный взгляд к новой России " (ibid). Герцен ответил на это письмо Толстого, но его письмо не сохранилось; судя по ответному письму Толстого (9 апреля) Герцен дал ему "добрый совет о романе" и посоветовал обратить внимание на "Кавказские воды" Огарёва: "Огарёва воспоминания я читал с наслаждением и очень был горд тем, что, не знав ни одного декабриста, чутьём угадал свойственный этим людям христианский мистицизм" (ЛТ, т. 60, с. 376).
Что же касается долгожданного освобождения крестьян, то Толстой, спрашивая в письме, как Герцену "понравился манифест", замечает, что "не понимает, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим ... (Письмо от 26 марта. - ЛТ, т. 60, с. 374) - и в следующем письме дополняет: "Я нахожу, что это совершенно напрасная болтовня" (Письмо от 9 апреля. - Ibid , с.376). Судя по письмам, Толстой настроен более скептично по отношению к "освобождению", чем Герцен. Впрочем, Толстой обещал приехать на "пир" 10 апреля - праздник в доме Герцена по случаю освобождения крестьян - вместе с И.С. Тургеневым, но поездка не состоялась.
Ещё одной темой разговоров и споров писателей в Лондоне мог стать социализм и попытки социалистического устройства жизни, например, в русских общинах, по мысли Герцена, или в коммуне Роберта Оуэна, с которым Герцен был знаком и о котором писал в "Былом и думах" (глава "Роберт Оуэн" напечатана в той же 6-й книжке "Полярной звезды").
Об Оуэне, знаменитом утописте, который достиг практических успехов в своих школах и фабричных коммунах, но был вынужден сдаться перед силой церкви, Герцен пишет не с точки зрения прошедшего, а с точки зрения будущего.
Вряд ли его мысли были созвучны размышлениям Толстого, хотя в критике существующих общественных установлений он мог быть согласен с Герценом. Некоторый материал для заключений даёт второе письмо Толстого к Герцену (от 26 марта): "Ваша статья об Овене, увы! слишком, слишком близка моему сердцу. Правда - guand meme [несмотря на то - франц.], что в наше время возможно только для жителя Сатурна, слетевшего на землю, или Русского человека. Много есть людей, и русских 99/100, которые от страху не поверят вашей мысли (и в скобках буде сказано, что им весьма удобно, благодаря слишком лёгкому тону вашей статьи. Вы как будто обращаетесь только к умным и смелым людям). Эти люди, т.е. не умные и не смелые, скажут, что лучше молчать, когда пришёл к таким результатам, т.е. к тому, что такой результат показывает, что путь был не верен. И вы немного даёте право им сказать это - тем,что на место разбитых кумиров ставите саму жизнь, произвол, узор жизни, как вы говорите" (ЛТ, т. 60, с. 373-374).
Толстой явно боится выводов Герцена о смысле существования человечества "без кумиров", его мысль более робка (потому возникают все эти оговорки о людях "не смелых и не умных") и "отступает" от окончательного решения. Отношения с богом Льва Толстого тоже несколько запутанны, и, во всяком случае, далеки от безусловного атеизма Герцена. Эту незаконченность решений по самым важным философским и общественным вопросам Герцен резюмирует в письме Тургеневу, говоря о Толстом: "... а только у него в голове не прибрано ещё, не выметено" (XXVII, 144).
Интерес Л. Толстого к социалистам и революционерам простёрся во время заграничного путешествия 1861 г. до знакомства в Бельгии с Прудоном и польским историком и участником восстания 1830 г. Иоахимом Лелевелем (по рекомендации Герцена). Ещё в Лондоне Толстой "выпросил" на память у Герцена записку итальянского революционера Маццини, полученную в его присутствии. (20)
В письмах Толстого заметно также отношение к Герцену как к старшему и более знаменитому человеку. В начале первого письма сказано: "Я очень рад, что узнал вас <...> мне весело думать, что вы такой, какой есть <...> и вследствие того способный написать то, что вы написали" (ЛТ, т. 60, с. 370). Второе письмо заключается строками о боязни помешать своей "болтовнёй": "Пожалуйста, ежели вам не хочется, не отвечайте мне. Мне просто хотелось болтать с вами, а не вызывать на переписку знаменитого изгнанника. Вздумается, напишите строчку. Главное, боюсь быть indiscret [нескромным] с вашим временем" (ibid, с. 375).
Герцен в ответ на присланную фотографию Толстого послал свою и Огарёва с дарственной надписью. Но, кроме цитированных трёх писем из Брюсселя и Франкфурта-на-Майне, Толстой больше не писал Герцену, вероятно, опасаясь вести подобную переписку из России.
Дальнейшие отношения Толстого к Герцену несколько раз претерпевали очень серьёзные изменения.
В июле 1862 г., оскорблённый и возмущённый обыском в Ясной Поляне, Толстой отвергал все обвинения в связях с Герценом ("прокламации Герцена, которые я презираю, которые я не имею терпения дочесть от скуки", - писал он в письме А.А. Толстой от 22-23 (?) июля - ЛТ,т.60,с.429), и даже планируя "экспатриироваться", заявлял: "К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе" (Письмо от 7 августа 1862 г. А.А. Толстой - ibid, с. 436).
В статье "Воспитание и образование", напечатанной в № 7 за 1862 г. журнала "Ясная Поляна", Толстой критикует университеты и студенческие кружки: "Программа, составляемая кружком, <...> состоит в следующем: чтение <...> старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревых и т.п.; <...> Главное же занятие - чтение запрещённых книг и переписывание их. Фейербах, Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарёв. Переписывается всё не по достоинству, но по степени запрещения. <...> и в числе этих тетрадей толстые тетради самых отвратительных стихотворений Пушкина и самых бездарных и бесцветных стихотворений Рылеева" (ЛТ, т. 8 , с. 232-233).
Это статья, похожая на рапорт по начальству, вышла в свет в то время (в сентябре 1862 г.), когда журнал "Современник" (в котором Толстой начинал свою литературную деятельность) был приостановлен, а Чернышевский, упомянутый в тексте статьи, арестован. Герцен поступил прямо противоположным образом: как только его оппонент по полемике - Чернышевский - оказался в Петропавловской крепости, все разногласия были отброшены, и "Колокол" немедленно встал на защиту публициста. Мало того, полемика более не возобновлялась, так как Чернышевский был лишён возможности отвечать на неё из сибирской ссылки.
О самом Герцене Толстой теперь пишет без всякого пиетета, заметного в цитированных письмах марта 1861 г., говоря, что его и Огарёва произведения переписываются только из-за их "запрещённости". Рядом с именами редакторов "Колокола" упомянуты также "самые отвратительные стихотворения Пушкина" и "самые бездарные и бесцветные стихотворения Рылеева". И Пушкин, и Рылеев - имена, занимающие в произведениях Герцена и изданиях Вольной Русской типографии в Лондоне почётное и значительное место, таким образом, и это является косвенным выпадом Толстого против Герцена.
Зимой 1863-1864 гг. Толстой пишет комедию "Заражённое семейство", в которой высмеивает нигилистов, их отношение к семье, их язык. Одна из высмеиваемых героинь - Катерина Матвеевна - читает "Полярную звезду" (ЛТ, т. 7, с.224 ).
Вернувшись в конце 1862-1863 гг. к замыслу романа "Декабристы", Толстой строит его, судя по сохранившимся трём главам, противоположно "возвышающему" подходу Герцена к этой теме. Об этом писал в своей книге "Лев Толстой" Б.М. Эйхенбаум: "...можно думать, что основой романа должны были служить не столько политические или общественные, сколько нравственные идеи <...> Есть основание думать, что такой замысел романа о декабристах явился у Толстого как противопоставление "легенде", созданной статьями Герцена <...> Как бы возражая Герцену и снимая романтический ореол с декабристов, он нарочито заявляет: "Как бы мне ни хотелось представить моим читателям декабрьского героя выше всех слабостей, ради истины должен признаться, что Пётр Иваныч особенно тщательно брился, чесался и смотрелся в зеркало". (21)
Как мы видим, и тот замысел на близкую Герцену тему, который Толстой обсуждал со "знаменитым изгнанником" в марте 1861 г., разворачивается полемически к подходу самого Герцена.
Таким образом, явно отрицательное отношение Толстого к Герцену на протяжении 1860-х гг., когда общественная борьба в России потребовала уточнения позиций. В связи с этим можно отметить и желание Толстого идти в армию, чтобы участвовать в польских событиях 1863 г. (на стороне русского правительства). Отношение Герцена к польскому восстанию известно: он был, безусловно, на стороне поляков и не побоялся поставить на карту популярность "Колокола" и свою собственную, выступая против России в этом конфликте. Толстой снова оказывается в позиции, противоположной Герцену. Возможно, часть этих данных и была известна Герцену, читавшему русские журналы.
Но в конце жизни Толстой, переживший Герцена на 40 лет, стал перечитывать его сочинения, называть его одним из великих русских писателей (в число которых Толстой включал совсем немногих: "Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Герцен, Достоевский..."(22)), сожалеть о запрещении герценовских сочинений в России и даже цитировать наизусть целые отрывки из "Колокола"(23). Итоговыми толстовскими признаниями можно назвать слова, записанные Н.Н. Гусевым: "Перед Герценом я всегда преклонялся" (24) или сохранившиеся в дневниковой записи В.И. Вернадского от 29 апреля 1893 г.: "Герцен - "это треть всей русской литературы", по его (Толстого - Е.Р.) словам ".(25)
Но в данном случае меня интересует отношение Герцена к произведениям Толстого после 1861 г., то есть после близкого общения в течение 10 дней в Лондоне и цитированной выше переписки, а оно было довольно прохладным. Хотя ещё в апреле 1861 г. Герцен писал в письме Прудону о Л.Толстом как об "одном из самых выдающихся литераторов молодой России".(26)
В декабре 1863 г. старшая дочь Герцена Наталья написала ему, что получила "последний роман графа Толстого "Казаки" - ты, верно, знаешь".(27) Герцен не прочёл или не откликнулся ни на повесть "Казаки" ("Русский вестник", 1863, № 1), ни на повесть "Поликушка" (№ 2 того же журнала), ни на педагогический журнал Толстого "Ясная Поляна" (12 номеров, вышедших в 1862-1863 гг.), ни на первое собрание сочинений Льва Толстого в двух томах (СПб., издание Ф. Стелловского, 1864-1865).
Первый большой роман Тостого "Война и мир", который начал печататься в "Русском вестнике" с 1865 г., Герцен читал, но, возможно, не полностью. Исторические и философские рассуждения автора могли показаться Герцену неприемлемыми (вспомним его отзывы 1861 г. о Толстом: "упорен и говорит чушь", "простодушный человек", "сильно завирается подчас"). И хотя он посылает Н.А. Тучковой-Огарёвой в мае 1866 г. номера "Русского вестника" со второй частью романа "1805 год" - "Война",(28) но в статье из "Колокола" "<Война>" (от 1 июля 1866 г.) называет роман "толстовскими иллюстрированными реляциями 1805" ( XIX, 108).
В июне 1868 г. Герцен пишет дочери Наталье: "О романе Толст<ого> надобно толковать много. Общая картина верна и интересна <...> - лица плоше, а есть места просто глупые..." (XXIX, 380). В письме Огарёву 1 августа 1868 г. отмечена "хорошая сторона" романа (XXIX, кн. 2, с. 427). А после чтения пятой книги "Войны и мира" Герцен написал дочери в июне 1869 г.: "...в ней много уродств, но много необыкновенно знакомящего с тем временем, даже мой отец на сцене - но глупо и неверно..." (XXX, кн. 1, с.139).
Но, кроме этих разбросанных в письмах отзывов, Герцен ничего не написал о таком значительном литературном явлении как "Война и мир".
Многое в романе могло показаться Герцену знакомым. Именно он отметил, что война 1812 г. привела к декабризму - Толстой в своём замысле двигался в том же направлении: от идеи описать декабристов - к сформировавшим их событиям, то есть к 1812 году, а от него к началу противостояния России с Наполеоном, к году 1805. Пожар Москвы в 1812 г. и свидание отца Герцена с Наполеоном были описаны им в первой части "Былого и дум", напечатанной в "Полярной звезде на 1856" (той самой, по поводу которой Толстой записывал в 1856 г.: "Очень хорошо"). Эту часть эпопеи Толстого Герцен не мог не читать с личным интересом - это были уже почти его собственные воспоминания, его "Илиада и Одиссея". Некоторые герои "Войны и мира" также могли показаться Герцену знакомыми, ведь Толстой описывал тот же круг старого московского барства, к которому принадлежали отец Герцена и его родственники. Старый князь Николай Болконский даже в некоторых чертах напоминал отца Герцена - Ивана Алекceeвича Яковлева, что отмечал, например, И. Берлин в своём эссе "Александр Герцен и его мемуары". (29)
Толстой упомянул отца Герцена в романе, иронически описывая распоряжения Наполеона в Москве 1812 г. "в военном отношении", "в отношении юридическом", "в отношении административном" и т. д. Интересующий нас отрывок находится в разделе "дипломатическом": "В отношении дипломатическом, Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы, подробно излагает ему свою политику и своё великодушие и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Растопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург" (ЛТ, т. 12, с. 84-85). В следующей главе по поводу провала всех наполеоновских планов добавлено: "В дипломатическом отношении, все доводы Наполеона о своём великодушии и справедливости, и перед Тутолминым, и перед Яковлевым, озабоченным преимущественно приобретением шинели и повозки, оказались бесполезны: Александр не принял этих послов и не отвечал на их посольство" (ibid, c. 89).
Ирония Толстого, направленная на Наполеона и на льстивые и неправильные, с его точки зрения, описания войн "историками", переносится и на упоминаемых в рассказе лиц - И.А. Яковлева и "старичка" И.В. Тутолмина, директора Московского Воспитательного дома. Герцен прочёл эту часть "Войны и мира", отметив в письме старшей дочери, что его отец изображён "глупо и неверно": ему вряд ли могли понравиться эпитеты "ограбленный и оборванный", отнесённые к И.А. Яковлеву, и общий насмешливый тон рассказа. Его собственное описание тех же событий в "Былом и думах" выдержано совсем в другом тоне. Заметила эту деталь и Н.А. Тучкова-Огарёва, написавшая Герцену: "...об Ив<ане> Алек<сеевиче> Яковлеве как-то нехорошо помянул, об письме к Александру I, и говорит, что Алек<сандр> I не принял его. - Разве это правда? Помнилось, напротив" ( ХХХ, кн. 1, с. 381). Герцен в ответном письме уточнил: "Алекс<андр> письмо принял и отвечал на него - Толстой не читал, стало, ни "Был <ое> и думы", ни барона Fain" (XXX, кн. 1, 112).
По поводу эпизода с письмом существовали, разногласия, т. к. князь С.Г. Волконский в своих "Записках" также писал о том, что письмо Наполеона не было принято Александром I, а отправлено на французские позиции нераспечатанным.(30) Важно отметить то, что Герцен, по-видимому, считал, Толстого неточным в деталях и подчёркивал его незнакомство с источниками (хотя Толстой читал и напечатанные главы "Былого и дум", и учитывал книгу барона Fain - см. ЛТ, т. 15, с.144).
И всё же, несмотря на указанные сближения, Герцен не счёл роман "близким" для себя и не писал о нём. Одной из основных причин этого, как мне представляется, явилось решительное несогласие Герцена с идеями Тостого об историческом фатализме, отрицании роли личности в исторических событиях и утверждении стихийного, "роевого" основания народной жизни. Вероятно, Герцен не счёл нужным спорить с Толстым публично, в том числе и потому, что был занят другими спорами: с Бакуниным, Огарёвым, Сергеем Нечаевым - о методах революционной борьбы, о способах преобразования старого мира; со своим сыном - доктором физиологии - и его коллегами - о свободе воли и её физиологических основаниях; с "молодой эмиграцией" - о смысле деятельности и наследии "отцов". А быть может, Герцен не счёл Толстого достойным противником для себя в сфере истории и философии?
Как мог воспринять Герцен следующие, например, мысли Толстого о причинах исторических событий: "Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все - миллиарды причин - совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. <...> Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее" (ЛТ, т. 11, с.5, 7)?
Герцен считал историю объективным процессом, и этот взгляд, высказанный, например, в книгах "С того берега" и "О развитии революционных идей в России", был очень далёк от фатализма и анти-историзма Толстого.
Свободу и сознательность человеческой воли оба писателя также понимали противоположным образом. Толстой писал в третьем томе "Войны и мира": "Человек сознательно живёт для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей<...> История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества ... " (ЛТ, т.11, с.6). Герцен ещё в статье 1850 года "Omnea mea mecum porto" [Всё своё несу с собой - лат.] включённой в книгу "С того берега", объяснял: "Человек свободнее, нежели обыкновенно думают. Он много зависит от среды, но не настолько, как кабалит себя ей. Большая доля нашей судьбы лежит в наших руках, стоит понять её и не выпускать из рук <...> Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости <...> Нравственная независимость человека - такая же непреложная истина и действительность, как его зависимость от среды ..." (VI, 118-119, 120).
В других произведениях , от ранних - "Писем об изучении природы" и "Дилетантизм в науке" - до последних - "<Письма о свободе воли >", Герцен утверждал ту же сознательную свободу человеческой воли. В 1868 г. (когда Герцен читал "Войну и мир" и отмечал, что в романе "есть места просто глупые") в заметках по поводу брошюры сына он писал: "Общественное я <...> предполагает сознание, а сознательное я не может ни двигаться, ни действовать, не считая себя свободным, то есть обладающим в известных границах способностью делать что-либо или не делать. Без этой веры личность растворяется и гибнет.
Как только человек выходит путём исторической жизни из животного сна, он стремится всё больше и больше вступить во владение самим собой" (ХХ, 441).
Толстой же, описывая самое главное в эпопее - Отечественную войну 1812 года - продолжал считать, что многие важнейшие события не зависели от воли их участников: "Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили непроизвольно и бессмысленно" (ЛТ, т. 11, с. 185); "Событие это - оставление Москвы и сожжение её - было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения" (ibid, c.279). В последнем предложении исторический фатализм автора передаётся даже самим синтаксическим строением фразы - отсутствием глаголов.
Герцен не мог не считать подобные рассуждения "глупыми", так как он давно, ещё в юности , перешёл на другую ступень освоения истории. Ему могли показаться нелепыми и нападки Толстого на науку - историческую или медицинскую, или на науку вообще, - на человеческий разум и на искусство. Для Герцена разум, наука и искусство были основным содержанием исторической жизни человечества, наряду со стремлением к справедливому устройству общества и свободе и правам личности. В "Письме четвёртом" из "Писем к старому товарищу", датированном июлем 1869 г. (22 июня того же года Герцен в письме дочери заметил, что в пятой книге романа Толстого "много уродств"), сказано: "Наука - сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия, и ей до употребления нет дела. <...> Нельзя же остановить ум, основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем" (ХХ, 592).
Лев Толстой, больше всего ценивший "самобытность", а не поиски научной истины, не принадлежавший ни к одной философской, исторической, педагогической школе, создававший своё учение и переписывавший Евангелие, всё же не обладал такой отвагой и страстностью философской и исторической мысли, как Герцен. Герцен же, судя по отсутствию печатных откликов, не счёл Толстого близким себе писателем и достойным противником для спора о причинах исторических событий и роли личности в истории. Роман-эпопея Толстого не заинтересовал Герцена настолько, чтобы писать о нём. Возможно, критик даже не увидел новаторства Толстого, заслонённого для него чуждостью и "дилетантством" рассуждений в исторической сфере.
Интересно отметить, что Толстой "зачитывается" в 1865 г. воспоминаниями маршала Мармона - "Memoires du duc de Raguse, de 1792 а 1841, imprimes sur le manuscrit original de l 'auteur", которые очень хвалил Герцен в статье из шестого номера "Колокола" 1857 г. - "Западные книги". Герцен писал о воспоминаниях герцога-антибонапартиста с похвалой: "Из "Записок" особенно замечательны последние томы "Мемуаров маршала Мармонa", испортившие много корсиканской крови в бонапартовской семье. <…> С каждым годом исчезает больше и больше prestige солдатской империи, и отяжелевший Наполеон, заменяющий упорными капризами тухнущий гений, окружённый своими кондотьерами в герцогских мантиях, готовыми предать его, как предали ему республику, являются совсем иными в записках Мармона, нежели в песнях Беранже и литографиях времён Карла Х" (XIII, 100).
Трактовка образа Наполеона, данная в этой краткой, но содержательной рецензии Герцена, очень напоминает ту, к которой пришёл в результате своей работы над "Войной и миром" Лев Толстой. Источником ему при этом служили те самые девятитомные "Записки" Мармона, о которых писал в своё время Герцен. (31)
Вообще же отношение Толстого к историческим источникам было далеко от научной добросовестности: он использовал их постольку, поскольку они отвечали его представлениям и не стремился охватить все известные материалы какого-то периода. На этот счёт существует авторитетное свидетельство историка и археографа, издателя журнала "Русский архив" П.И. Бартенева: "Дело в том, что граф Толстой вовсе не изучал историю великой эпохи; как и вообще он не давал себе труда усидчивой, постоянной работы: можно сказать, что он постоянно захлёбывался воображением".(32) Характерно также и то, что Бартенев напечатал свой отзыв только после смерти Л. Толстого, во вступительной заметке к статье ветерана Отечественной войны 1812 года П.С. Деменкова, написанной ещё в 1876 г., но напечатанной тоже только в 1911 г. в "Русском архиве".
Отзывы о "Войне и мире" в русской печати, которые могли быть в какой-то части известны Герцену, не были восторженными, напротив, было напечатано очень много отрицательного. Люди, пережившие 1812 год - П.А. Вяземский, А.С. Норов, М.Драгомиров, А. Витмер, П.С. Деменков, - обвиняли Толстого в антипатриотизме, в пасквильном изображении Кутузова, в унижении истории; военные и историки протестовали против изображения сражений, их причин и исторических выводов; "правые" критики упрекали Толстого в "нигилизме" (статья историка П.Щебальского о романе называлась "Нигилизм в истории"), а "левые" критики из лагеря близких Герцену народников считали, что изображение помещичьего, дворянского быта в романе проникнуто ностальгией по отменённому крепостному праву (например, Н.В. Шелгунов полагал, что философия Толстого - "философия застоя"). Современники не увидели в произведении Толстого "нового слова" в литературе, не было понято и жанровое новаторство Толстого.
И.С. Тургенев, наиболее близкий Герцену современный русский писатель, высказал по поводу "Войны и мира" взгляды, во многом совпадавшие с герценовскими. В письме к И.П. Борисову Тургенев писал, что роман Толстого "построен на вражде к уму, знанию и сознанию".(33) В письме ему же от 31 января (12 февраля) 1870 г.Тургенев подчёркивал, что "нельзя так легко разрешать вечный, более чем трёхтысячелетний спор между необходимостью вещей и свободной волей, и уничтожение (как то делает Толстой) одной из спорящих сторон - не решение задачи; оно показывает только неустойчивость и незрелость мысли, сопряжённые с детским нетерпением и самомнением недоучки." (34)
Исторические и философские взгляды Герцена, построенные на глубоком изучении истории и философии, обдуманные неоднократно и в молодости в России, и в Западной Европе после революционных потрясений 1848 года, изложенные во многих публицистических работах - от "Дилетантизма в науке" (1843) и "Писем об изучении природы" (1845-1846) до "Писем к старому товарищу" (1869), - всегда лишённые догматизма и всегда развивающиеся, не могли не войти в противоречие со взглядами на историю Льва Толстого.
Возможно, поэтому в уже упоминавшейся выше рекомендации 1868 года парижскому издателю Gromort из произведений Л. Тостого названа только повесть "Детство" ( XXIX , 272 ).
* * *
Таким образом, произошло своего рода "отталкивание" Герцена в конце 1860-х годов от двух крупнейших русских романистов. По моим предположениям, основной причиной этого в случае с Достоевским была психологическая "несовместимость" с его героями, а в случае с Толстым - логическая: Герцену были чужды не только рассуждения Толстого, но и его "ненаучный" подход в сфере мысли, наряду с отрицанием науки. Кроме того, не подчёркиваемое в переписке и, возможно, обходимое при личных встречах, существовало глубокое расхождение между атеистом Герценом и христианами Фёдором Достоевским и Львом Толстым (при всех противоречиях, вплоть до последующего отлучения от церкви, Льва Толстого). Эта составляющая творчества обоих великих русских писателей была, безусловно, чужда Герцену и могла составить ещё один мотив для "отталкивания" критика от известных ему произведений названных авторов.
Примечания:
© E. Rumanovskaya
|