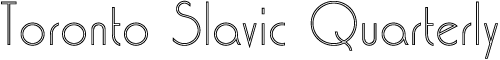Владимир Купченко
Как возникли "Киммерийские сумерки"
Публикация Розы Хрулевой
Глубоким кризисом в личной жизни ознаменовался март 1907 года для Максимилиана Волошина. Его трепетная и жертвенная любовь к Маргарите Сабашниковой потерпела крушение. Причиной стал "Вячеслав Великолепный": коварный Вячеслав Иванов, продолжавший носить личину его друга и наставника. Жертвенной эта любовь была потому, что условием их брака Маргарита Васильевна поставила полную "чистоту" их отношений: плотская близость с Максимилианом Александровичем представлялась ей непереносимой. После двух месяцев жизни в квартире В.И. Иванова и его жены Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, с бесконечным и мучительным выяснением отношений, Волошин решает уйти со сцены: покинуть Петербург и не мешать развитию отношений Маргариты и Вячеслава. Пусть будет, как будет!
" Я решил, что я не должен связывать планов своей жизни с Амориными планами. Что всё лето я проведу в Коктебеле, а осенью отправлюсь в Париж. Она же поступит как, как ей заблагорассудится, -- поедет со мной или останется в России. Что мне рано еще иметь дело с людьми. Что теперь мне надо ещё несколько лет сосредоточенной и одинокой работы" (запись в дневнике "История моей души" от 10 марта 1907 г. Цит. по: Волошин. Собр. соч. Том 7. кн. 1. С. 265).
19 марта Волошин выезжает из Петербурга в Москву, вечером 20-го - на юг, в Феодосию, на свою вторую, духовную родину…
В пути, в вагоне третьего класса, представляя себе любимые места (прежде всего дальнюю дорогу через холмы Тепе-Оба и Биюк-Янышар, по которой он с гимназических лет часто ходил пешком из Феодосии домой), Волошин пишет стихотворение "Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель…". 21 марта почтовую карточку с этим стихотворением он отправил с вокзала г. Курска Вяч. Иванову. Поэт прибывает в Коктебель 24 марта и вечером пишет жене о своих впечатлениях:
"Он неуютен, суров. Резкий холодный горный воздух. Горы инкрустированы снегом. Море ревет. В домах неуютно и холодно. <…> Я никогда не видал Коктебеля таким грозным и неприветливым. Сейчас я спрячусь от холода в постель и буду долго читать. Теперь еще рано -- 9 часов, но всё так пустынно, что кажется, что давно уже глубокая ночь" (РО ИРЛИ РФ, ф. 562, оп. 3. ед. хр. 112).
На другой день комнаты были протоплены, подметены, книги разложены. День праздничный (Благовещение). Но "в Коктебеле Христа нет нигде, ни в чем, -- осознает Волошин. - Здесь могилы древних богов, а новый бог не пришел. Трагедия смерти на всем." (Там же).
Тоскуя по жене, он пишет ей ежедневно, иногда даже два письма в день. Работает над статьей о Блоке, читает старые дневники Сабашниковой. 31 марта (горы еще покрыты инеем!) начинает купаться в море. И в этот же день посылает Маргарите Васильевне стихотворение, "написанное размером архилоховской строфы" (по имени Аххилоха, греческого поэта VII в. до н. э.): "Темны лики весны. Замутились влагой долины…". "Я теперь всё делаю разные опыты с древними ритмами. Это очень интересно, но в начале страшно трудно" (Там же).
Коктебель всё больше завораживает его. 2 апреля Волошин пишет Маргарите Васильевне:
"Сегодня серый безветренный день. Я с утра читаю наши письма и дневник, и во мне подымается безмолвие и успокоение. Потом я иду в горы - на безлесные холмы. Тихо и радостно. Еще нигде нет зелени. Кустарники лиловатые. По долинам стоят весенние озера. Я чувствую, как что-то выясняется, связывается в душе. Настоящее постепенно связывается с каждой минутой прошлого. Всё цельно, всё едино, всё оправдано. Я начинаю действительно только теперь приобщаться Коктебелю.
Коктебель для меня никогда не был радостен. Он всегда был горек и печален. Каждый раз, когда я приезжал сюда, мне бывало тяжело, и будущее было непроницаемо. Но каждый раз в этой горечи рождались новые ростки и новая жизнь, всё перекипало, оседало, прояснялось в жизнь. Он моя горькая купель. За это я люблю его. Да. Тут человек может только сам в себе рождаться и бороться." (Там же).
3 апреля поэт пишет сонет "Здесь был священный лес. Божественный гонец…" и через два дня отправляет его Вячеславу Иванову в Петербург. Затем - сонет "Старинным золотом и желчью напитал…". Волошин радуется, что его одиночество стало творческим, считает, что он должен оставаться в Коктебеле и работать, и в письме 5 апреля резюмирует:
"Теперь, когда я овладел собой, я благодарен Коктебелю и одиночеству. И я тоже думаю, что мне не следует слишком поропиться покидать его…" (Там же). 6 апреля, после очередной прогулки "по холмам", Максимилиан Александрович делится с Маргаритой Васильевной, которая Коктебель недолюбливала, своими впечатлениями:
"Как удивительно красив и спокоен Коктебель. Теперь настали спокойные тихие дни. Тепло. Но в здешней весне нет ласки. Как здесь всё грандиозно и строго - никаких лишних деталей, ничего "красивого", все прекрасно и просто как Эсхиловская трагедия. Как строги все тона, все линии, и какое разнообразие лица всей долины" (Там же).
Глаза поэта открылись на Коктебель, который он знал с 1893 года, и произошло это благодаря пережитому им страданию. Душевная боль стала импульсом творчества. Стимулировало и то, что стихи писались как бы прямо "в печать" - для альманаха "Цветник Ор" и для собственного сборника стихов "Звезда-Полынь", издание которых взял на себя В.И. Иванов. Маргарита Васильевна извещала мужа в одном из писем (без даты), что по решению Иванова два его "крымских сонета" в сборнике издательства "Оры" будут названы "Киммерийскими сонетами". Одновременно она сообщала, что издание книги "Звезда-Полынь" предполагается отложить до осени.
18 апреля возникает ещё один сонет ("Равнина вод колышется широко…"), и в тот же день Волошин пишет Иванову о том, что сонеты слагаются в определенную серию, которую в будущем можно будет назвать "Одиссей в Киммерии".
В конце апреля по вызову Сабашниковой Волошин едет в Москву. Здесь он получает письмо от Вяч. Иванова с извещением, что два его сонета в "Цветнике Ор" печатаются под заглавием "Киммерийские сумерки". "Мне очень нравится это соединение и кажется соответствующим и выразительным" - добавляет Иванов. Вероятно в Москве Максимилиан Александрович закончил сонет "Полдень ( Травою жесткою, пахучей и седой…)", над которым начал работать еще в марте.
Семейная жизнь так и не наладилась. В конце мая он выезжает в Коктебель, где все московские "терзания и сомнения" вскоре его покидают. "Мне стало так радостно, спокойно и светло" - пишет он 2 июня Маргарите Васильевне (Там же, ед. хр. 113).
Тем не менее "ужасный месяц в Москве" перебил его поэтическую работу, и теперь он может работать уже не так интенсивно, как до поездки на север. Только около 20 июня Максимилиан Александрович пишет очередной "киммерийский" сонет "Над зыбкой рябью вод встает из глубины…". Дальнейшая хронология написания сонетов такова: 13 июля - "Гроза ( Запал багровый день. Над тусклою водой…)", в сентябре - "Mare Internum ( Я - солнца древний путь от красных скал Тавриза…)", 17 октября - "Одиссей в Киммерии ( Уж много дней рекою Океаном…)". Еще три сонета будут написаны в 1909 году: "Облака ( Гряды холмов отусклил марный иней…)", "Сехмет ( Влачился день по выжженным лугам…)" и "Сочилась желчь шафранного тумана…". Самое первое стихотворение цикла "Полынь ( Костер мой догорал на берегу пустыни…)" возникло еще в декабре 1906 года в заснеженном Петербурге, когда Волошин, казалось, полностью был погружен в столичную литературную жизнь. "Оно мне очень дорого" - писал он жене, посылая ей этот гимн Киммерии, клятву верности ей…
В полном составе цикл "Киммерийские сумерки" был опубликован впервые в сборнике Волошина "Стихотворения. 1900 - 1910", который вышел в конце 1910 г. в Москве в издательстве "Гриф". Он сразу был замечен критиками. Вячеслав Полонский выделил его как лучший среди стихов Максимилиана Александровича ("Всеобщий ежемесячник". 1910. № 5. С. 95). Поэтом "Киммерийских сумерок" нарек Волошина Вяч. Иванов ( ж. "Аполлон". 1910. № 7. С. 38). Рецензент "Золотого руна" (вероятно С.Городецкий) сформулировал еще определеннее: "Дикая природа Коктебеля, найдя своего живописца в лице Богаевского, нашла и своего поэта в лице Волошина" ( ж. "Золотое руно". 1909. № 11. Отдел Хроника. С.103). Г.С. Петров, цитируя, а порой и "пересказывая" слова Волошина, назвал его даже "уроженцем Киммерии" (г. "Русское слово". 1910. 29 июля. С. 2).
После смерти Максимилиана Александровича, в 1940-е годы прошлого века, Всеволод Рождественский увидел в "Киммерийских сумерках" поворот волошинской поэзии, ибо "прикосновение к суровому сумрачному пейзажу восточного Крыма" открывало перед поэтом новые возможности". Как об одном из высших достижений Волошина-поэта о цикле отозвалась М.В. Сабашникова в воспоминаниях "Зеленая змея". Но, пожалуй, лучше всех сказала еще 17 августа 1907 г. в письме к самому Волошину переводчица и оккультистка А.Р. Минцлова: "Что-то поразительное, страшное и прекрасное есть в Ваших "Киммерийских сумерках". И что-то несказанное чуется за этим… Так - еще не говорил никто до Вас об этой незнаемой, таинственной земле…" (РО ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 845).
Но все-таки самые точные слова для характеристики цикла нашел Н.П. Анциферов. В обзоре "Крым в художественной литературе" (сб. "Гул земли". Л., 1928. С. 111-112) он писал: "Максимилиан Волошин открыл "Коктебель" и передал его в своем творчестве как "туманную Киммерию ночной земли". Он ощутил Крым не как сладостный юг, а как далекий север Светлой Эллады, суровую окраину мира…<…> Он ушел от "Русской Ривьеры" с ее искусственными насаждениями. Ему нужен вековой нетронутый ландшафт, который некогда предстал взорам Ореста и Пилада…" .
© R. Khrulevoi
|