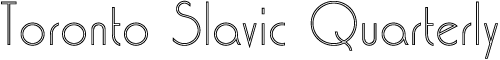Корнелия Ичин
Пролетариат врасплох:
"Симфония Донбасса" Дзиги Вертова
Резолюция ЦК ВКП (б) О политике партии в области художественной литературы (от 18 июня 1925 года), в основу которой были положены принципы партийности и народности литературы и искусства, наметила ход дальнейших событий в области искусства, в том числе кино (1). Газета "Кино" открыла с 13 сентября 1927 года специальный отдел "Готовьтесь к партсовещанию!", которое состоялось с 15 по 21 марта 1928 года. Итоги первого партийного совещания по кинематографии заверяли в том, что "в основе содержания советского фильма должна лежать идеология пролетариата", иными словами, в период первой пятилетки (1928-1932) кино должно являться "могущественным средством коммунистического просвещения и агитации, воспитания классового сознания рабочих, политического перевоспитания всех непролетарских слоев населения и крестьянства в первую очередь" (2).
Если советская кинематография зарождалась в 1918 году с кинохроник, запечатляющих "киноглазом" "жизнь врасплох" (по словам Вертова), факт жизни, под явным воздействием формалистских теорий (3), уже десятилетие спустя начинается ожесточенная борьба против теории и практики формализма в кино, а тем самим против кинодокументалистики. Так, 25 июня 1929 года было проведено совещание коммунистов Совкино по вопросу о формальных направлениях в кино, которое поставило под вопрос существование неигровых, документальных фильмов, в общем-то непонятных пролетариату (4). За ним последовала статья И. Соколова Корни формализма (Содержание и форма кино с точки зрения формализма и диалектики), в которой утверждалось, что "формализм - самая главная опасность в советском кино", ибо он представляет собой "метафизический отрыв формы от содержания"; главными формалистами советского кино Соколов назвал Л.Кулешова и Д.Вертова, которые считали, что "монтаж (соединение кадров) есть форма кино" (5). Несколько месяцев спустя, в августе 1930, в той же газете "Кино" начинается дискуссия о кинодокументализме, а на самом деле - кампания против Д.Вертова, Э.Шуб, В.Ерофеева (6).
В таких обстоятельствах Вертов в Ответах на вопросы газеты "Кинофронт" в 1930 году утверждает, что киноки по-прежнему, в согласии с написанным в 1922 году манифестом Киноки. Переворот, считают "подлинным, стопроцентным кино такое кино, которое строится на организации зафиксированного киноаппаратом документального материала" (7), тогда как метод документального фильма считают "основным методом пролетарской кинематографии"; Вертов при этом подчеркивает "фиксацию документов нашего социалистического наступления, нашей пятилетки" как основную задачу советского кино (8). Отстаивая право на существование факта в кино, Вертов в своих ответах по сути становится на позиции лефовцев касательно литературного (и не только литературного) факта (9). Будучи первым, кто в кино ставит вопрос о документальности искусства, Дзига Вертов в 20-е годы провозглашает монопольность кинохроники в изображении революционного быта и почти что единственный не отступает от своих утверждений (10). По справедливому замечанию Селезневой, "спорами о сущности и роли хроники проникнут и объясняется весь период противопоставления неигровой - игровой" (11).
Давление на представителей кинодокументализма усиливается и в статье На большевистские рельсы, помещенной в "Правде" от 14 декабря 1931 года, читаем: "Кинохалтура еще не ликвидирована. Затрачиваются часто огромные средства на десятки и сотни картин, идеологически чуждых социалистическому строительству"; с другой же стороны, "Пролетарское кино" (№ 5, 1932 год) прямо призывало к окончательному разгрому кинодокументалистики, олицетворяющей формалистский подход к киноискусству (12).
На фоне всеобщей борьбы с формализмом Вертов создавал своего Человека с киноаппаратом (1926-1929, выпущен на экраны апреля 1929 года), потом и Симфонию Донбасса (1930, 1931) (13). Это неигровое кино, в котором воплощался его творческий метод, - "коммунистическая расшифровка мира" (14), представало перед нами как набор равноправных, неиерархизованных и взаимозаменяемых кинофактов, лишенных личностного начала, которые организуются в одно, ритмически сплоченное целое, благодаря киноглазу и, соответственно, радиоглазу. "Коммунистическая расшифровка мира" отрицает искусство, отрицает как актерскую, так и типажную кинематографию (15), признает своей только подлинную жизнь, которую запечатляет кинохроника.
Если в Человеке с киноаппаратом Дзига Вертов метакинематографически вводит образ кинооператора Михаила Кауфмана, своеобразное воплощение киноглаза, организующего жизнь врасплох (16), то год спустя в первой советской звуковой картине, в Симфонии Донбасса также метакинематографически фигурирует образ монтажера и ответственной за звукозапись Елизаветы Свиловой, являющейся олицетворением вертовского радиоуха (17). И в том, и в другом фильме киноаппарат и наушники (для радиотелеграфа) воспринимаются как составные части труженников-киноков в диалектическом взаимодействии человека и машины (человеческого труда и труда машины); в этом смысле нельзя не согласиться с утверждением Н. Григорьевой, что "основная идея фильма (Человека с киноаппаратом - К.И.) состоит в том, что киноаппарат - такой же рабочий, как и все, изображенные на экране" (18). Человек и машина (т.е. киноглаз, радиоухо) совместно участвуют в "организации необходимых движений вещей в пространстве", в согласии со "свойствами материала и внутренним ритмом каждой вещи", обращаясь своими стараниями к человеку будущего, к "совершенному электрическому человеку" (19).
Так писал Вертов в 1922 году. Свое стремление к объединению научных изобретений и кино Вертов подтвердил восемь лет спустя кинокартиной Симфония Донбасса, впервые в мире записав в ней документальные звуки и, тем самим, сняв волнующий многих вопрос о "возможностях и невозможностях документальной и наружной звукосъемки"; вывод у Вертова был один: "Мы слишком опередили в своих планах и замыслах наши технические и организационные возможности" (20).
С другой стороны, Вертов, исходя, по-видимому, из положений диалектического материализма о единстве науки и практической деятельности (теории и практики, теории пролетарского социализма и практики революционного рабочего движения) в целях переустройства общества в духе коммунизма (21), в своей Симфонии Донбасса устремляется на переустройство мира методом киноглаза и радиоуха, объединенных в симультанном радиоглазе. Для Вертова в эпоху звукового кино самая главная задача состоит в том, чтобы сохранить документальное, неигровое начало как в изображении, так и в звучании. Не случайно, Симфония Донбасса своим единством противоположностей на уровне звучания и изображения производила самые неожиданные впечатления на публику: от восхвалений Чаплина (22) до запрета на кинопоказ (23). Тем не менее, в одном сходились многие: это была новая эпоха в звуковом кино. Звучала реальная, негармонизированная, с тональными перепадами и контрастирующей громкостью жизнь, под стать додекафонической музыке (24).
Так или иначе, Симфония Донбасса представляла собой апофеоз индустриального труда, осуществляемого рабочим классом в деле построения социализма. Однако построение социализма пролетариатом передавалось в исторической перспективе, в процессе смены государственной символики (на смену короне с двуглавым орлом - флаг с серпом и молотом; на смену кресту - пятиконечная звезда), звукового фона (на смену церковной службе и звону колоколов - марш и шумы промышленного цеха), модели поведения персонажей (на смену молитве и пьянству - лозунги, речи на митингах, работа); индустриализация, как фундамент, на котором зиждется социализм, передавалась на всех этапах ее существования, причем по вертикали: шахты, завод, домны, ударяющие в небо.
Хотя фильм легко подразделить на три части (первая в экспериментальном ключе передает столкновение религиозного и коммунистического быта, вторая - процесс производства в районе Донбасса, третья - коллективизацию), в целом он был задуман как триумф симбиоза человека и машины, как гимн труда (25). Об этом свидетельствует и подбор музыки к фильму: заключительный аккорд из Первомайской симфонии Шостаковича и марш Последнее воскресенье Тимофеева, посвященный Симфонии Донбасса, исполнение которого передается по радио (слышимое для телеграфистки в наушниках становится для зрителя одновременно слышимым и видим, - в лице дирижера). Последнее воскресенье, под звуки которого проходила первая часть фильма, по сути, представляло собой поминки по церкви, которая после прощальной церковной службы (состоявшейся в воскресенье), с отдаленными отголосками "Вечной памяти", поменяет свое назначение в клуб рабочей молодожи; соответствено, аккорд Первомайской симфонии Шостаковича определит вторую часть картины.
Бесспорно, разработка сочетания звуков разных реестров в документальном фильме была одной из задач Вертова; по мнению Монтани, новизна Симфонии Донбасса заключалась "не только в уже настоль скандальном решении симультано записывать, но также в том, что колокол звучит в фильме, состоящем в основном из шумов, схваченных в шахте и на заводе Донбасса во время работы, или на улице и на площади, во время собраний и рабочих митингов" (26). Однако дело не в звучании колокола на фоне издававшихся заводом шумов, а в том, что звучание (и раскачивание) колокола соотносится как с раскачиванием молящихся, изображенных в ключе персонажей Двенадцати Блока (дама в каракулях, поп, старуха, буржуй в цилиндре), так и с раскачиванием пьяных пролетариев в праздничное воскресенье (должных напомнить об изречении Маркса "религия - опиум для народа") (27), а также с раскачиванием камеры и, в конечном итоге, с раскачиванием и низвержением купола церкви и колокольни; к тому же, звучание колокола перекликается с молитвой, с церковным хором, с тиканьем часов (28), звучащим с самого начала фильма и улавливаемым ухом и глазом радиотелеграфистки (29).
Тиканье часов или биение сердца, сопровождаемые напряженностью радиотелеграфистки, предвосхищают вещание по радио собственного производства: "Слушайте! Слушайте! Говорит Ленинград! РВ3! РВ3! Волна 1000 метров. Передаем марш "Последнее воскресенье" из фильмы "Симфония Донбасса"". В противовес этому маршу, начиная с завтрашнего, рабочего дня, отмеченного утренним фабричным гудком, прозвучит настоящий, живой марш на улицах города, в исполнении шествующих пионеров (с соответствующими "аксессуарами": в форме, с галстуками, барабанами, трубами, флагами). Теперь вместо тиканья часов - биения сердца ухо радиотелеграфистки в наушниках запечатляет бой барабана - биение сердца, не без воздействия строчки "Сердце наше - барабан" из стихотворения Наш марш Маяковского; перед ее глазами - шествующий пролетариат, шествующие комсомольцы, шествующие народные массы с флагами, лозунгами, портретами вождей и пятиконечными звездами, собиравшиеся на митинг во дворе церкви, к которым, пожалуй, присоединяется и она, судя по тому, что, снимая наушники, уходит. Слышно слова активиста: "Вот папа привязан цепью к денежному ящику капитала"; слышно слова священника: "Анатема!", "православные государи на престол становятся не по Божьему велению, а по своему усмотрению"; слышно лозунг: "Долой церковника! Ура!", откликающийся в единогласном "Ура!", переходящем в Интернационал. Почитание гимна вставанием демонстрирует радиотелеграфистка.
Симметрические повторы крупных планов (купола - Богородица - купола - Ангел - купола - Богородица - купола; крест - корона - крест - корона - крест - корона - крест - корона - крест) предвосхищают низвержение религиозного культа в пролетарском государстве (мы видим сваливающиеся с крыш купола и кресты, или же образа и церковную утварь в руках пролетариата, очищающего здание для клуба рабочей молодежи). Преломлением и вибрированием метафорически изображаются уничтожение распятия и крушение церкви, усиливающееся, к тому, звучанием барабана, наковальни, удара молота по жести. Выдвинутый пролетариями лозунг "Борьба с религией - борьба за новый быт" ознаменовал победу флага, образа Ленина, пятиконечной звезды над двуглавым орлом, иконой, крестом, сопровождаемую сответствующим движением камеры вверх и вниз, а также чередованием гула и похоронной тишины.
Это был первый этап в борьбе за новый быт, которому способствовали сочинения Ленина, макет которых шествовал вместе с комсомольцами и вдохновлял на творчество (радиотелеграфистка предстает перед нами в роли скульптора, который лепит голову вождя). Ликвидацией безграмотности, организовыванием рабочей молодежи, планом индустриализации и коллективизации все обязаны пролетарскому государству, символом которого является флаг; оттуда крупным планом озаренные лица комсомолки, рабочей и крестьянина с высоко поднятой головой смотрят на флаг, вьющийся на фоне проводов и завода с доменными трубами, указывающих на второй этап развития пролетарского государства.
Второй этап подразумевал реализацию пятилетнего плана индустриализации страны.
Еще Б. Алперс в конце 20-х писал, что "никто из советских режиссеров не мог бы лучше рассказать с экрана о "деловом дне" металлиста, врача, шахтера, о работе завода и учреждения, чем Вертов" (30). Именно этому, завоеванию труда посвящена вторая часть фильма. Надвигающиеся над клубом рабочей молодежи грозовые тучи предшествуют борьбе за индустриализацию, борьбе за ударнические результаты, ярче всего олицетворенные в скульптуре рабочего, напоминающего пятиконечную звезду, выполненного в духе А. Экстер. Скорость туч прямо соотнесена со скоростью рабочего процесса на заводе. Природа и человеческая рабочая сила создают диалектическое единство; им содействуют духовые интрументы, воспроизводящие звуки грозы. К ним присоединяются ударники и энтузиасты. Объединяются верх и низ: облака и домны, с одной, и заводы и шахты, с другой стороны.
Все кинематографические приемы, все повторы, ускорения и замедления, тройные или четверные экспозиции, крупные и общие планы, все ракурсы, короткие монтажи, надписи - все о процессе индустриализации и повышении продуктивности труда. Надпись "план" (с изображением макета вагонов) повторяется 7 раз, "до социализма" (с изображением макета продуктов - тракторами, грузовиками, цистернами) - 12 раз, "к социализму" (направление рельс вдаль - к заводу и к фабричным домнам ввысь) - 3 раза; все они должны вселить победный дух в денный и нощный труд рабочего класса под ободряющие звуки Интернационала. О днях пятилетки и принятых на митинге решениях в борьбе с прорывом (7 раз всплывавшим на экране) узнаем со слов донбасского шахтера: "Вернем стране угольный долг!", опять-таки под гудки фабричных труб, телеграфные гудки и звуки Интернационала. Рельсы в шахтах, по которым отправляется руда, объединяются с рельсами, по которым в рудники отправляются на поездах энтузиасты-комсомольцы (31), в духе диалектического единства. Работа ударников под землей и обучение энтузиастов шахтерской работе наверху также представляют диалектическое единство, переданное конструктивистским монтажом.
Выступление секретаря ячейки (32), клятвы ударника и ударницы Снежнянского района № 9 выполнить сверхнорму к концу года, сопровождаемые ускоренной работой конвейера, должны привести к ликвидации прорыва; совместными усилиями ударников и энтузиастов начинают выходить уголь и металл, передвигаются по воздушной цепи со все большей скоростью вагонетки с углем; в патетической фразе "Донбасс идет в наступление!" объединяются работа сортировочных машин с рудой и работа женских рук, сливаются воедино полный, все ускоряющийся ход машин и превышение норм человеческого труда, которые приведут к осуществлению пятилетки за 4, даже 3 года (33). Голос диктора напутствует: "Шахтеры Донбасса должны помнить, что от их работы зависит судьба основных индустриальных центров страны социализма". Борьба человека с железом (куется железо, обрабатывается металл), доставка угля домнам и заводам суть победа над прорывом.
"Дело чести. Дело славы. Дело доблести и геройства" - в этом градационном порядке характеризуется победа труда. Одновременно, повторяющиеся в разгаре работы лозунги "Коммунистической партии ура!! Коммунистическму труду ура! За дело социализма ура!!!", бросают вызов ударникам, рабочим, комсомольцам на превышение собственных ударных норм. Соцсоревнование провозглашается "коммунистическим методом работы" в деле строительства социализма: "В дни выполнения плана великих работ, в дни невиданного геройства пролетариата, в дни подъема социалистического соревнования перекликаются шахты с заводами. Идет полным ходом строительство социализма".
Предвосхищенный изображением хлебных полей на переднем плане завода третий этап в строительстве социализма подразумевал коллективизацию крестьянских земель. И здесь колхозники одной бригады, объявляя готовность стать ударниками, вызывают на соревнование другую бригаду колхозников следующим текстом: "Мы, колхозники Донбасса, бирюховского края на Луганщине, бригада № 4, учитывая те задачи, которые поставлены перед нами по уборочной компании урожая, мы, бригада № 4, обязуемся себя, объявляем себя ударниками и даем свое обещание убрать свой урожай быстро и аккуратно, и поэтому вызываем бригаду за номером 6 послужить нашему примеру"; на это последуют восклицания собравшихся колхозников: "Да здравствует коллективизация!", "Да здравствует ударничество!".
В деле строительства социализма перекликаются песня колхозников, с которой отправляются "в бой за хлебом", и песня под аккомпанемент духовых оркестров участвующих в манифестациях пролетариев, которой приветствуют 11-й съезд компартии Украины. Лозунги с трибуны "Да здравствует коллективизация!", "Да здравствует ударничество!", которые поддерживаются аплодисментами, знаменуют единство партии, пролетариата и колхозников, сливающихся в праздничное звучание музыки и машин, в победу индустриализации, в смычку колхоза с заводом в целях ликвидации прорыва на пути строительства социализма.
Бесспорно, Вертову в Симфонии Донбасса удалось реализовть свою мысль о том, что звук в кино живет по тем же законам, что и изображение (игровые и документальные). Записав подлинный звук гудков, фабричных машин, локомотива, крушения церквей, колоколов, песен, человеческого голоса, Вертов, по сути, звучанием изобразил пролетариат в действии. Мощные звуки пролетарской действительности должны были убедить зрителя в силу социализма и его будущее на мировой уровне. Не потому ли зрители в Европе, погружавшейся в экономический кризис начала 30-х, с восторгом встретили Симфонию Донбасса, названную в прокате Энтузиазмом?
Примечания:
© C. Ichin
|