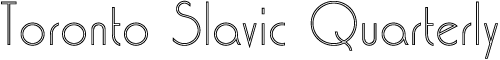Николай Богомолов
ПЕРВЫЙ ГОД "БАШНИ"
1
"Башня" Вячеслава Иванова давно превратилась в один из известнейших культурных символов того, что до сих пор часто называется "серебряным веком". После во многом справедливых сомнений, высказанных О. Роненом относительно адекватности этого термина применительно к эпохе конца XIX и начала ХХ веков в России, можно было бы, пожалуй, сказать, что судьбы этих двух понятий во многом параллельны. Мифология "серебряного века" отражается в мифологии "башни", и наоборот. Между тем реальная история как "Башни", так и русской культуры интересующего нас времени написаны далеко не полностью. Нашей задачей в данной работе является восстановление реальной исторической канвы жизни Иванова и Зиновьевой-Аннибал в первый год после возвращения в Россию из-за границы.
Напомним ситуацию, в которой Ивановы оказались и о которой мы уже подробно писали в предыдущих наших "хрониках", самым сжатым образом. В сентябре 1904 года рухнуло главное препятствие, которое приковывало их к Женеве: 14/27 сентября скончался Дмитрий Васильевич Зиновьев, отец Зиновьевой-Аннибал. Дочерние обязанности перестали привязывать ее к постоянному месту, а полученный еще в 1899 г. развод с первым мужем открыл дорогу в Россию. Однако большой семье, обремененной не только четырьмя детьми, но и разнообразными обстоятельствами (необходимостью детей доучивать за границей, ибо нострификация достигнутого уровня была непростой; далеко не идеальными материальными условиями; накопившимися почти за три года женевской жизни движимым и недвижимым имуществом), стронуться с места было не так-то просто. С едва ли не исчерпывающей ясностью Иванов написал об этом Брюсову: "…теперь переселение в Россию - вопрос решенный. До такой степени, что Михаил Николаевич <Семенов> едва не опустошил нашей villa Java захватом почти всего скарба на свое парижское новоселье. Впрочем, мы вовремя опомнились и, наведя справки о стоимости перевоза, решили взять все почти здешнее достояние с собой. Тем не менее, семье спешить не следует, и, быть может, пройдет много времени, прежде чем l'exode состоится. <…> Авангардом будем я и Лидия Дмитриевна. Я намереваюсь быть в Москве сравнительно скоро: в конце ноября или даже ранее" (1). 19 октября / 1 ноября следует краткое уведомление: "Мы будем в Москве еще не скоро - не раньше, чем через месяц" (Там же. С. 464). 3/16 января 1905 года: "Так и не пришлось встречать с вами новый год" (Там же. С. 470). 14/27 января: "Надеюсь на скорое свидание…" (Там же. С. 471). 4/17 февраля: "Я душою с тобою и скоро-скоро надеюсь увидеть моего одинокого Овидия" (Там же. С. 472). 24 февраля / 9 марта: "Очень собираюсь в путь, но не раньше как после 10 марта (русского)" (Там же. С. 474).
Все это время Иванов внутренно занят делами "Весов" и "Северных цветов", отчасти "Вопросов жизни" и "Грифа", то есть почти полностью поглощен перипетиями развития русского символизма. Он и сам много пишет (2), и откликается в письмах на новые номера журналов и выпуски альманахов, и строит планы сотрудничества, и привлекает к журналу других авторов (3). Кажется, что как только спадут оковы внешних препятствий и он окажется в Москве, так сразу же все разрешится лихорадочной активностью в строительстве величественного здания видевшегося ему литературного (и не только литературного, конечно) течения. Да и редакция "Весов" с нетерпением ждет его приезда. Однако все вышло по-другому.
К сожалению, у нас немного сведений о том, что происходило с Ивановыми весной, сразу по приезде в Москву. Как свидетельствует дневник Зиновьевой-Аннибал 1906 года (сохранившийся лишь в сравнительно небольших фрагментах), они выехали из Женевы в Москву 20 марта (видимо, старого стиля) 1905 года. "Но в Москве все было не то. Отвратительно. Брюсов изолгался вконец в словах, в чувствах, в стихах, в авантюрах. Пошлость Апраксина рынка, одетая в бутафорское величие. Андрей Белый злой и выдохшийся. Поляков в бегах. Атмосфера злой сплетни, беззубой грязи какой-то" (4).
Что же произошло? Достоверно, повторимся, мы знать этого не можем, но строить догадки вполне в состоянии. Прежде всего, это было связано с кризисом в "Весах", пришедшимся на это время. Исследователи истории журнала пишут: "В первой половине 1905 г., когда в России стремительно нарастает революция, отчуждение "Весов" от читателей достигает апогея" (5). Кажется, фраза про "нарастание революции" не более чем привычная для советского времени идеологическая прокладка, однако на деле она имеет под собой вполне реальное содержание.
Сейчас уже довольно хорошо известно, что на протяжении долгих лет с самой молодости Иванов в своих политических воззрениях был весьма консервативен. В студенческие годы он сотрудничал в "Московских ведомостях" и "Новом времени"; издатели его переписки с И.М. Гревсом справедливо констатируют их расхождения на почве политики; после выхода "Кормчих звезд" А.В. Гольштейн писала ему: "Я не думаю, что Ваш сборник встретил эстетическую враждебность. Она должна быть скорее политическая и относится скорее к Вашему политическому миросозерцанию" (6); мы имели случай констатировать, что сотрудничество Иванова с Высшей школой общественных наук в Париже прекратилось отчасти и из-за неудовлетворенности лектора революционаризмом как слушателей, так и преподавателей (7), обостренной еще и его патриотической позицией во время Русско-японской войны. Однако события 1905 года постепенно меняли отношение Иванова к происходящему на родине, тогда как Брюсов был вполне тверд в консервативных убеждениях. В свое дневнике он записал: "Не скажу, чтобы наша революция не затронула меня. Конечно, затронула. Но я не мог выносить той обязательности восхищаться ею и негодовать на правительство, с какой обращались ко мне мои сотоварищи (кроме очень немногих). Я вообще не выношу предрешенности суждений. И у меня выходили очень серьезные столкновения со многими. В конце концов, я прослыл правым, а у иных и "черносотенником". <…> После восстания, вскоре, ездил в Петербург. Там было ultra-революционное настроение; и мы с Вяч. Ивановым на этой почве почти рассорились" (8). Мы еще будем иметь возможность вернуться к этой теме более подробно, сейчас же отметим лишь разность позиций Иванова и Брюсова по отношению к важнейшей проблеме современности.
На это накладывались личные обстоятельства. Еще в письме от 28 ноября / 11 декабря 1904 г., послав Иванову стихотворение "Опять душа моя расколота…", Брюсов писал: "Мои стихи, вероятно, объясняют тебе, почему я не пишу писем" (ЛН. Т. 85. С. 469). В октябре этого года обрел ясные очертания его роман с Н.И. Петровской, который на протяжении без малого года стал определяющим в его жизни. Десять лет назад и Иванов пережил подобное, но повел себя в этой ситуации по-другому: как только определилась его страстная увлеченность Лидией Дмитриевной Шварсалон (еще не Зиновьевой-Аннибал), почти тут же он объяснился с женой и расстался с нею. По крайней мере частично к этой ситуации относятся цитированные нами выше слова: "Брюсов изолгался вконец в словах, в чувствах, в стихах, в авантюрах". К тому же в конце мая он с Петровской и вообще уехал из Москвы, оставив Иванова без наиболее ценимого тем общения.
Именно к этой поре относятся немногие сохранившиеся сведения о пребывании Ивановых в Москве. Самое раннее известие - письмо Зиновьевой-Аннибал к Замятниной от 28 мая (9).
Конечно, такие частности, как открытие плохих фресок на стене в Женеве не может интересовать "Весы", но ты можешь присылать рецензии или более общие и важные статьи. Дело с "Весами" устроилось так: Вячеслав - соредактором будет, начиная с Июльской книжки. Делит труд Брюсова пополам. Получает соответствующее постоянное вознаграждение и право равного Брюсову голоса. "Весы" будут преобразованы: будут стихи и несколько страниц беллетристики. Предполагается драконовская строгость, и в случае неимения своего, -- переводы редких или неизданных вещей. Затем: отдел обозрения русских журналов и хронику <так!> русских идей. Это сделает журнал живым и актуальным, а без беллетристики публика не желает обходиться. Все это связывает Вячеслава на лето и осень. Зимой увидим, как пойдет. <…>
Вячеслав только что отделал хорошую большую статью о Шиллере в "Вопр<осы> Жизни". Теперь правит коррект<уры> "Дионис<ийской> Религии". Были два раза в Сокольниках 1) с Брюс<овым>. 2) с Ивановск<им>, и один раз в Петровском парке. А то все время в Москве. Была я на очень интересном соц<иал>-дем<ократическом> реферате. Большая сила и умный оппортунизм чувствуется. Ал<ександра> Никол<аевна Чеботаревская> совсем изменилась: стала славная, здоровая, спокойная. Отношения прекрасные. Очень удобны две комнаты. Я не выхожу к Бр<юсову> и Бел<ому>. Впрочем, сегодня ждем Брюсова проводить на месяц отъезда. Уезжает один. Хочет совсем перемениться и начать новую хорошую жизнь по возвращению. В добрый час. Печальная драма - жизнь его жены. Он то мерзок, то добр и красив и дитя (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 8об-11об).
Это письмо требует некоторых комментариев. Проще всего обстоит дело с публикациями: статья для журнала "Вопросы жизни" так и называлась - "О Шиллере" (1905, № 6), а "Дионисийская религия" -- продолжение "Эллинской религии страдающего бога", печатавшаяся в тех же "Вопросах жизни" под заглавием "Религия Диониса: Ее происхождение и влияние" (1905, № 6-7). Несколько подробнее следует сказать о судьбе "Весов" и планах совместного редакторства. Формально с просьбой о разрешении ввести в "Весы" беллетристический отдел С.А. Поляков обратился в Главное управление по делам печати только через месяц, 21 июня 1905 г., а само разрешение было получено и вовсе 7 октября (10), так что обещания были пока что ни на чем конкретном не основаны. И никаких документов о соредакторстве Брюсова и Иванова до настоящего времени не известно. Видимо, это были не более чем устные договоренности, сравнительно скоро утратившие (в глазах Иванова, во всяком случае) какую бы то ни было силу. Во всяком случае, уже 31 июля он писал Брюсову: "Не думаю, чтобы мое присутствие в Москве было надобно "Весам" вообще" (ЛН. Т. 85. С. 476). А 1 сентября Брюсов пояснял Иванову причины разрушения предполагавшегося плана: "Я ждал, что приедешь ты, что приедет Михаил Николаевич <Семенов>, и все изменится само собой. Но после того, как Сергей Александрович <Поляков> отверг Михаила Николаевича и отверг тебя как соредакторов, мне не осталось больше надеяться ни на что" (Там же. С. 481). Подробнее с этим сюжетом мы еще столкнемся далее.
Через несколько дней, 4 июня последовало еще одно письмо Зиновьевой-Аннибал к Замятниной:
До Сентября наши планы ясны: 1) Вяч<еслав> сидит в Петерб<урге> и издает у Жуковского (11) (Издатель "Вопр<осов> Ж<изни>") свою книгу "Дионис", 2) Я жду ввода во владение наследства и заготавливаю "Пламенники". После Сентября все темно. Правда, со "Скорпионом" Вяч<еслав> сговорился, что он будет соредактором вместе с Брюсовым, начиная с осенних месяцев, будет иметь голос и вознаграждение (12) . Но… будет ли можно работать с людьми, коих весь пафос жизни и творчества иной - неизвестно (13). И неизвестны также вдохновения Вячеслава к осени, не будут ли они его толкать на уединение для труда над большими своими замыслами. Открываются в этой области все новые и новые перспективы… Итак, будет ли Россия нам желанна на зиму, все еще неизвестно вполне, хоть и кажется, что правильнее и плодотворнее не расставаться более с ней и ту работу делать, какую <так!> ею укажется.
Я здесь опять влюбилась в очаровательного Сергея Андреевича (14), хотя он на куски рвется и слишком мечется. Собирается писать о "Кольцах" (15). Ивановский (16) большой друг. Каждый день почти видаемся, с Вячеславом на ты. Со мной чуть что не обнимается при встречах. Он необыкновенно умная голова, Сократовская, с блеском глубоких и новых освещений и мнений, но все это топится в какой-то душевной лени (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 1-2об, 7, 5об).
Некоторые подробности жизни Ивановых в Москве и их общения с "Весами" и "Скорпионом" сохранились в семейной переписке Брюсовых. Так, в недатированном, но явно написанном еще в конце мая (вероятно, 30-го) письме И.М. Брюсова сообщала мужу: "Когда ты уехал, Ивановы к нам не поехали, как хотели. Должно быть, мы с Надей не сумели их позвать. Были они на следующий день. Она пела. Поет она, как артистка в опере, -- сильно. Вячеслав Ив<анович> беседовал с Надей об опечатках в Добролюбове. Он, Вячесл<ав>, берется их корректировать и, таким образом, Надя может уехать в четверг" (17). 11 июня ему же написала в своеобразном отчете о делах "Скорпиона" сестра И.М. - Бронислава Матвеевна: "Вячеслав Иванович до сегодняшнего дня хворал крапивной лихорадкой. Сегодня же появился, привез рецензию о "Венском Сецессионе" и спросил у С.А. "немного денег, так рублей сто, из тех, что числятся за мной, там должно быть гораздо больше"... Причем вид имел почти угрожающий, а крапивно-лихорадочное лицо было совсем алым. С.А. сказал "конечно, конечно", но денег пока не дал" (18).
В тот же день М.М. Замятниной написала ее сестра, Ю.М. Корш: "Я только что вернулась из Москвы от твоих дорогих друзей. Любовь к ним у меня доходит положительно до какого-то обожания. И только теперь я начинаю вполне их оценивать и любить. Только теперь я тебя понимаю, дорогая, что ты ухватилась с жадностью и любовью за их души. Ездила я в Москву на четыре дня, чтобы повидаться с Лидией Дмитриевной и Вячеслав Ивановичем. И каждый раз, когда я их вижу, -- те струны моей души, кот<орые> спят, не находя отклика среди большинства, -- когда я их вижу, откликаются и звенят прекрасной мелодией в моей душе. <…> Ты знаешь ли, <…> кто заставил меня почувствовать тебя. Это Владимир Николаевич Ивановский и Лидия Дм<итриевна> с Вячеслав Ивановичем. Сейчас объясню тебе все ясно. Когда я была в Москве, я, к моему огромному счастию, познакомилась у Лидии Дм<итриевны> с Ивановским. Как-то раз мы с ним разговорились, и он мне сказал, что находит у нас с тобой большое сходство. Я была крайне поражена и не согласна, и когда я его спросила, в чем именно, он, долго подумав, сказал: "В обращении", -- но, видимо, сам не отдавая вполне отчета, прав ли он. Затем как-то в разговоре Вячеслав Иванович и Лидия Дмитриевна характеризовали тебя и сказали, что у тебя в душе есть поэзия. И вот из всего этого я в тебе узнала себя" (Карт. 27. Ед. хр. 70. Л. 41-43).
12 июня И.М. Брюсова написала мужу, что Ивановы не откликнулись на ее приглашение приехать на дачу под Тарусу. И, наконец, из письма Б.М. Рунт к Брюсову от 19 июня мы узнаем, когда Ивановы покинула Москвы (хотя и не с точностью до дня): "Вячеслав выехал из Москвы. В книге личных счетов значится, что ему выдано 65 рублей" (19). И на месяц Ивановы скрываются из глаз исследователей. В цитированном выше дневнике Зиновьева-Аннибал записала: "Лето провели в Петербурге. Отдохнули в пустой квартире Замятниной, где шторы не подымали и глядели с любопытством на таинственные предметы, окутанные полотном, как пеленами. Поняла поэзию и тишину чехлов. Все интриги и планы Семенова и Брюсова по захвату Вячеслава в свои руки не удались, и он отказался от дуумвирата в Москве ради… свободы и, как оказалось, первенства в Петербурге" (Римский архив Вяч. Иванова).
2
Прежде чем начать повествование собственно об истории "Башни", следует сказать несколько слов об источниках наших сведений и о состоянии изученности проблемы.
Зиновьева-Аннибал в уже цитированном нами дневнике говорила, что вполне описала первый сезон "Башни" в письмах к родным в Женеву. Это действительно так. Именно ее (и значительно реже - Иванова) письма к М.М. Замятниной, реже -- к В.К. Шварсалон, являются основным источником для любого исследователя. Так или иначе их использовали все, кто имел возможность обращаться к московскому архиву Вячеслава Иванова (РГБ. Ф. 109). Однако до сих пор никто не поставил себе задачей создать на основании этих писем и дополнительных сведений последовательную хронику событий, во многом определивших интеллектуальный и творческий климат России в эти годы.
Впервые сколько-нибудь последовательный рассказ о "Башне" и ее значении для литературы начала ХХ века оставил Н.А. Бердяев (20). При всей живости воспоминаний современника, ближайшим образом участвовавшего в башенном действе, статья эта была ограничена как размером, так и задачей: создать лишь общее впечатление, не слишком активно вдаваясь в подробности.
Много лет спустя, в конце 1990-х годов цикл работ о "Башне", долженствующих создать общую картину ее существования на основе документальных материалов (в первую очередь вышеупомянутых писем) и воспоминаний современников, опубликовал А.Б. Шишкин (21). Однако его работы также не претендуют на исчерпание всего материала, относящегося к теме, содержащегося в письмах Зиновьевой-Аннибал и других корреспондентов. Богатый материал, относящийся к интересующей нам теме, собран в книге, основанной на докладах, произнесенных на научной конференции, посвященной столетию "Башни" (22).
Значительные фрагменты писем были опубликованы в связи с изучением жизни и творчества А. Блока (ЛН. Т. 92, кн. 3), М. Кузмина (23) и Вс. Мейерхольда (24). И все же, как нам представляется, в нашем распоряжении находится достаточно материала, нового для читателей и даже для исследователей, который мы решаемся предложить их вниманию.
Итак, в середине июня 1905 года Ивановы перебираются из Москвы в Петербург, живут там весьма укромно, определяя возможности для будущего существования. Через месяц после отъезда, 17 июля Зиновьева-Аннибал отправляет в Женеву открытку, где кратко фиксирует состояние дел: "Дорогие, скоро напишу письмо с некоторыми просветами в будущее наше. Но еще все не верно. В общих чертах все-таки: Вячеслав будет занят изданием книги (и, быть может, кстати напечатает и Берлинск<ую> диссертацию) не менее 5-ти месяцев. Затем неизвестно, будут ли существовать "Весы", т.к., кажется, Поляков женится. И неизвестно, что будет в России. Значит, ни Москва, ни Петерб<ург> ни даже Россия или заграница для нас не ясны" (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 19). Упомянутая здесь книга - конечно, "Эллинская религия страдающего бога" (возможно, под каким-либо измененным заглавием), переработанная, чтобы устранить следы спешки, и дополненная основательными примечаниями, над которыми Иванов работал долгое время, но так и не довел дело до конца. Перспективы сотрудничества с "Весами" выглядят по этому письму очень неопределенными, что не могло не сказаться на интенсивности сотрудничества Иванова с журналом: в 6-м номере он публикует статью и совместный с Зиновьевой-Аннибал обзор венских художественных выставок, в 7-м - краткий отклик на обидевшую его статью Андрея Белого "Химеры" и рецензию на стихи Метерлинка в переводе Г. Чулкова, а потом до конца года - ни единой строчки за своей подписью.
Это, конечно, вовсе не значило, что отношения с журналом были прерваны. Вовсе нет. Но то, что интенсивность их в значительной степени ослабела, а постепенно и едва стала теплиться, -- очевидно. Стало быть, должно было что-то случиться, что оправдало бы существование Иванова в России не менее основательно, чем ближайшее участие в главном символистской журнале. И таким делом стала "Башня", появившаяся сперва просто как несколько экзотическая квартира.
В письме, датирующемся по почтовому штемпелю 25 июля 1905 г., Зиновьева-Аннибал извещала дочь: "Мы наняли удивительную квартиру, которая хотя и имеет лишь 4 комнаты, но так поместительна, что вы все могли бы поместиться! Она находится на 6-м этаже в башне дома на углу Тверской и Таврической. Из ее окон кажется, что живешь в самом парке и расстилается весь город, и Нева, и дали, а внизу совсем крыша нашего бывшего домика. И все стены в ней полукруглые. С 25 июля поселимся в ней" (Карт. 24. Ед. хр. 24. Л. 33 об). А 1 августа над письмом к Замятниной уже появился точный новый адрес, который будет действовать до весны 1912 года (а для оставшейся в квартире Замятниной - и дольше): Таврическая 25/1 кв. 24
В этом письме читаем: "Уже 3-й день на новой квартире. Единственная квартира во всем Петербурге. Что-то дико фантастическое и прекрасное. 6-й этаж, из кухни ход на крышу и прогулка по крышам самого высокого дома города с видом на все четыре стороны города и боров в синих далях. Сама квартира: огромная передняя. Прямо вход в огромную, глубокую комнату, к концу ее обращающейся в свод и с единственным суживающимся кнаружи <так!> окном. Что-то готическое. Из нее вход в большую, составляющей <так!> круглый угол дома (Тверской и Таврической). Она разделена перегородками (стенками внутренними) на три комнаты, и они представляют странную форму благодаря башне. Все комнаты очень просторны.
Утро. Вчера, пока писала, Вячеслав разбирал у кладовой твою библиотеку. Больше половины отобрал себе. (Кстати, ты ни слова не пишешь о том, что я взяла твою мебель. Или тебе неприятно!? Мне же кажется, что в складе нечего платить. Выгоднее, чтобы стояла у нас, уже не говоря о радости иметь это общение с тобою, эту память первых дней нашей дорогой близости" (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 21об-23).
В тот же день Замятниной написал и Иванов, начертив план первоначальной квартиры (который мы воспроизвести не беремся):
1 Авг. <1905>
Маруся милая, целую. Пользуюсь и услаждаюсь Вашими depouilles. Обогащен добычей. Все говорит о Вас, -- точнее, говорит Вас. Сижу за вашим бюро у окна а, любуюсь отражением деревьев в зеленом озере Таврич<еского> парка. Прекрасное окно забрызгано дождем. Исаакий в светлой мгле. Что-то таит на своем дне Ваша чернильница? Ваша серебр<яная? истая?> ванна хранит орудия писателя. Ваша мягкая мебель украшает прекрасный полукруглый кабинет мой. О, вдохновительные виды на все стороны! От Лидии, из окон d и e раскрывается Россия будущего. Фабрики дымят на фоне боров. По Неве проходят пароходы. Но у меня больше Хариты, Дриады и Наяды, -- и храмы, но всюду великолепие монументального Петрограда. А Валерий пишет, что уходит и передает мне редакторство. Timeo Danaos. Вчера с Жуковским мы делали тур по крыше, вокруг нашего купола. Можно брать деньги за посещение Aussichtsthurm'а. Оба полукружия оклеены обоями цвета терракоты с веночками (empire). Это гармонирует с высокими коричневыми нишами. Все залило солнце. - Ваш Астролог.
Катерине Павловне нежный привет.
Детей-друзей целую.
В. (Карт. 9. Ед. хр. 33. Л. 30; план - на л. 30 об).
И еще раз, уже в конце месяца сам Иванов описал свою квартиру в письме к Брюсову: "Живем (вдвоем с Лидией Дмитриевной) на верху круглой башни над Таврическим парком с его лебединым озером. За парком, за Невой фантастический очерк всего Петербурга до крайних боров на горизонте. В сумеречный час, когда тебе пишу, ухают пушки, возвещая подъем воды в Неве, и ветер с моря, крутя вихрем желтые листья парка, стонет и стучится в мою башню" (ЛН. Т. 85. С. 479). Все это хорошо известно, описано краеведами (25), зарисовано и сфотографировано (26), зафиксировано мемуаристами, поэтому мы позволим себе далее на описаниях дома и квартиры Ивановых не останавливаться, заметив только, что жизнь там была далека от роскошной: по стенам проступала плесень, мебели (особенно на первых порах) не хватало, устраивать вечера приходилось часто вскладчину, и все держалось на энтузиазме хозяев и посетителей и на их артистизме.
Ивановы очутились в Петербурге в мертвый сезон, и это предоставило им некоторую свободу действий, они не должны были сразу входить в литературную жизнь столицы, и это дало возможность Иванову сперва выяснить свои отношения с "Весами". Дело в том, что в июле-августе Брюсов сообщал многим своим корреспондентам, что собирается отойти от дел, связанных с журналом. Иванов отвечал ему письмом, в котором упрекал его ни много ни мало - в дезертирстве (см.: ЛН. Т. 85. С. 477). Но из различных писем того времени становится ясным, что его самого далеко не устраивало возможное собственное положение среди авторов журнала. 1 августа он с обидой писал Брюсову: "Я похож на посвящаемого в мистерии: меня держат в потемках, и до меня долетают только отрывочные устрашающие и непонятные восклицания или шепоты…" (ЛН. Т. 85. С. 477). 9 августа Зиновьева-Аннибал пишет Замятниной об общих планах, но конкретизирует их в судьбе отношений с "Весами": "Но, конечно, наши собственные <планы> не вполне тверды, т.е. до Января не выясняется вполне, остаемся ли в России. Москва уже, во всяком случае, почти решена отрицательно. Там декаденты слишком бесстыдны, и "Весы" не манят, да и жизнь умственная для писателя как-то теснее" (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 27об-28). 15 августа речь заходит о более конкретном предложении и раздумьях по его поводу: "Из Москвы предложения Вячеславу в редакторы "Весов", одного отдела: Обществ<енных> настроений, русск<ой> журналистики, истории и искусств (кажется), с безапелляционным правом ведать весь этот отдел. Но и "Вопр<осы> Жизни" заманивают обещанием редакторства. Хотя существование "В<опросов> Ж<изни>" под <2 нрзб>. Жуковский истратился и, кроме того, слишком боится беллетристики декадентской, т<ак> что желал бы всякую беллетр<истику> исключить. Но Вяч<еслав> хочет твердо держаться Петербурга, хотя… ничего окончательно в волнах не видно" (Там же. Л. 33об-34).
Время от времени тема "Весов" еще будет появляться в переписке, но уже весьма эпизодически. После того, как в самом конце августа и начале сентября Иванов и Брюсов выяснили дальнейшую судьбу журнала, а особенно после того, как Брюсов вновь самовластно его возглавил, Иванов на какое-то время то ли вообще оставил мысль о близком участии в каком-либо журнале, то ли не высказывал ее письменно. Едва ли не последний раз Зиновьева-Аннибал упоминает о "Весах" 5 сентября: "Вячеслав будет вести автономно отдел совр<еменных> настроений и обзор всей русск<ой> журналистики в "Весах". Предлагает мне критику "В<опросов> Жизни". Боюсь, что не справлюсь, но до смерти хочется" (Там же. Л. 40 об).
Новое поприще вырисовалось почти случайно. 29 августа Иванов писал Брюсову: ""Умирание Любви" показал я <…> третьего дня собравшимся у меня знакомым. Были тут Жуковский, Булгаков - и очень хвалил стихи, Рощина-Инсарова, здешняя актриса и твоя поклонница" (ЛН. Т. 85. С. 479). Но в изложении Зиновьевой-Аннибал собрание знакомых превратилось в вечер, хотя и импровизированный. В тот же день, что Иванов Брюсову, она отправила открытку Замятниной, где сообщила: "У нас вышел в Суб<боту> импровизованный вечер: Нина привезла актрису (красивую и очень талантл<ивую>) Рощину-Инсарову (27). И вдруг пришли вес <так!> "Вопр<осы> Ж<изни>". Я два раза ставила самовар, но все вышло элегантно и уютно. У меня запас русск<ого> вина и вообще всего, так что иной раз по 10-ти дней не схожу с башни. Вчера были у Сологуба. Он ужасно изящен и умен" (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 56).
Трудно сказать, какими способами распространялся слух про только-только оформлявшийся новый центр художественных предприятий в Петербурге, но достаточно быстро Иванов стал получать разнообразные приглашения. 22 августа ему написал сейчас уже забытый актер и режиссер Н.Н. Вашкевич, о чем Зиновьева-Аннибыл тут же известила Замятнину: "Великая новость: "Кольца" в программе нового театра эмоций на эту зиму в Москве. Учредитель этого предприятия незнакомый: Вашкевич написал письмо Вячеславу, прося позволения назвать театр "Дионисово Действо", и сообщил, что они мечтают о культе, театре в духе Религии Диониса" (Там же. Л. 45; письмо Вашкевича - карт. 14. Ед. хр. 33). Ни в каким результатам этот обмен письмами не привел (28). Значительно серьезнее было предложение В.Э. Мейерхольда, зафиксированное Зиновьевой-Аннибал в письме от 5 сентября: "Вчера получили письмо от Мергольда <так!>, учиняющего в Москве "Театр Студию", театр идей, новый <так!> исканий и т.д. Зовет нас обоих в члены его бюро. Придется съездить в Москву на днях. Но только съездивши, можно решить, насколько верна и серьезна затея обоих этих новых театров" (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 38 об и 39 об). На тот момент и предприятие Мейерхольда выглядело рухнувшим, но оно впоследствии превратилось в одно из самых важных дел русского театра 1900-х годов - театр В.Ф. Коммиссаржевской.
Когда начались знаменитые башенные "Среды"? В воспоминаниях Вл. Пяста об этом сказано безапелляционно: "…я "не преминул" воспользоваться приглашением. И вместе с <…> философом В.Ф. Эрном был первым гостем на первой "среде", начавшей 2 или 3 сентября 1905 года серию "исторических" "сред" Вячеслава Иванова на его "башне"" (29). Однако 2 и 3 сентября 1905 года были отнюдь не средой, а пятницей и субботой. Да и в дневнике А.М. Ремизова (хотя он и включен в состав отчасти преображенного вымыслом повествования "Кукха", но, когда поддается проверке, ее безусловно выдерживает) под 21 сентября значится: "Среды у Вяч. Иванова. Из новых: Гершензон и Эрн" (30). Вместе с тем очевидно, что говоря про собрание 14 сентября: "…среда день наших приятелей" (ЛН. Т. 85. С. 485) Иванов несомненно имел в виду, что она уже не была первой. Таким образом, следует предположить, что первый jour fixe у Ивановых был 7 сентября. Действительно ли единственными приглашенными на нем были Пяст и Эрн? Пока что у нас нет материала для безоговорочного ответа.
Зато день 14 сентября (точнее, ночь с 14 на 15-е) получилась примечательной и потому описанной даже дважды. Иванов сделал это в письме к Брюсову, и поскольку продолжительный рассказ уже опубликован (см.: ЛН. Т. 85. С. 485-486), да к тому же ведется в таком выдержанно дипломатическом тоне, что мы предпочтем описание, сделанное Зиновьевой-Аннибал в письме к Замятниной от 15 сентября.
Как ошеломленная, упала на кушетку твою, Маруся, быть может, как упоенная сильными напрягающими впечатлениями дня. Бальмонт. Бальмонт свалился с неба в 11 ? вечера вчера на наше сборище! Бальмонт. Когда Вячеслав пошел на звонок открывать дверь и провозгласил в столовую, где сидели Сологуб, Ремизовы, Чулковы и молодой писатель со своеобразно и сильно намечающимся талантом, пришедший в первый раз, Осип Дымов ("Солнцеворот"), провозгласил: "Константин Бальмонт", я почувствовала нечто вроде судороги ужаса. Слишком было тяжело видеть, ощущать медленное закоченевание трупа в прошлую московскую весну. Вошел Он. Лицем <так!> возмужал как-то, даже почти похорошел, и Вячеслав с ним на ты. Оказывается, когда увидел его, то поцеловал и обратился на ты. "А я думал, ты меня ненавидишь", так они в радостной встрече побратались. С первого взгляда я увидела, что Бальмонт воскрес, но еще он был стеснен обществом, смутно враждебен, и все напряжение мое и В<ячеслава> было в уравновешивании всех подводно текущих самолюбий. Сологуб и Бальмонт казались себе врагами до сих пор, и действительно, первый тотчас встал и пересел от стола на твою кушетку к пальме и латании (в половине гостиной, а не столовой). Дымов читал новый рассказ (неудачный и довольно-таки длинный), а Бальмонт злился, то ко мне, то к Вяч<есла>ву приставал: зачем вы в Петерб<ур>ге? Неужели вам нравятся мертвые? И это вы так проводите все Среды: слушаете рассказы?
Кончился, однако, благополучно рассказ… Хотя успеха не имел. Нужно было выслушать четыре сказки Сологуба. А Бальмонт: "Неужели вы слушаете каждую Среду сказки? Я хочу с вами поговорить. Расскажите мне про себя. Или вы не живете!"
Прочитались, однако, благополучно сказки, божественно талантливы и юмористичны. Потом новые стихи Блока. Не понравились. Потом новые стихи Брюсова - понравились. Читал Чулков, в карманах коего всегда редакционные рукописи (31). Бальмонт то уводил меня в комнату рядом и все упрекал, то Вячеслава. Его умоляли читать стихи. Не желал. Все трусили и благоговели и меня умоляли умолить. Наконец началось: вынул Бальмонт бумажку из бокового кармана и прочитал дивно легкое, свирельное стихотворение Брюсова с припевом "тралала!" (32). Брюсов сам нам его читал в Москве, но у Бальмонта оно нам впервые понравилось и это были первые ритмы, погнавшие за собой целый прибой и примирившие все апетиты <так!> и самолюбия. Бальм<онт> стал очаровательно любезен, хвалил с тактом, и все расцвели. Бальмонт читал и читал. Его чтение новое, его стихи новые, лице новое, душа новая, Бальмонт умер и воскрес. Он большой и живет. Глубоко счастливы мы оба. Сидели после последних гостей мы втроем или "с вами вдвоем", как выражался радостно наш преобразившийся, возродившийся друг. Бальмонт пил вино и не пьянел. Сидел до 5 ? утра и ушел трезвый, радостно вдохновенный, нежный, страстный, и при этом корректный и порядочный. Тронула нас глубоко его верность. С В<ячеславом> он как брат. Со мною нежен, ласков, как было так мало часов между нами в Москве. Весь вечер почти (при гостях еще) сидел со мной, говорил: "Как в угаре кажутся мне воспоминания московские". Я говорю: "Я имею прекрасные: имею наше первое знакомство, вечер в Больш<ом> Моск<овском>" Бальмонт страшно волнуется, боится очевидно, что я сердита за ту знаменитую поездку с ним после "Грифа", и говорит: "О, но там, в ту ночь… это было ужасно…" Я: "Ведь я говорю о Большом Московском, до выхода. А потом помните, как мы с вами проводили Страстную Субботу, встречали Пасху". Он: "Это навсегда радостное воспоминание, и глубоко запомнилось!" -- Таким образом вычеркнули все дурное из прошлого, и стало легко. Мне вчера было еще одно радостно: я вижу, что по-прежнему как-то сильно действую на Бальмонта как женщина. И с ним это как-то хорошо и чисто, несмотря на его страстность и на странные слова, которые он нам говорил и вчера: "Я в Москве имел план…" Но не передаю, так не выйдет в письме… Мы не заснули с В<ячеславом> до 7-ми утра. А сегодня он был опять с 2-5. Завтракал: я ему яичницу сделала, стакан подала и груздей (<…>). Опять пил степенно вино. (Ведь первая капля отравляла в Москве) Читал стихи, говорил жарко и близко. Воскрес, воскрес. И такие стихи проникновенные, глубокие, то трагические истинно, то истинно стихийно лирические, то зло бичующие сатирой.
И верится снова, что он велик, что гениален, что священен сосуд, его носящий, и хочется обнять его и целовать бережно и свято. <…> Теперь В<ячеслав> ушел проводить Бальм<онта> на вокзал (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 51-54 об).
Из рассказа Иванова мы узнаем, что сам Бальмонт читал стихи детские, сатирические и из сферы "старого лиризма", а также о том, что перед прощанием на вокзале признался: ""Ты бы меня не встретил так, если бы знал, что недавно в письме к Валерию я тебя уничтожил в трех строчках"… Дальше - цитата, из которой мне запомнились выражения: "аптекарские весы" и "медоточивый дистиллятор"". Это добавляет некоторые краски к описанию Зиновьевой-Аннибал, но не может, как кажется, отменить главного: неразрывной связи Бальмонта с "Москвой", с теми переживаниями, которые были столь противоречивы, что в конце концов привели к разрыву с "московским" символизмом (33).
Следующее собрание (условно - третье) состоялось 21-22 сентября. Вот его описание, сделанное Зиновьевой-Аннибал:
Ну, вчера была содержательная Середа: 12 чел<овек>. Мережковские, Сологуб, поэт молодой студент Пестовский -- Пяст ("В<опросы> Ж<изни>"), Ремизов, Чулков, Эрн (божественный), Карташев, проф<ессор> дух<овной> акад<емии>, молодой, писатель, горящий деятель, тонкий, симпат<ичный>, редактор новой еженед<ельной> газеты, скоро основывающейся, куда В<ячеслав> послал по его просьбе стихи (34), Анастасия Чеботаревская (критик "Правды" и сотрудница "Русского Богатства" (35)) и ее приятель, московский литератор, критик и историк литературы Гершензон, Щеголев, филолог, видная личность, журналист ("Наша жизнь" (36)), монографист, Философов. Собрание было интересно по высоте тона и тэм бесед, по разнопартийности, централизованной нами, и потому что четверо из этих лиц были у нас впервые и по своему почину. Тон собраний устанавливается изящно-богемный благодаря странности, безумия квартиры, неожиданной красоте вида, изящности трех комнат башни и странного готического, просторного "мансарда" <так!> с низким потолком, где столовая в части у двери из прихожей, и зало - в глубине с финиковой пальмой (довольно большой), латанией и лавром, с освещением 2-х бронзовых канделябров (бабушкины) 6-ти свечные и твоей лампы на скульптурной бронзовой ножке под твоим зеленым <…> тем абажуром на твоем высоком консоле (37). Удается, кажется, против обычая холодного, неритмического Петерб<урга> завести обычай чтения стихов. Пяст, застенчивый, почтительный, красивый, как будто со сдерживаемым пламенем человек читал наизусть прелестно (нечто между поэтического и актерского чтения) стихи Бальм<онта>, Белого, Сологуба и Вяч. Иванова и свои, где чувствуется стиль и желание что-то сказать из глубины. Вячеслав за чаем занимал остроумными схемами (Дон Ких<от> и Гамлет (38)) Зиночку и Философова, и к ним примыкал верх стола, где у самовара Анюта, представленная гостям, разливала чай, а внизу сидела я, Дм<итрий> Серг<еевич>, Карташев, братишка дорогой Володя Эрн (глядящий ежеминутно на меня любовно-братскими глубокими очами), Гершензон… Я занималась тем, что била метко по Мережковскому, и Дм<итрий> Серг<еевич> потел, думаю. Я была воистину в ударе, и Вячеслав вечером и утром пел дифирамб моей "гениальности". Нас в доме так уважают (дай Бог не сглазить), что без нашей просьбы швейцар держит электричество до 3, когда ушел последний гость Щеголев. <…>
В "Нашей Жизни" была статья сегодня о театре-"Студии" Мейергольда, где мы члены бюро и в программе поставлен "Тантал" (39). Вячеслав был болен influenza. Лежал воскр<есенье> и понед<ельник>, а во вторник уже вдруг все наши узнали, и были, Сологуб с В<асильевского> О<строва> узнавать о здоровии (сидел долго), Эрн, Чулков, который потащил сейчас новое стихотв<орение>, написанное накануне Вяч<есла>вом "Тихая Воля" (вдохновение на мечту о земельном коллективизме), чтобы если еще поспеет, втиснуть в "В<опросы> Ж<изни>" (40).
Вот вышло солнышко, истинной улыбкой зажгло терракотовые обои кабинета, а то все было пасмурно, но не у нас. А "Искусство", неодекадентский новоявленный журнал ругает меня и Вячеслава…(41).
А Гиппиус вчера мне сказала: "Я никогда не уехала бы с вашей квартиры". (Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 57об-60об).
Некоторое дополнение мы находим в воспоминаниях Пяста: "Была еще такая "среда", в самом начале сезона, когда в присутствии большого количества наиболее избранных гостей я решил, как бы сказать, "поднести" каждому из бывших там поэтов -- "самого его". Я произнес по нескольку стихотворений каждого. Присутствовавшие поэты одобрили. На некоторых впечатление было произведено сильное. Дамы, вроде Анненковой Бернар, отдавая должное эмоциональной стороне, начали говорить, однако, что-то о технических недочетах…" (42).
Повествование о следующих двух Средах - 28 сентября и 5 октября содержится в одном письме, которое для удобства чтения следует разделить на две части. Дело в том, что Среды эти вышли совершенно различными по своему характеру: если первая (четвертая) по-прежнему была ориентирована на тесный круг единомышленников, то вторая (пятая) послужила началом неожиданного кратковременного соединения в одном кругу "модернистов" и "реалистов". Но пока что представим описание первой из этих двух сред, сделанное в письме от 12 октября, накануне следующего собрания.
Вячеслав все болен. Какие-то лихорадки, какие-то невралгии. А Петербург весь в гнилом сумраке. Мороза еще не было. Вяч<еслав> то в постеле <так!> проваляется, то побродит по комнатам. Но после похорон Писарева не выпускала (43). Он на них и простудился. Мы выехали тогда в 11 ? утра и протолкались по визитам (были даже у архимандрита, цензора "Вопр<осов> жизни", и плавали у него в сиропе сладчайших любезностей, кончившихся обещанием все пропускать, что бы мы ни написали), не евши до 8 ? вечера, когда я забежала в лавку купила баранины, в одно мгновение растопила плиту и сжарила. Каша была готова с утра. И к 9-ти мы уже сидели за столом и обедали. Но расскажу тебе о Средах. На позапрошлой было собрание небольшое: Розанов с падчерицей (44), Ремизовы, Дымов. Розанов был в ударе и свежо рассказывал анекдоты из области любовных переживаний его супруги… (45) Но ушли около часу. Тогда остальные и мы сели за спирит<ический> сеанс (Дымов объявил себя новоявленным медиумом). Но ничего не вышло. Потом я поставила еще раз самовар, и пили вторично чай, вели чисто профессиональные беседы, со сплетнями, полезно для опыта, но тоскливо. Дымов набросал наши карикатуры. Вячеслава старым носатым с острыми сверлящими глазами… Меня ужасной волчицей с оскаленной огромной челюстью и большими белками, в которых остро торчит маленький зрачок. Похоже, но кошмарно, и вечер навел на нас (ушли в 3) тоску подавляющую. Очень неприятный человек Ремизов. Вечный фигляр, врун такой, что ничему нельзя верить. Умен и зол на язык… головокружительно! А жена его (46) великая корова, подруга Гиппиус, глуповата, недобра, фанатична и самовлюблен<н>а. Разговаривает только о себе и улыбается сладкой нелепой во всю расплывшуюся розовую харю - улыбкой (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 5-6) (47)..
После похорон М.А. Писарева и состоялась договоренность относительно Среды, посвященной "реалистам". Характерно, что посредницами выступили сестры Чеботаревские - это освещает их роль как своего рода промежуточных фигур между двумя литературными лагерями, временами казавшимися непримиримыми. Однако нельзя не присоединиться к А.Б. Шишкину, обратившему особое внимание на слова Зиновьевой-Аннибал о том, что "душно, душно, душно в кружке", и увидевшему в двух "реалистических" собраниях вполне определенное проявление устремлений Ивановых "из уединения к соборности" (48). Другое дело, что, видимо, именно эти совместные собрания и некоторые последующие помогли Ивановым лучше понять, что "реалисты" представляют собою не единый кружок, где все авторы и произведения имеют одинаковую или примерно одинаковую ценность, а весьма сложное образование, в котором Горький, Леонид Андреев или Бунин стоят неизмеримо выше Арцыбашева, Ан. Каменского и Скитальца. Именно это обстоятельство заставило Иванова неоднократно писать об Андрееве, включать произведения Бунина в сборник "Факелы", а с Горьким длить отношения на протяжении весьма значительного времени (49). Итак, вот описание первой "реалистической" Среды 5 октября, на которой читался и обсуждался рассказ М.П. Арцыбашева "Тени утра":
Тут же подошла Настя и Ал<ександра> Ник<олаевна> Чеботар<евские> и попросили позволения кружку "Реалистов" (Юшкевич, Арцыбашев, Скиталец, Башкин и пр. и пр.) собраться в Среду у нас!! для прочтения Арцыбашевым своей новой повести. Вот чудеса-то! Наши враги и ругатели протягивают руку! Мы рады, потому что душно, душно, душно в кружке. И вот Среда - монстр! Анютина сестра вздумала рожать, и я одна! Да еще весь день гости: Жуковский наш милый только что вернулся с юга, и Генр<иетта> Егоровна Пабст откуда-то трогательно свалилась между двумя далекими поездками. Ну, что делать! Вячеслав "декоратором" устраивал комнаты, 1-ую и 2-ую. Я бегала покупать ситники и колбасы. Затопила плиту, поставила куб и намазала 80 бутербротов <так!>. Затем начали приходить. Была и Оленька Бел<яевская> (А Юльки нет. Она переехала на Пески с мужем, но не является. Верю, им обоим стыдно. Оба они бездельники и развратники в конце концов прежде, нежели люди). Оленька хотя и вела себя богоделкой <так!> и на всех фыркала, но помогла мне разлить первый залп чаю. Потом пошло с помощью Шуры, брата Анюты, героя дня, бастовавшего "политически" наборщика. Первыми пришли Скиталец и Юшкевич. Тотчас завязали разговор о взаимном недоверии и нужде примириться. Юшкевич кажется неглуп, и речист задорно и бестолково. Скиталец верзила, ломающий руки, славный , крестьянином молчалив. Потом привалило еще всяких в блузах, в армяках, в сапожищах. Пришли и наши: Чулков, Ремизов, Жуковский, Сологуб. Были Скирмунт (милейший), Овсянико-Куликовский. Арцыбашев глух и безголосен. За него читал бас - Жилкин. 30 человек всего. Уместились незаметно, т<ак> что комната была еще пустая посреди. Чтение длилось долго. После чтения Вячеслав настоял на организованных прениях (Впервые в их кружке, где, по признанию Чеботар<евских>, было всегда грубо и скучно). Юшкевич председательствовал шумно и эгоистически, но все же многим удалось высказаться. Были с их стороны резкие нападения на рассказ: история падения (с откров<енной> порнографией), самоубийство и неудачное террорист<ическое> покушение - каких-то бессильных к вере и к действию, но вожделеющих к лучшему личностей. Овсян<ико-> Кул<иковский> нашел автора пессимистом, и сказал, что он сам, хотя и не пессемист <так!>, но любит, когда художество рисует жизнь с пессем<истических> высот. Вяч<еслав> поразительно хорошо говорил. Он сказал, что, не вдаваясь в то, верно ли автор изобразил молодежь и современное движение объективно, -- субъективно автор их изобразил гамлетами, долженствующими свершить подвиги Дон Кихотов, но не могущих и гибнущих за недостатком веры, и что они подходят близко к богоисканию… здесь Вяч<еслав> стал говорить о богоискании, боготворчестве, и вне всяких форм даже, присущей <так!> духу чел<овека>, и умно выставил программу внутреннюю "Вопр<осов> Жизни". До этого "божественного" момента всё слушало, открывши рты. Но здесь вдруг, как при речи ап<остола> Павла Эллинам, в момент провозглашения о Воскр<есении> Христа, все перестали слушать и поднялся спор. Юшкевич глупо подтасовал слова Вячесл<ава> и стал вдруг на защиту движений соврем<енных>. Многие стали защищать Вячеслава, и появились умные люди. Стало очень интересно. Вячеслав приставал ко мне, чтобы я говорила. Я еще ждала. Кто защищал молодежь, кто говорил, что герои страдают оттого, что ушли с лона природы, кто обвинял автора за приставленность "бомб", не вытекающих органически из повести. "Отчего бомбы, отчего не дыни ?". Наконец я спросила, можно ли мне говорить. И, получив разрешение, при гробовом молчании сказала медленно и очень отчетливо: "Я хотела возразить против мнения Дмитрия Николаевич<а> (Овсяник<о>-Кул<иковский>, очень меня не любящий за Дарью Михайловну, и очень глупый, позитивист a outrance). Он сказал, что автор трактует мир с высот пессемизма. Я же думаю, что пессемизм действительно находится на высоте и с высоты мерит жизнь, осуждает жизнь и отвергает ее, как власть имеющий, но автор "Теней Утра" ни на какие высоты не взбирался. Он просто с большим терпением и очень длинно рассказал нам несколько эпизодических приключений из жизни нескольки<х> бессильных душ!" Вот и все. И длилось гробовое молчание. Потом все встали. Принялись за пиво и вино. А потом мне сказала Анаст<асия> Ник<олаевна>, что поэт Башкин (задорн<о> обругавший "Сев<ерные> Цв<еты>" и "Тантала" неприлично, но приславший Вячеславу свой сборничек для отзыва!) сказал: "Самое значительное, что было сказано, сказала г-жа Иванова". Не то чтобы значительно, но, как говорит Вячеслав, "вершительно", как крышкою захлопнуло повесть и все дальнейшие толкования ее.
Поднялись беседы жаркие и веселые, все расхрабрились. Чай приносился подносами из кухни мною и Шуркой. Выпили 5 бут<ылок> вина и 3 пива, съели 70 тартинок! И уходя в 2 часа, были довольны, и Скиталец, ломая руку мою, спросил: "Всегда у вас так весело?", а я: "Это вы все принесли такое оживление". Все собирались еще заходить по Средам. Скиталец принесет стихов. Не сам ли Максим приидет? Чеботаревские, Ремизов (все-таки совсем свой брат), Скирмунт и Шура остались до 3-х. Утром было дружно…(Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 7-11об) (50).
По этому письму мы вполне можем себе представить противостоящие лагери: со стороны "модернистов" были Г.И. Чулков, А.М. Ремизов, Д.Е. Жуковский, Ф. Сологуб и сами Ивановы; со стороны "реалистов" -- М.П. Арцыбашев, Скиталец, С.Юшкевич, В.В. Башкин, издатель С.А. Скирмунт, литературовед Д.Н. Овсянико-Куликовский и публицист И.В. Жилкин, сестры Чеботаревские. Хотя это примерно половина всех присутствовавших, все же представление об этом собрании составить можно. Доминировали на нем явно "реалисты", поскольку, судя по рассказу, аргументы Иванова от "программы "Вопросов жизни"" оказались мало приспособленными к восприятию собравшихся, и разговор перешел на жизненную реальность, отразившуюся в повести. Именно поэтому реплика Зиновьевой-Аннибал, открыто провозгласившей автора натуралистом, была воспринята как окончательное решение, после которого споры уже бессмысленны.
О Средах 12 и 19 октября мы знаем только по кратким дневниковым записям Ремизова. Для сегодняшнего читателя эти даты малозаметны, но достаточно вспомнить, что 13 октября началась всеобщая забастовка, а 17-го был подписан знаменитый манифест, чтобы понять нерв этих собраний, - политические новости. О первом (шестом) собрании Ремизов записал: "Коновод Аничков. И бесчисленное количество новых. Разговор о событиях. Еще бы!"; о втором (седьмом): "Новые: два старца - В.С. Миролюбов ("Журнал для Всех") и И.И. Ясинский ("Беседа"). Это будут повыше Юшкевича со Скитальцем. И Арцыбашев" (51).
26 октября (восьмая среда) известна нам лишь по "анонсу" в письме Зиновьевой-Аннибал к Замятниной: "В<ячеслав> тоже заболел вчера крапивкой и страшным бронхитом, а сегодня Среда! и будут Минские, твои мерзавцы филистеры Котляревские (консерваторы: прот<ив> всеобщего голосования) и т.п. <1 нрзб> люди" (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 19; крапивка - крапивная лихорадка, т.е. аллергия). Далеко не исключено, что из-за болезни Иванова она и не состоялась.
В среду 9 ноября Зиновьева-Аннибал подробно описала встречу, бывшую неделю назад, т.е. в ночь со 2 на 3 ноября. Из письма не очень ясно, что же такого экстраординарного произошло, что послужило причиной столь серьезной размолвки между двумя группами писателей, после которой, судя по всему, попытки свести их воедино практически сошли на нет. На этом вечере читался прославленный впоследствии рассказ А.П. Каменского "Четыре". Так как сам автор читать отказался, то его обязанности выполнял Вл. Пяст и оставил об этом выразительные воспоминания, к которым и отсылаем читателей (52). Помнящим этот рассказ (или небольшую повесть) и представляющим себе границы дозволенных в начале века описаний чувственной любви должно быть понятно, что именно вызвало такой глубокий кризис. После этого вступления перейдем к письму Зиновьевой-Аннибал:
После того вечера с чтением описанного мною в старом прилагаемом письме, было еще такое же собрание "кружка литературы". Читал молодой автор Каменский. Что-то есть в рассказе, но чисто внешнее. Вечер был тем интересен, что соединил действительно несоединимое. Были с этими "реалистами" Арцебашевым <так!> и К? Мережковский с Зиночкой, Розанов, Сологуб, Философов, Максим Белинский (это уж их) (53), Миролюбов ("Журнал для Всех"), Чулков, Ремизов, Жуковский, Бердяев, словом, весь литер<атурный> Петербург, исключая Горького, Андреева, но москвич и Куприна. Ведь Каменский из "Мира Божия". Но в результате оказалось, что невозможно дружеское собеседование даже на почве литературы. Мережковский всех напугал и обидел резкою критикою против пошлости и безнравственности самой темы (54). Я же сказала, что нет пошлых тэм, есть только художественная и антихудожественная трактовка. Художественность всякую тэму утончает до проницаемости глазу за нее. И некоторую художественность в рассказе я вижу. Но Мережковского нельзя больше обидеть, как восхвалив искусство. Бедный, чего мы уже не можем - то мы презираем. Мне возражал Карташев (прелестная, тонкая, но мучительно боящаяся в поисках себя поэтическая душа. Он боится формы, боится, что поклонение ей не свято. Розанов, все время злившийся на то, что читают вообще, а не разговаривают, с рассказа перевел обвинение на автора и заявил, что он просто неопытный и неудачливый ловелас. А Вячеслав председателем был выбран и потому говорил последним, сказал, что автор пытался изобразить одну из разновидностей Дон Жуана. Но не могу описать ничего сносно. Скучно все это. Скучны и почти бездарны "реалисты". Невыносимо постыдны наши буржуйные идеалисты в своих удобных вуаяжах с Куковским билетом за Богом. Ах, опротивели мне все. Одну минуту я верила в чудо. Теперь вижу впереди серую конституцию и пошлое политиканство. Еще безумно хватаюсь за С.Д. и их армию. У них есть одно, чего ни у кого нет. (55) Свобода от собственности, от государства даже. Если они и кричат о матерьялизме, то это не правда, это 1) оттого, что они должны все силы собрать для земной борьбы за земную жизнь, и 2) оттого, что мерзость политической религии с нагайкой и гнусным буржуем слишком оскорбила душу истинного человека.
Среды наши тянутся своим чередом. А вот "Вопросы Жизни" умирают (56). Нужно изыскать капитал от 10 до 30 тысяч. Пораскинь умом. Сибирякова?? Думаю, завтра придется нам ехать в Москву к Андреевой, но ожидаем известия, там ли она (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 15об-18) (57).
Итак, положение Ивановых казалось весьма критическим: "Весы" практически отпали; "Вопросы жизни" были на грани закрытия (а к концу ноября и вообще было решено, что они закроются), контакта с "реалистами" (а значит, и с финансово мощным товариществом "Знание") не получилось. Но почти сразу же по возвращении из Москвы выяснилось, что открываются (несмотря на очень тяжелое политическое положение) новые возможности. Главной для Ивановых казались "Факелы".
История этого предприятия уже была несколько раз изложена, поэтому ограничимся лишь сообщением малоизвестных подробностей. После того, как определилось, что "Вопросы жизни" прекращаются, Г.И. Чулков оказывался без заработка, и именно его энергия стала стимулом для всех движений (как писал Ремизов, "это все Г.И. Чулков мудрует" (58). Сперва он задумал сборник под названием "Огни", но замысел довольно быстро трансформировался в план издания журнала и организации театра под одинаковым названием "Факелы". 2 декабря Зиновьева-Аннибал сообщала Замятниной: "Итак <…> образовался новый журнал с ближ<айшим> участием Леон<ида> Андреева: "Факелы". О редакции и участии Вячеслава еще не говорю, ибо идут большие препирательства и борьба на этой почве. <…> В понедельник было собрание "Факельщиков" у нас (писала). Были и художники Сомов и Лансере (Бакст и Бенуа за границей). (Причем только что узнали, что Сомов хочет почему-то писать мой портрет. Не знаю, несколько серьезно). Были Бунин, драматург Рафалович, "Река Идет", Осип Дымов, пол<ит>эк<оном> и поэт Габрилович (Галич), Сологуб, Чулков и еще кое-кто, человек 15. Сошло очень оживленно, прения были интересны. Вяч<еслав> пытался никого не обидеть и производил "Факелы" от трех родоначальников: Декадентов, "Знания" и "Мира Искусства". Идея анархического журнала и его profession de foi составлена ловко Чулковым на почве идей "Кризиса Индивидуализма"" (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 28 и об).
Имена Леонида Андреева и Бунина явно должны были привлечь внимание "Знания", почему Иванов так и выстроил свою речь. А анархические идеи, пусть и в мистическом преломлении, должны были, согласно "левым" трактовкам Чулкова, соответствовать настроениям момента - напомним, накануне московского декабрьского восстания. Об этом вполне отчетливо говорит продолжение того же письма Зиновьевой-Аннибал, которое писалось очень долго. Фрагмент, который мы процитируем более полно, чем уже использовавшая его Ю.Е. Галанина, был написан 4 декабря:
Сегодня был Белый. Все эти вечера Вяч<еслав> возвращается к 2-м часам ночи, потом беседует до 4-х. Он закручен вихрями рождения "Факелов" и умирания "Вопр<осов> Ж<изни>". (Я больна и не выхожу). Был и Чулков сегодня по моей просьбе, чтобы при моем посредничестве окончательно сговориться. Вячеслава нужно было уладить с ним. Кажется, сговорились на том, что 1) Вяч<еслав> и Мейерхольд получают редакторство Театрального отдела, что несказанно важно, т.к. помимо рецензий есть и свой театр Факелы, и Вячесл<ав> может наконец не только развивать свои программы возрождения театра, но и учиться практикой, как нужно и как не нужно писать драмы самому. Кроме того, Вяч<еслав> 2) в коллект<ивной> редакции и 3) соредактор с Габриловичем философского отдела. Еще Чулков просит помогать ему приготовлять и судить рукописи по беллетристике, и за эти функции 100 р. в месяц, кроме гонорара за статьи и рецензии. Кроме того, Чулков, кот<орый> настаивает твердо на своем юридическом диктаторстве в беллетристич<еском> отделе согласен дружески подчиняться veto Вячеслава и в этом отделе в случае принципьяльного несогласия, это уже по дружбе и всецело между ними двумя, а вообще у каждого редактора есть право останавливать своим veto любую статью в любом отделе и доводить до суда собрания редакционного совета. На таких основаниях можно работать с чувством, что журнал действительно свой. И он так свеж и так широк своей духовно-анархической, а в политике соцьялистической программой! (Там же. Л. 31-32).
Еще более радикальным выглядел фрагмент, написанный на следующий день, 5 декабря.
Теперь совершается великая переоценка ценностей. Горький сказал кому-то мудрое слово про себя, Андреева, Куприна и пр.: "Все мы пойдем насмарку. Будет другая литература, не буржуазная, а пролетарская душою. Новый писатель родится для родившегося нового читателя, и еще останутся крупнейшие из декадентов". Душа меняется, и всякое действие, и всякий уклад жизни кидаешь на весы и говоришь: что это, жизнь свободного человека (пролетария), или жизнь позорного раба буржуя? И есть буржуа по доходам, но еще больше буржуа по качественным расходам. Все, утверждаю, все буржуа по расходам. Я это узнала теперь. И недаром моя дикая, вольнолюбивая душа с таким отвращением входила в уклад вашего уюта, который развратил Вячеслава и Веру. Потому что было что-то вольное в них обоих до Villa Java - тюрьмы душам. Вячеслав неузнаваем, даже походка изменилась, ступает легко, как на цыпочках, за все благодарен, часто не обедает даже, когда устанем и поздно вернемся. Попьет чаю, поблагодарит Бога и радостно идет работать на ночь. Есть что-то неуловимое, несказанное, что улегчает душу, освобождает тело в отметании старого человека. О, все мое детство, вся моя молодость теперь осуществляется (Там же. Л. 34об-35 об).
Конечно, утопичность всех этих проектов и размышления была довольно очевидной. Пролетарская литература, вопреки Горькому, а тем более символистам (которые тоже в какие-то моменты были готовы ее поддержать), вовсе же желала отметать ветхого человека, а вполне была готова принять рамки литературы прежней. Переоценки ценностей также не свершилось, потому что практически все возможности как литературы модернизма, так и литературы реализма к тому времени были уже реализованы, оставалось только развивать их. Но сама утопичность также была привлекательна, особенно если сулила постоянный рост известности и влияния. Не зря Зиновьева-Аннибал так быстро переключилась на эту тему:
О нас скажу так: Вячеслав действительно (это видно по отношению к нему людей) становится во все более широких кругах известностью. К нему большое уважение. Даже Буренин ругал с уважением. Ругали вообще несчетно и с пеной у рта. Но узнавали от других и у других, наскоро прочитывали. А в союз писателей его неожиданно вводят Анненский (59) и Семевский !! Вчера у Розанова его окружили, слушали, уже разнесся слух (60), что он и Брюсов будут вести какой-то "политический" театр (61) (кстати, "Весы", слава Богу, оставлены в стороне). Словом, лучшие люди всех направлений за ним следят. В "Русск<ом> Богатстве" упрекали "Вопр<осы> Ж<изни>" за то, что не Вяч<еслав> во главе лит<ературного> отдела… (62) Напротив, мое положение очень опасно. Я выступила с тяжелой артиллерией, вся моя личность вольно-невольно имеет вид какой-то (говорят) вызывающий серьезностью, строгостью, парадоксами и злыми нападками. Но мою драму никто не читал, мои статьи пугают теми же свойствами, как моя личность, мои "Тени Сна" не могут подвергнуться осмеянию. И это все злит всех и все ждут. Я должна или сейчас же сделать что-нибудь очень крупное, не в пример другим "талантливым беллетристам" с их легкими красотами рассказов, или скажут: "Ну конечно, все это была ошибка, просто одна дутая наглость" (Там же. Л. 36-37).
Вопрос о "Факелах" еще не раз будет обсуждаться в публикуемых письмах, но не менее, а, пожалуй, и более существенным для Иванова оказалось другое предприятие, возникавшее и определявшееся в те же самые дни. Первое известие, которое нам удалось о нем обнаружить, относится к середине октября, когда художник Н.Я. Тароватый писал К.А. Сюннербергу (Конст. Эрбергу): ""Искусство" как таковое более не существует, и вышедший 8-ой номер является последним. Но из "Искусства" возник новый журнал "Золотое Руно", каковой предполагается выпускать ежемесячно, начиная с января 1906 г. Состав сотрудников, за немногими добавлениями, как Вы увидите из прилагаемого проспекта, тот же, что и в "Искусстве", я же приглашен заведовать в нем художественным отделом" (63). Но политические события затормозили активность будущего издателя и его сотрудников, и следующее известие, дошедшее до нас, относится к 30 ноября, когда Ремизов записал в дневнике: "Собрание "Золотого Руна". С.А. Соколов-Кречетов ("Гриф"), Тароватый ("Искусство") - это главные. А проч. - Блок, Сологуб, Мережковский, Кондратьев, Дымов и Бакст. Издатель же Н.П. Рябушинский, но его не было" (64).
В тот же день Соколов и Тароватый были отдельно и у Иванова. 5 декабря все в том же длинном дневниковом письме Зиновьева-Аннибал так описала этот визит и его последствия:
1 ч. дня. Вяч<еслав> встал, выпив в постели кофе, проглядев газеты, прослушав ваше письмо и мое к вам, над которым расплакался. Сейчас поставила самовар твой, Маруся, попьем чаю с чайн<ой> колбасой и - на почтамт. А пишу, чтобы рассказать о "Зол<отом> Руне". Приезжал Гриф и Тароватый к Вяч<есла>ву приглашать его сотрудничать в нов<ом> затеваемом каким-то миллионером (65) журнале вроде "Мира Искусст<ва>", но еще роскошнее, по-русски и по-французски, обещая Вяч<есла>ву прекрасную плату за статьи и стихи. Заманивал. Интересно, что этот Гриф в "Искусстве" обругал "Тантала" (как и мои "Тени Сна"). Из-за этой критики на "Тантала" Андрей Белый (считающий "Тантала" высшим произведением декадентства) послал письмо в "Весы" о своем выходе из "Искусства" на основании того, что обругал "Тантала". Тогда Гриф вызвал его на дуэль! если письмо будет напечатано. Белый не напечатал, но вышел из сотрудников. В письме было сказано, что Андр<ей> Бел<ый> сам находит, что "Тант<ал>" высокое произведение, но что все декад<ентские> органы должны относиться к нему прямо с благоговением, т.к. это самое высшее произвед<ение>, которое предоставила новая школа.
Узнал все это Вяч<еслав> в Москве и поэтому ответил Грифу вопросом, будет ли Белый сотрудничать у них (Гриф и Таров<атый>, бывшие ред<актор> и изд<атель> "Искусства" - теперь оба единственные редакторы "Зол<отого> Руна") и на их ответ, что они его ценят и рады были бы, но приглашать сами не могут по личным причинам. [и на отрицат<ельный> ответ объявил, что не может сотрудничать, если и Белый не в числе сотрудников.] Но Вяч<еслав> обусловил свое участие его участием. Для этого с Грифом послано было в Москву письмо Вяч<еслава>ва и Мережк<овско>ва <так!> Белому с убеждением присоединиться к "Зол<отому> Руну" как к новому самостоят<ельному> журналу. Тем временем Белый оказался в Петерб<урге> и по совету Вяч<еслава> и Мер<ежковского> послал телеграмму Грифу, что высылает статью. Вяч<еслав> в свою очередь заявил телеграммой о своем оконч<ательном> присоединении к "Руну".
Так<им> обр<азом>, "Искусство", зан<имавшее> вражд<ебное> положение по отн<ошению> к Вяч<еславу>, капитулировало. Ко мне держатся (не пригласив). Я оч<ень> вражд<ебно> держала себя в Москве относ<ительно> Грифа и его жены -- неприличной женщины Нины Петровской (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 38-39 об).
Не задерживаясь особенно на истории с письмом Белого (66), отметим, что письма, уговаривающие его все-таки войти в число сотрудников "Золотого руна" были действительно написаны как Мережковским (67), так и Ивановым (фрагменты - ЛН. Т. 85. С. 489), и этот шаг уже свидетельствует о том, какое важное место будет занимать Иванов во всей истории этого важного для истории русской литературы журнала.
О Средах этого времени мы знаем только то, что бегло сообщила все в том же письме (во фрагменте, написанном 2 декабря) Зиновьева-Аннибал: "Затем Среды две после Москвы, прошли приятно. На первой были Розанов и несколько поэтов, читались стихи. Интересен был длинный диспут Роз<анова> с Борисовым (68) о поле" (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 29). Таким образом устанавливаются их даты (23 и 30 ноября), но практически ничего не удается узнать об их содержании.
Зато Среда 7 декабря оказалась едва ли не самой популярной в современной литературе о "Башне". Текст письма Замятниной был в значительной части опубликован (ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 233), а потом А.Б. Шишкин (добавив еще несколько фрагментов, купированных "Литературным наследством") рассмотрел именно эту ночную беседу как едва ли не архетипический образец всех вообще башенных Сред. Однако в нашем контексте представляется, указав на важность события (осознанную, видимо, и самой Зиновьевой-Аннибал), дать ее текст полностью и с небольшими коррективами. Сперва, однако, приведем ту часть письма, которая была написана ранее, вечером 9 декабря, поскольку она касается судьбы "Факелов": "Чулков и Вяч<еслав> поехали в союз писателей (но полиция охраняла закрытые двери и не пускала), оттуда в совещание "Факелов". "Факелы" будут, увы, немножко слишком, кажется, строго С.Д.-ский журнал, в пол<итическом> отделе это очень неизбежно, ибо другой научн<ой> партии нет, но дух-то анархический в художеств<енном> отделе. Вячесл<ав> же хотел бы больше независимости в их соцьялизме. Не хватает им еще немного денег" (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 42) (69).
Теперь можно перейти и к самой записи:
11 Дек<абря>. 12 ч. дня. Теперь о Среде. Она была в некотором роде замечательной. Были: Розанов с падчерицей, Mme Бердяева (он хотел, но не смог ), Ремизов, Габрилович, Чулков, Кондратьев, Пяст, мол<одой> поэт (Мережковские не приехали, задержанные в последнюю минуту), Блок, Белый, Яша, еще какая-то София Юльевна (верно, нелегальная) с еврейскими глазенапами и с любопытством нас рассматривавшая (ее привела Бердяева), писат<ель> Лундберг, Нина и Борис<ов> и математичка, -- кажется, все. Поздно, часов в 12, Вяч<еслав> предложил устроить по примеру "Пира" (70) - собеседование о Любви. Ах да, самое неожиданное: был Павел Влад<имиров>ич Безобразов и председательствовал, скажи Мар<ии> Серг<еевне>.
Блок первый прочитал прекрасные стихи о "Влюбленности" (71). Говорил Белый о мировой душе, отблеск которой мужчина ищет в любимой женщине, из этого как-то рождается лик Христа, потом все обращается в церковь и в Жену, обличенную <так!> солнцем по апокалипсису. Все это в смутных, цветисто облачных образах и длинно. Общее мнение - что оч<ень> красиво. По моему, нет. Вячеслав говорил раньше, и все, сказанное Белым, языком арбатского апокалипсиса (мое мнение) было (по словам Блока) продолжением, добавлением к словам Вяч<есла>ва. Вяч<еслав> напишет статью о любви (72). Здесь его теория о матери-дочери-сестре, отце-брате-сыне, соединенных в одно зерно в любви между мущиной и женщиной, и дальше о бросании колец совершенной любви двух в пурпуровые моря божественной соборности. Роз<ано>ву и Блоку не понравилось. Габрилович говорил о невозможности соединиться всецело ни в страсти, ни в amitie amoureuse, ни в общественности, о вечном одиночестве, о разрешении в одиноком творчестве, закончил красивым, пышным своим стихотворением. Потом я сказала, что могу говорить только о реальности и поэтому отвечаю Габриловичу: признаю, что любовь есть высшая разлука, ибо пока человек томится в своей одиночной тюрьме, у него есть окошечко тоски, но когда двое одиноких соединятся, они заколачивают свое окошечко от всего мира и уже безнадежно отъединены. Но не в отказе от страсти и любви спасенье, а в обращении порока нашего в добродетель. В любви двоих - пороке против соборности - есть искупление, это самая сущность любви, ибо любовь есть то, что не прощает. Любовь ищет свое и без жалости отметает все, что не подходит под ее глухое искание: отсюда измены, холодные казни некогда любимых существ, но не ответивших бессознательным алканиям любви. И вот любовь идет, карая, бестелесно, без прощения, и святым нездешним днем пепелит все то, что хочет навеки запечатлеть себя в несовершенной эмперии <так!>. То, что не прощает -- добродетель любви, но всякое кольце <так!>, сомкнутое на земле любовью, -- порок любви. Но это я напишу на днях небольшую повесть для "Факелов". Председатель был возмущен: как! любовь не прощает? Она все прощает... А Розанов говорил: "Умница какая!" Он говорил, что я геркулесова дочь. Потом Борисов-позитивист. Сначала очень красивую и глубокую Египетскую легенду, но гора мышь родила, и после великой легенды пошла позитивистическая психология всяких преимуществ влюбленного состояния. Закончила диспут Mme Бердяева красивой сказочкой, ею придуманной (мне не нравится). Божество бросило на землю четыре розы: белую, розовую, алую и черную. Люди подбирали, и каждый подобравший любил сообразно с цветом своей розы. Счастлив, подобравший себе весь букет! (буро-серый) (Там же. Л. 47-49) (73).
В качестве дополнения следует привести еще фрагмент из сравнительно мало известных воспоминаний Андрея Белого:
…помню я, что о любви говорили: Иванов, Бердяев, я, Л.Ю. Бердяева; говорил ли Д.С. Мережковский - не помню; молчал В.В. Розанов; этот последний ко мне подошел после речи моей (кажется, я говорил о трех фазах любви: любви к Богу, к Ней, к людям; и называл эти фазы - любовью по чину один, два и три); подошел В.В. Розанов и спросил:
-- "А скажите, -- наверное, нее переживали того, о чем только что говорили".
Спросил его:
-- "Почему вы так думаете?"
Он - настаивал:
-- "Если бы вы пережили хоть часть из того, что сказали, вы были бы - гений…"
И приговаривал он, поплевывая словами:
-- "Не переживали, конечно…"
-- "Признайтесь?"
А.А. <Блок> сидел в дальнем углу, прислонив свою голову к стенке, откинувшись, очень внимательно слушая, с полуулыбкой; когда обратились к нему, чтоб и он нам сказал что-нибудь, он ответил, что говорить не умеет, но что охотно он прочитает свое стихотворение: и прочел он "Влюбленность"; он был в этот вечер в ударе; уверенно, громко, с высоко закинутой головою бросал в нас строками… (74).
Следующая среда, 14 декабря, оказалась примечательной прежде всего тем, что пришлась на самый разгар событий в Москве, очень затронувших Ивановых. К сожалению, "истинной глубины бесед" по записи Зиновьевой-Аннибал понять не удается, однако отметим, что на собрании впервые фиксируется присутствие К.А. Сомова, М.В. Добужинского и Н.А. Бердяева (что явно противоречит его утверждению о том, что он "кажется, не пропустил ни одной "среды" и был несменяемым председателем на всех происходивших собеседованиях" (75)), а также малоизвестные поэты В. Корин (В.И. Корехин), Александр Степанович Рославлев (1883-1920) (76) и Яков Владимирович (Вульфович) Годин (1887-1954), впоследствии прославившийся скандальной статьей "Оргиасты", посвященной карикатурному описанию Сред (77).
16 Дек. 11 ? утра. <…> Третьего дня была Среда. Она вышла поразительною, могу сказать - блистательною по истинной глубине своих бесед. Тема была "Одиночество и Анархизм". Так вотировали за это соединение. Председатель - Бердяев идеально. Присутствовали Ремизов, Сологуб, Габрилович, Чулковы, Нина, Борис<ов> и 2 девочки, Сомов и Добужинский (изв<естный> карикатурист и художник), Сюнерберг, Корин (плох<ой> поэт), Рославлев (поэт-реалист в поддевке) и из их же кружка с талантом молоденький Годин. Кажется, все. Начался диспут тем, что я прочитала свою "Тоску Смертельную" (78), сказала, что из тоски одиночества и безвыходности ее нужно сделать добродетель крайнего индивидуализма в анархизме и, доведя индивидуум до высшей силы, надеяться, что совершится какой-то крах (сострила о теории С.Д., доводящей до высшего расц<в>ета капитала и высшего напряжения его борьбу с трудом, чтобы в одном крахе совершилось падение капитала и соцьялист<ическое> распред<еление>), в доказательство прочитала эпиграф свой и из "Корм<чих> Звезд" "И будет мир Духов". Все это интересно и глубоко поставило вопрос. Говорилось многое многими весьма важное, Вяч<еслав> очень сердечно и лично рассказал целый цикл развития своей муки над проблемой одиночества и иллюстрир<овал> их отрывками, начиная с "Покорность", кончая "Гостем"… Обрываю и отсылаю письмо (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 51 и об).
Письмо от 20 декабря примечательно несколькими разнообразными сведениями. Во-первых, оно фиксирует дату написания дифирамба Иванова "Факелы" (79); во-вторых, дает сведения о немаловажных визитах: 16 декабря "…мы были в мастерской Сомова. Он нам показывал многое. Он истинный художник в смысле французском, влюбленный в свою "кривую", в форму. Это отрадно, потому что это первые "художники" в России" (Там же. Л. 56 и об), а 18 декабря -- к Н.П. Анненковой-Бернар и к Ф. Сологубу, где существен фрагмент, относящийся к последнему: "Увы, вернулись в 4 часа! И дома говорили до 6-ти. Обсуждали коренные и мучительные вопросы нашего устройства. Сологуб читал чудесный рождеств<енский> рассказ, смешанный из Сологубовской фантастики и реализма рабочей революции. Критиковали. Я нападала порядочно против всех остальных, хваливших за несколько лишних слов там и сям, особенно в чертовщине" (Там же. Л. 54); наконец, весьма существен фрагмент письма, позволяющий восстановить не сохранившееся в архиве Иванова письмо Брюсова. В этом письме был сообщен меморандум, известный под заглавием "Предполагаемая организация "Весов"" (опубликован - ЛН. Т. 85. С. 280-281), а также сведения о судьбах московских знакомых в дни восстания. И то, и другое вызвало у Зиновьевой-Аннибал резкий протест:
Пока Петерб<ург> единственный безопасный город. Да, наш прекрасный, просто героический Яша с 13-го числа в Москве! Получила "священное" письмо из огня пушек. Он санитар. Но Красный Крест объявлен был мятежным и в санитаров сильно стреляли. С 14-го не имею писем. Жив ли? Это не подлый ломака Брюсов, кот<орый> присылает письмо Вяч<есла>ву с нарочным, начинающееся вроде как так: "Я жив, хотя и хожу под выстрелами, любопытствую (гадина!), ни к какой партии не принадлежу (гниль купеческая!). К.Д. (Бальм<онт>!) жив (я не сомневалась!), С.А. Гриф жив (жаль для блага людей, что этот клан декадентский не раздавлен), все наши (!) живы". У меня нет наших в московских декадентах-купцах. Затем следует предложение конституции Весов, названное Вяч<есла>вом "курьезным аппаратом для снимания сливок с подойников музы" (80). 300 рубл<ей> 4-м редакторам и сотрудникам за редакторство и писания, с условием все написанное представлять в Скорпион. Он<и> же, т.е. 4 редактора (Вяч<еслав>, Брюс<ов>, Бальм<онт>, Белый) плюс Поляков и Семенов будут отвергать им неподходящее и разрешать печатать отверженное ими, где писателям заблагорассудится. Смех! но еще больше непостижимый курьез!" (Там же. Л. 54об-55об).
21 декабря была следующая Среда. В преддверии ее Зиновьева-Аннибал писала Замятниной: "А сегодня Среда, и Анюты не будет, т.к. бани усиленно работают перед праздником. А я так устала. И так тяжело говорить. Предполагается окончание темы об одиночестве и анархизме, а мне хочется рыдать и рыдать. Что человек: зверь или Бог, подлец или герой?" (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 59 и об). Из описания же ее (в письме от 24 декабря) не очень понятно, действительно ли тема была продолжена или как-то спонтанно трансформировалась:
Среда была сумасшедшая. Человек 30, отовсюду, даже поразительный оратор студент Гидони С.Д., кем-то приведенный. Он так блистательно говорил, что опьянил нас на мгновение. Через верблюда и льва (мы в стадии льва) придем к ребенку, с легкостью сбросим тяжесть жизни и кончим Творящим Странником (удивительная концепция!), тогда уже не нужно будет искусства, мы сами станем творцом и творением, и все вступим в блистающую стену Творящих Странников! О, блестящий Люцифер соцьал-демократической безбожности. Мне чуется большая пустота… Но где полно?
Были Поликсен<а> Соловьева, Манасеина, Андр<ей> Бел<ый> с невралгией все время грозил говорить, но к счастию для меня мне удалось отбить затянувшийся диспут Мережк<овского> с Вяч<есла>вом, призвав председ<ателя> Берд<яе>ва к порядку дня. Тогда говорил Сюнерберг свои глубоко трагические мысли о борьбе с насилием природы - времени, пространства, и Бога - как начала начальствующего; против чего Вяч<есла>в противупоставляет Бога как страдающего в мире с нами. Ну, толком не пишу. Читал стихи Рославлев. Были из "кружка литературы", между проч<им>, один мальчик 18 лет Годин. Он пришел и вчера почитать стихи, чтобы узнать критику Вяч<есла>ва, еврей, талантлив глубоко, сын фельдшера, родился в Петропавловской крепости. Дома - ад, и мальчика спасет только талант. Бредит самоубийством, а пишет так, что я ушла рыдать к себе. 18 лет! И весь мир передумал, а образования никакого! даже гимназии! И ни гроша денег. Ну вот. Больше не могу (Там же. Л. 64-65).
Из вновь отмеченных участников отметим на этом собрании Александра Иосифовича Гидони (1885-не ранее 1932) (81), а также неразлучную пару детских писательниц - П.С. Соловьеву (Allegro) и Н.И. Манасеину. Скажем также и о том, что в другом месте того же письма Зиновьева-Аннибал упоминает о чтении на Среде дифирамба Иванова "Факелы" (или, как определяет автор письма, "Вячеславовой новой драмат<ической> пьэсы в роде Орфея"): "Он читал ее на Среде и (хотя в Среду никто не оценивал ее художественно, т.к. была она читана к теме "анархия" и возбудила тотчас огневую перестрелку: были дико драчливые догматики-теократы Мережковские, взывавшие: "Вы сами светлый и белый, но учение ваше соблазняет!") оказывается, что она привела в восторг факельщиков (Сомова, Сюнерберга, Чулкова и пр.)" (Там же. Л. 62).
Собрание у К.А. Сюннерберга 23 декабря описано в приведенной Ю.Е. Галаниной цитате из все того же письма (82), но в ней опущена любопытная подробность: "Вчера у Вяч<еслава> была коллизия: пригласил Филос<офов> на чтение своей статьи об отношении Розан<о>ва к Христу. Был тесный кружок догматич<еских> мистиков -- Мер<ежковск>ие, Роз<ан>ов, Бердяевы, Карташев, Франк (кадет), еще один, Филос<офов>. Вяч<еслав> заехал перед "Факелами" извиниться и был проклят Зиной. Но не irrevocablement. Если покается в "демонических" "Факелах" и вернется в лоно "Троицы Иоанновой", будет помилован. Какие бездарности!" (Там же. Л. 63об - 64).
Но, несомненно, самой легендарной стала Среда 28 декабря, последняя в 1905 году. Приведем только одно печатное свидетельство. Под рубрикой "Вести отовсюду" в первом номере "Золотого руна" была напечатана заметка: "Нам сообщают, что в Петербурге, в ночь на 29 декабря в квартиру нашего сотрудника г. Вячеслава Иванова, в то время, когда у последнего собрались обычные посетители его литературных "сред": Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Ф. Сологуб, Д. Философов, Л. Вилькина и проч., явился полицейский пристав в сопровождении десятка городовых и произвел обыск, оказавшийся для полиции безрезультатным. Задержанная по подозрению, возбужденному заграничным паспортом, г-жа Волошина, только что приехавшая из Парижа, была освобождена по удостоверении личности. Более ощутительные результаты испытал на себе присутствовавший на вечере Д.С. Мережковский, так как шапка его, в числе пяти других, куда-то бесследно исчезла из передней г. В. Иванова после обыска" (С. 133) (83). Полный текст письма Зиновьевой-Аннибал, относящийся к этому примечательному эпизоду, как кажется, давно заслуживает опубликования.
Четверг 29-го Дек.
Но чтобы вернуться к нашей оскорбленной квартире и опустошенному моему столу, скажу, что вчера был у нас обыск от 11 веч. - 4 утра, произведенный вооруженной толпой полиции. Солдаты полицейские стояли со штыками ружей наготове во всех дверях и у стен на часах. Была Среда, назначено было говорить о границах Религии и Мистики. Собралось блестящее (ровно 30 чел.) и, как всегда, отчасти неожиданное общество: Мережк<овски>ие, Соловьева, Филос<офо>ов, Вилькина-Минская, Венгерова (позвонили, бедные, обе уже после прихода полиции и были захвачены насильственно в нашу компанию), Нувель, Добужинский, Сюнерберг, Бакст, был и Арцыбашев, но ушел до полиции, Годин, Пяст, Мейерхольд с женой, актер и актриса Мунд, Щеголев с женой (ученый и изд<атель> журн<ала> "Былое", сотрудн<ик> "Наш<ей> Жизни"), Габрилович, Бердяевы, Чулковы (Ремизовых нет, а Розанов собирался, но к сожалению! не пришел), Сологуб с сестрой, мать Волошина, милая дама в шароварах, сестра Гиппиус-художница, и еще не припомню. Удивительно, что все приехали к нам первыми, даже без приглашения, и что и старым мы не делаем визитов. Анюта и Васюня! были. В 11 часов дикий звонок. Я иду, ворча, кто это так настойчиво звонит, но незапертая дверь сама раскидывается и вваливается с устремлением вперед и ружьями на отвес орда полиции человек в 20, 30. Я оборачиваюсь в столовую и кричу: "Господа! полиция!" Тишина. Вскакивает свирепо пристав, по-оперному протягивает жестом руку и возвещает: "Никто не сдвигается с места!" Мгновенно в каждой двери вырастают по два вооруженных ружьями со штыками полицейских, ведь полиция теперь преображена в солдат, и в комнату проникает еще один к окну у стены вооруженный. В передней ряды солдат со штыками вытянуты, кухня заполнена, моя спальня охраняется в темноте вооруженными часовыми с ружьями впереди. Я бегу спасать свои аметисты в свою спальню, из темноты кричит солдат: "Нельзя сюда!" - "Мне нужно в мою комнату!" - "Иди прочь". - "Вы что грубите здесь!" - "Сама виновата!" - Этот аргумент поразил меня неожиданностью своего философского смысла. Иду к гостям и говорю: -- И Достоевский сказал: всякий за все и передо всеми виноват.
Общество старалось отнестись легко и с шуткой, пили чай, смеялись, читали стихи.
Полиция принялась с моего стола. Вытащила все письма, в кучу смешала рукописи и "Великий Колокол". Я завопила: "Это срочная рукопись! Оставьте мне мою работу!" - "А вы думаете, я не работаю? Думаете, я люблю свою работу?" - "Тем более оставьте мне мою работу, которую я люблю. И почему же это вы делаете работу, которую не любите? Жизнь вам один раз дается, а вы ее как употребили? Не безумно ли вы поступаете, употребляя так скверно вашу жизнь? Умрете, и все кончено. А могли бы честнее жить". - (Потом я "Колокол" отстояла) и Вячеславу не дали его переписку из его стола, только мою, и остальные мои рукописи (кроме "Пламенников", которых каким-то чудом не нашли) увезли в Охранное Отделение. Затем, после моих бумаг начался личный обыск, обшаривание карманов. Нас, женщин, обыскивала жена швейцара, притащенная полицией, безграмотная, напуганная. Гоняли нас из комнаты в комнату, оцепляя ружьями. Сначала полиция имела такой вид, что ожидала вооруж<енного> сопротивления и была разъярена и испугана. Потом понемногу успокаивалась. Начался обыск квартиры. Боже мой, разворошили все твои сундуки и ящики, Маруся, все комоды и шкапы, всю кухню, печи, чердак и особенно тщательно ящик с провизией, где вынимались все банки с грибами и квашеная капуста. В одном шкапу нашли крем в жестянке выжимной, двое околоточных с уморительным страхом осторожно разворачивали, разрывали внешнюю бумажку, передавая друг другу, отворачивали тихонько крышечку, я хохотала над ними, а они говорят: "Да, видели мы жестяночки с кремом. Тоже научены! Слава Богу, что у вас тихо встретили нас, а то встречали пулями!" Печальное отродие. (84) Длилась гнусность до 4-х часов. Часовые все время не выпускали. Составили протокол подробный, где именно было: что при обыске ничего не нашли, кроме 3-х № "Революционной России" прошлого года, органа С.Р., случайно давно ко мне попавшего и еще не прочитанного. Но к концу вдруг сюрприз ужасный: уводят под арест мать Макса Вол<оши>на. Бедная, седая голова этой сильной , энергичной честной женщины с басом и в шароварах (крымская помещица) подернулась в первую минуту судорогой, она заплакала среди полицейских, потом оправилась тотчас, взяла немножко денег, взяла книг и отправилась под конвоем вниз по лестнице. Оказалось, нашли в ее пальто не отданный ею заграничный паспорт, а при ней здешний. Это случается. Но они объявили нам, что получили от Дедюлина по докладу о результ<атах> обыска приказ арестовать ее. Но закончилась тяжелая ночь. Затем выпустили всех и ушли сами. Интересно, что Вячеславу и всем гостям отдали под расписку все конфискованные бумаги и письма, а мои все увезли, кроме "Колокола", кот<орый> пристав просмотрел лист за листом. И на бумаге было написано: кв<арти>ра г. Ивановой, хотя <1 нрзб> и пристав отвергал это Вячеславу (85).
Когда настала тишина и, поставив самовар, мы сели вдвоем, весь дух заговорил. Не могу сказать, что за мысли и за подсознательные открытия происходят в такие минуты. Когда жизнь реальная, низкая, злая, как голый стальной штык, промелькнет перед человеком. Москва! Москва! Дикая смелость, безумие стрелять револьверами в этих вооруженных людей и подставлять беззащитную грудь под озверелый штык. И здесь, говорят, только что накрыли компанию С.Р. с планами вооруженного восстания, и всем грозит казнь. Кстати, господа в штатском из полиции пытались делать допрос о "Кружке литературы", кот<орый> "во вторник собирался у вас". Там были рабочие. Это горьковские подражатели в блузах. И еще сказал агент Вячеславу: "У вас все знакомые С.Р.!" Вчера встал еще раз вопрос с вызывающей силой: признаю ли борьбу в мире или признаю только преображение в духе? Если первое, то мне стыдно, что солдатам и проклятым опричникам нечего делать в моей квартире и что я не встречаю их револьверными пулями. Ибо в мире для меня нет среднего, и болото худшая опасность для мира. Но в духе полное отречение не только от насилия, но от всякого внешнего строительства. Преобразим души, и мир построится сам в тот миг божественно, ибо как может человек позорить землю и свою свободу на ней?
Это наивно кажется, но это именно самая глубокая и последняя постановка вопроса. Но против пути духа говорят 1) рассудок, ибо захотят ли все? и когда? и если не все, то никогда. 2) Есть ли простое, жаркое, кровью возмущения бьющееся и кровью жалости обливающееся сердце в отказе от непосредственного, простого, человеческого и героического вмешательства? Но всякое вмешательство невольно насилие и убийство и принимающий мир хотя бы на один волос принимает убийство, вот это факт, на который подло и трусливо закрывать глаза!…
Сейчас встал Вячеслав. Спешу одеться и ехать по делам: прежде всего в охранное отделение узнать о судьбе Елены Оттобальдовны Волошиной. Потом съездить на Петербургскую к ее хозяйке. Заеду к маме твоей. Но теперь 3 часа, я встала в 11, а легла в 7 (Карт. 23. Ед. хр. 15. Л. 70-76).
3
То, что происходило в доме на Таврической в первые дни января известно достаточно хорошо: в новогоднюю ночь дамы (Зиновьева-Аннибал, сестры О.М. Мейерхольд и Е.М. Мунт, Н.Г. Чулкова, Е.О. Волошина с А.И. Орловой, художница Е.Н. Давиденко, О.А. Беляевская) сидели за столом, а Иванов, Мейерхольд и Чулков вырабатывали программу для ответственной встречи с М. Горьким, от которой во многом зависело, станут ли "Факелы" солидно поставленным предприятием или же придется обходиться случайными деньгами. Следующие два дня были заняты новыми совещаниями и хлопотами о разрешении собраний, чтобы гарантировать себя от повторения обысков (86). Третьего января состоялось собрание деятелей "Факелов" (театра и журнала) и сатирического журнала "Жупел" с участием М. Горького и М.Ф. Андреевой. Ныне опубликованы довольно многочисленные описания этого собрания, так что резонно отослать читателей к ним (87).
Первая в новом году Среда состоялась 4 января и оказалась отражена в двух посланиях Зиновьевой-Аннибал. Первое - чрезвычайно неразборчивая открытка от 5 января, где, видимо, специально было написано о знакомых Замятниной - ее приятельнице по Высшим женским курсам актрисе В.В. Пушкаревой-Котляревской и ее муже, литературоведе и будущем академике Н.А. Котляревском: "Вчера разошлись поздно. Были Котл<яревск>ие, и поднял он тему-допрос: почему декаденты льнут к революции. Обсуждали долго, Вяч<еслав> закончил блистательным доказательством неизбежной "крайности" у декадента, т.е. у художника-бунтаря. Но Котл<яревский> не убедился" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 9). На этом кончается тот текст, который нам удалось прочитать. Но 9 января, уже в обычном письме, о Среде было сказано еще несколько слов, в основном об участниках: "В прошлую Среду явилось , что кроме литературных (всегда балансирующих , как канатные плясуны) знакомцев, у нас образуется кружок, связанный с нами по-человечески сердечно. Наприм<ер>, Волошина, которая даже к сыну не ехала 8 дней лишних, чтобы с нами встретить год и еще одну Среду провести. И с нею милая учительница Орлова, художница из Парижа Давыденко, две милые и жадные к знанию и красоте девушки-курсистки Шиховы (Нина Павловна), молодой поэт бедняжка Годин, Поликсена Соловьева и Манассеина, Беляевские…" (Там же. Л. 10).
В том же письме содержались и сведения о задуманной серии из трех литературных и литературно-музыкальных вечеров, предназначенных для сбора средств на организацию театра "Факелов" (88). Но активность исканий вокруг этого так толком и не состоявшегося кружка практически прекратилась после неудачной попытки переговоров с Горьким 14 января в Финляндии, куда ездили только Чулков и Мейерхольд (89). Но Среды продолжались. 11 января прошла следующая, о которой Зиновьева-Аннибал написала Замятниной через день, 13 января: "Среда вышла блестящая в смысле совершенно нового прилива лиц. Жупел был в лице своего представителя Гржебина, и художники (Билибин тоже) принесли листы не изданного №. Политическая сатира в рисунках подняла новое искусство в России. <…> Беседа была по собранию: "О декадентстве как философски-идейном движении". Очень мн<ого> было скрыто, потому что все было раъяснительно и мало художественно. Вяч<еслав> говорил просто, ясно и свел все концы блистательно к общему синтезу: набросал историю декадентства и общий дух во всех разнообразиях ярких индивидуальностей" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 13об, 14об-15).
То, что Среда 18 января стала одним из наиболее запомнившихся событий этого времени, вышло наверняка случайно. Однако внимательное чтение писем показывает, что каким-то образом, словно невольно, подготовка к ней началась заранее. 16 и 17 января Зиновьева-Аннибал описывала следующим образом: "В понед<ельник> мы обязательно должны были до вечера вернуться из-за концерта Соврем<енной> музыки, куда нас звали все наши музыканты и художники-меломаны, и обидятся, если не будем (т.е. Вячеслав пойдет, а у меня нога, т.е. нога у меня ничего себе, а вот "Вел<икий> Колокол" захватил; так до его окончания будет болеть нога: невралгия!!!). И еще после концерта будет собрание "святош" у Бердяева. Это я называю так сей мало талантливый или выдохшийся талантами кружок Мережко-Бердяево-Булгаково-Волжско-Розановский. Там же будут показаны знаменитости: Петр Струве, Франк и С?… Я их называю "серыми дьяволами серединности". Это кадеты, соцьалисты.. Но на земле, как я и сказала Булгакову, может быть только крайнее, только оно делает, остальное квасится. <…> 17-го утро. <…> Брюсов должен приехать сегодня. Ждем с утра. <…> В<ячеслав> вчера вернулся поздно со страшной скуки. Недаром ему не хотелось ехать. Он в полоне лирич<еских> стихов. Трет<ьего> дня ночью написал три стихотв<орения>. У него готов 3-й сборник. Будем издавать до весны. Мечтаем о нем: "Cor Ardens"" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 19об, 21об-21).
Примечательно в этом письме сразу несколько пунктов, но генетически они могут быть сведены к одному противопоставлению - философия vs поэзия. Если в начале описываемого нами периода философия и поэзия не только в сознании Иванова, но и в программе Сред, как бы стихийно она ни складывалась, существовали параллельно (отсюда и сделанное одним из лейтмотивов работы А.Б. Шишкина воспоминание Пяста: "Вячеслав раздвоялся: с Эрном был философ, со мной - поэт" (90)), то в данный момент на первый план решительно выдвигается поэзия. И дело не только в "серединности", т.е. недостаточно радикальности кружка выдающихся мыслителей, но и вообще в стремлении отказаться от философического размышления в пользу практического действия, то есть, в случае Иванова, для поэзии.
Хотя приводимая нами цитата почти в полном объеме хорошо известна (опубликована: ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 235), все же для удобства обсуждения ее имеет смысл воспроизвести еще раз. Написано письмо 19 января.
Четверг. 3 1/2 дня
Вчера была среда - страда. 40 чел<овек>, кроме нас и Анюты. Список прилагаю. Вышло разнообразие невольное. Поговорив группами часов до 11 ?, принялись по предложению В<ячесла>ва за "тему". Поставлена, нако<нец>, прерванная еще тогда полицией тема Религия и Мистика! В<ячесла>в сказал вступление по моему совету, тут же высказанному, о том, насколько (91) эта тема соприкасается непосредственно с конкретными опытами художественными, с литературными и философскими интересами. (Но я плохо слушала, так что не могу точно передать). Потом, увы! стал говорить и читать реферат Габрилович, этот "утонченный эстет социал-демократии!" (см. письмо к Витте Мер<ежковско>го). От Адама философии и религии и что-то еще и т.д. Бунт! бунт! Выхожу в переднюю: взбунтовавшиеся художники: Сомов, Добужинский, еще кто-то. "Что это, Л<идия> Д<митриевна>, так нельзя. Нужно живой обмен мнений, а не лекция!" -- "Отвратительно. Как же быть?" -- "Да прекратить". - "Но - как?" -- "Давайте сорвем <нрзб>!". - Выходит Бердяев (Аничков председательствовал фельетонно хлестко и фельетонно элегантно). Я: "Ник<олай> Алекс<андрович>, давайте сменим председателя и референта и водворим вас!" -- "Нет, нет, я боюсь!" -- "Ну давайте же бунтовать!. - "Пойдем снимать слушателей". Я иду к двери, вызываю шепотом, машу красными рукавами. Выходят один за другим. Передняя наполняется. Выскакивает Вячеслав, бранит нас, но мы непоколебимо бунтуем. Брюсов с нами. Наконец я предлагаю устроить параллельное, но поэтическое заседание. Закрываемся в спальню Вяч<>ва, где висит тусклый желтый фонарь и стоит кровать его, покрытая персидской шалью. Сначала мы, женщины - забираемся на кровать, потом я, видя человек 15 бунтарей мужского пола без седалищ, ибо стульев давно уже не хватало и вся мебель стульей породы была стащена давно в столовую, -- соскочила и села на пол по-турецки. Образовался кружок на полу, и началось заседание. Но все "не так, как у них!", без председателя, т.е. Ремизов самозванно сделал себя председателем, но за ним было признано лишь право кричать: "Тише!". Постановлено было, что ни одно слово не допустимо, кроме бунта или ритма! Начали читать поэты. Их было много, и они все прибывали, ибо делегаты от нас несколько раз ходили к ним "снимать". Читали из бoльших: Сологуб, Блок, Брюсов и молодые. Тем временем там ораторы мистики и метафизики остались без слушателей и, возразив каждый самому себе, освободили председателя и себя и с восторгом присоединились к нам в наше полусветлое убежище с аркой-окном. Аничков тоже сел на пол... Когда он уходил, я подошла и сказала: "Ну что, Евг<ений> Вас<ильевич> ! Не ожидали?" -- "Чего?" -- "Что сядете на пол..." -- "Нет, отчего, это ужасно весело!" Да, было "ужасно" весело и поэтически (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 22об-24об).
Сохранился сделанный Ивановым список посетителей этой среды, расклассифицированный по категориям (ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 236), и очень характерно, что начинается он с "молодых поэтов" (Л.И. Андрусон, В.В. Башкин, С.М. Городецкий, В. Пяст, М.А. Кузмин, А.А. Кондратьев, А.С. Рославлев, Д.М. Цензор). Они действительно по большей части молодые, плохо известные хозяевам (поэтому, скажем, фамилия Кузмина пишется с мягким знаком в середине), но уже сразу около имени Городецкого появляется слово "талантлив". Затем следуют композиторы (и тоже с пометой "молодые"), художники, актеры, и только вслед за ними "литераторы и ученые", куда попадают в равной степени Брюсов, Блок, Сологуб, Ремизов - и Бердяев, Аничков, Ивановский, Философов, Эрберг…
И во всех описаниях этой среды, нам известных, на первый план выдвигаются поэты, причем очень часто поэты молодые. Вот дневник Кузмина: "Габрилович читал длиннейший и скучнейший реферат о "религии и мистике", профессора возражали, а поэты и дамы куда-то исчезали <…> Я несколько скучал, пока меня не вызвал Сомов в другую, "бунтующую" комнату, где за отсутствием стульев все сидели на полу, читали стихи, кто-то про липу, очень хорошо. Просили и меня, но мне казалось, что я ничего не помню, и я отказался" (92). Вот письмо И.М. Брюсовой к Н.Я. Брюсовой (почтовый штемпель 31.1.06): ""На среде" мы были. Замучу вас до конца и расскажу про среду. Было 44 челов<века> самых разных людей. Некто Габрилович С.Д. читал реферат, опять приплетал к учению социал-дем<ократическому> мистический анарх<изм>. Было скучно, длинно. Люди, затосковав, уходили, убегали в переднюю. Валя <В.Я. Брюсов> очень демонстративно вышел один из первых. Все ушедшие собрались в комнате, где не было стульев, уселись в круг на пол и стали читать стихи (93). Круг все более и более увеличивался, а другая комната пустела. Говорили, что читающий сам себе возражал. Было интересно видеть стольких знаменитостей. На следующий день мы были у Сомова. Расскажу, когда увидимся, ведь мы скоро увидимся" (94). Описывающий явно ту же (или следующую) Среду В. Пяст также выдвигает на передний план чтение стихов, а особенно успех С.М. Городецкого (95). Нет сомнения, что отчасти такая настроенность была спровоцирована визитом Брюсова и тем, что его существеннейшей задачей того времени была агитация (особенно "молодых") за участие в обновленных, т.е. снабженных беллетристическим отделом) "Весах". Сам он описания этой Среды не оставил, но о целях внятно свидетельствует письмо следующего дня к С.А. Полякову: "Поиски "молодых" и "новых" идут очень успешно" (ЛН. Т. 98, кн. 2. С. 108-109), и далее перечисляет некоторых из этих потенциальных авторов - Городецкий, Ю.Н. Верховский, Кузмин, Пяст, Н. Хомяков (не Среде не присутствовавший и нам неизвестный).
Был Брюсов и на следующей Среде, 25 января. О ней, правда, мы знаем очень мало, но и то, что знаем, свидетельствует все о той же настроенности на стихи в перовую очередь. 28 января Зиновьева-Аннибал писала Замятниной: "Вчера провожали Брюсова. Да, Среда была живая, остался-таки Брюсов к ней. Читались стихи часа три. Были новые и из прежних гостей. Были Добровольские мать и дочь (96). Обе очаровательны и в восторге, а стихами В<ячесла>ва прямо не нахвалятся. <…> Я ухаживала за "критиком" Аничковым, премилый толстяк, и во второй раз пришел без визита В<ячесла>ва" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 35) (97).
Вообще деятельность Брюсова в этот его приезд и отношения с Ивановыми заслуживают специального обсуждения. Мы знаем далеко не все, но и то, что знаем, выглядит чрезвычайно существенным для истории не только "Весов", но и русской литературы вообще. В Петербурге он провел не так много времени (приехал, видимо, 17 января, а уехал 27-го), но за это время успел провести массу переговоров. В цитированном письме к С.А. Полякову он извещал мецената "Весов" и "Скорпиона": "Я передал 350 р. Вяч. Иванову, который, однако, относительно расценки "Тантала" остался при особом мнении, соглашаясь, впрочем, подчиниться воле редакции. Участвовать в "Весах" он, конечно, согласен, будет, и даст для февраля стихи и статью. Подробнее о нем расскажу лично" (ЛН. Т. 98, кн. 2. С. 108). Вместо этого личного рассказа Брюсова приведем свидетельства из писем Зиновьевой-Аннибал к Замятниной. 20 января: "Брюсов вчера не был. Будет сегодня вечером. Умоляет В<ячесла>ва писать в "Весы", где все осталось по-прежнему, т.е. "сам и молодец". Говорит, что меня напечатал сотрудником на <19>06 г. Буду давать рассказы в беллетрист<ический> отдел". 21 января: "От них <Н.И. Манасеиной и П.С. Соловьевой> летели на свиданье к 10 час<ам> в "Сев<ерную> Гост<иницу>" к Брюсову. Пили много вина с сыром в их ресторане и говорили важные вещи теоретически и практически литературные. Напряжение несказанное, потому что с Брюсовым каждое слово взвесить необходимо, иначе клевета или ненависть. Выяснилось, что "Весы" на прежнем положении и Вяч<еслав> так же желанен. Я тоже приглашена как нужный сотрудник во все отделы". 22 января: "В Воскр<есенье> была опять лавина. Брюсов пришел в час к В<ячеславу>. Я поила чаем и ветчиной. Разговоры: стихи и политика. Бр<юсов> участвует в "Слове". Ненавидит побежденную! революцию, очень гнусен он, и В<ячеслав> с ним все время на краю разрыва. Это странная дружба чисто на почве художественной. Брюсов большой художник, но не поэт, по-моему. <…> Пришел Чулков весь в неисполняющихся проектах. Ушел Брюсов, ушла Инна <Блок>, остался Чулков посоветоваться о стихах перевода своего и тоже ушел. <…> А в 11 выехала к Сологубу. Там слушала его рассказ "Чудо отрока Лина". Стиль равный Флоберу, глубина и пафос Сологубовские. Красота и сила такого совершенства, что слезы капали, круглые и полные слезы блаженства, радости. Рассказ блистательно оправдал жестокого "Змея-Дракона", Солнце, распаляющего кровь убийц на убийство и …… ярким зноем мертвых убитых. Подобного проклятия убийства еще не было и не будет. После него читал Брюсов фантасмагорию без юмора и скудного воображения из будущих времен, где люди бездушные манекены движутся на колесиках, как сам Валерий. Провал. И ожесточен же Брюсов Петербургом". 24 января: "5 час<ов> дня. Только что нежно жала руку Валерию. Кудесник этот человек! Чарует в нем художник и дикая, вольная личность! Но не слишком вольная. Купец связал его вольность. Ну, как бы то ни было. Он приехал на три дня, но останется даже и на эту Среду! Что-то таинственное и, верю, светлое, создает в нем дружбу к Вяч<есла>ву. Вяч<еслав> еще в постели прочитал мне великолепное новое стихотворение "На 1906 год"" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 27, 33об-33, 28-29об).
Но едва ли не самый серьезный инцидент произошел 20 января, и не столько между самим поэтами, сколько между их женами. В начале статьи мы приводили запись из дневника Брюсова о революционаризме в Петербурге: "…мы с Вяч. Ивановым на этой почве почти рассорились" (98). Эта "почти ссора" была связана с обстоятельствами, выясняющимися из писем Зиновьевой-Аннибал (беглого) и И.М. Брюсовой (подробного). Начнем с беглого. 21 января Зиновьева-Аннибал сообщала Замятниной: "…пришла Брюсова и стала говорить, что она и прочие "обыватели" Москвы благодарны Дубасову (99) и что лучше ей слушать пристава, нежели еврея. Я ругалась, а В<ячеслав> сказал, что в своем доме не допустит больше ни одного слова, оправдывающего расстрелы (удалилась в слезах злая бедная дурочка)" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 31 об и 33). В цитированном нами по другим поводам письме к Н.Я. Брюсовой от 28 января (отослано 31-го) содержится другой вариант истории (сохранился и черновик письма; в случаях, когда в нем содержатся существенные дополнения, мы их приводим в примечаниях).
Как ни грустно, а в Петербурге я поссорилась с Ивановыми. Повод - мои черносотенные убеждения (100), но уже когда я приехала, то заметила странное обращение Лидии со мной. Нелепое восклицание, как только я вошла: "Как, и вы приехали, мы вас не ждали, мы вас не ждали", и разочарование в голосе (101). Когда я стала о чем-то говорить с Лидией (Вал<ерий>, Чулк<ов> и Ив<анов> были в соседней комнате), вместо ответа она попросила переждать говорить, а то в другой комнате очень интересно беседуют, она хочет слушать (102). Я удивилась ее нелюбезности и пошла в другую комнату к беседующим. Чулков и Вяч<еслав> разъясняли Вале, что такое мистический анархизм (103). Это такая idee fixe, иного, по их понятию в мире нет выхода. На этом м<истическом> ан<архизме> построено <так!> целый ряд "Факелов" -- журнал, театр, издательство. Но "Факелы" не загорятся - нет денег. Валя им, факельщикам, не очень сочувствует, а они не находят у В<али> "неприятия мира" и повиновения им. Понятно, что В<аля> не будет в школе ни Чулкова ни даже Вяч<еслава>. И так, прослушав идеи "Факелов", мы стали уходить. Нас пригласили на среду. Вы, наверное, слыхали - у них собираются разные люди. Я почему-то спросила о Mme Блок, Лидия заявила, что она у них не бывает, что вообще она причисляет ее к категории злюк, к которой причисляет еще вас, Зиночку и меня, после этого я решила, что г-жа Блок - хороший человек. <…>
Утром в пятницу я была одна у Ивановых. Заранее было условлено, что я могу приходить в день и час, когда захочу, но только что я открыла дверь, Лидия оглушила меня возгласом: "Так и знала, что сегодня целый день к нам будут приходить, это так всегда, стоит одному явиться" (у ней сидела невестка). Я поспешила заявить, что сейчас же ухожу, что я, мол, только их пригласить пришла к нам. Невестка тоже, сказав два-три слова, стала уходить. Наблюдения г-жи Ивановой оказались верными, т.к. пришел Мейерхольд с юным актером.
Иванов еще только вставал.
Еще при невестке Лидия говорила о Дубасове всякие ужасы, о зверях-солдатах, я ей что-то возражала. Ничего ужасного я не говорила, а так, обычные слова, вроде что бы стали говорить революционеры про зверей-солдат, если бы они к ним присоединились и т.д. Когда ушла невестка, Иванов, проводив ее, накинулся на меня, что он не позволит, чтоб в его доме защищали убийц, так же, как и Валерий не позволяет, чтобы в его доме осуждали Толстого. Конечно, это была давно затаенная месть. Когда-то действительно Вал<я> такие слова говорил Лидии. Но, видит Бог, я не виновата, что Валя может наговорить грубостей. Я была поражена, стала ругаться, напр<имер>, я сказала, что я бы не говорила этих слов в доме какого-нибудь присяжного повер<енного>, инженера или доктора, п<о>т<ому> что знала бы, что они будут встречены так, как он их встретил, но все-таки я не сумела говорить, слезы выступили на глаза, и я ушла.
Ив<анов>, проводив меня вниз, уговаривал не обижаться, но я все-таки рассердилась очень. Пришла домой. Вале ничего не сказала и боялась, он бы их заел. В этот вечер я с ними не разговаривала почти совсем. В воскресенье они (у Сологуба) сторонились меня. Тут Валя уже знал о моей ссоре. Он говорил удивительно противореволюционные вещи. Иванов только слегка защищался. Лидия очень глупо осуждала Валин рассказ, который он прочел вслух <…> Смотрю, в письме все о Петербурге, а теперь я уже забыла о нем. С Ивановыми несколько помирились, т. есть они были очень милы, я к ним еще раз съездила на "среду" и уехали мы, но Валя теперь их будет преследовать.
Вчера Броня передавала Вал<ин> разговор с С<ергеем> Ал<ександровичем Поляковым>: "Иванов и Лидия Дм<итриевна> очень согласны сотрудничать, но, я думаю, их надо держать в черном теле" (104).
Видимо, эта размолвка сказалась в том, что Иванов, отдав небольшую дань "Весам" (всего в 1906 году он опубликовал там цикл стихов "Северное солнце", явно нежеланную Брюсову полемическую статью "О "факельщиках" и о других именах собирательных" и две рецензии - на книги стихов Н. Пояркова и И. фон Гюнтера), все больше и больше стал ориентироваться на "Золотое руно". Несомненно, несколько позже на это наложилось еще и то обстоятельство, что "Весы" отказались называть в списках сотрудников имя Зиновьевой-Аннибал. Еще 27 января она писала Замятниной: "Нужно для "Весов" написать на днях повесть, нужно избавиться на днях от обязанности перед "Тропинкой" и от пристающих по поводу этого рассказа "Глухая Даша" - мыслей. <…> В Среду утром начала, но больше не писала до вчерашнего, потому что Вяч<еслав> составлял со мною 2 цикла стихов для "Вес<ов>" и "Руна"" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 34 об, 36). Но с этого времени упоминания о брюсовском журнале из писем практически пропадают, и все надежды возлагаются на "Золотое руно". Еще 10 января С.А. Соколов написал Иванову письмо:
Глубокоуважаемый
Вячеслав Иванович!
"Руно" усиленно работает над выпуском I №, который выйдет в пределах января, в последних его днях. Одновременно формируются и последующие №№. Мы очень надеемся, что Вы не откажетесь дать "Руну" статью и несколько Ваших стихотворений (не политического оттенка).
По поводу желательных размеров статей у нас еще не выяснилось твердой точки зрения, т.к. взаимное соотношение отделов (в смысле количественном) определится точнее лишь когда весь № будет сверстан.
Пока же приходится руководиться общими соображениями о тех 200 страницах (коих половина - французский текст), в пределах которых пока установился объем журнала.
Прошу принять мои приветствия по поводу Нового Года и выражения твердой надежды видеть Ваше имя на страницах "Золотого Руна".
Преданный Вам совершенно
Сергей Соколов (Карт. 34. Ед. хр. 54. Л. 2).
Но еще до реального начала участия журнал стал оказывать ему hommage'и разного рода. Так, 1 февраля Зиновьева-Аннибал написала своей конфидентке: "Не успела описать, как и с чем вернулся Вяч<еслав> от Сюннерберга в ночь на Воскр<есенье>. Ему показали статью Венгерова, кот<орую> он списал вам: сохрани ее для нас. К нему подошел Сомов и сказал: "Я прошу вашего разрешения написать ваше прекрасное лице! <так!>" Это ему поручил Рябушинск<ий> для "Руна". Нужно сказать, что Сомов однажды говорил: "Странно, но обыкновенно те лица, которые я нахожу красивыми, люди за таковые не признают!" Во всяком случае, он говорил, что очень счастлив будет работать над В<ячеслав>ом, но что предупреждает, что будет его мучить долго, ибо таков его обычай" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 41 и об). И чуть позже в том же письме, как добавление: "Была получена телегр<амма>, что в "Зол<отом> Руне" пьют здоровье петерб<ургских> сотрудников по поводу выхода 1-й книжки" (Там же. Л. 42). О содержании этой телеграммы мы узнаем из письма К.А. Сомова к Л.С. Баксту:
1 февраля 1906
Дорогой Костя,
Вчера ночью получил такую депешу: "Празднуя выход первого номера "Золотого Руна", пьем здоровье ваше, Сомова, Лансере, Добужинского - Н. Рябушинский, Тароватый, Гриф".
Ты не рассердишься на меня, что я позволил себе, не спрашивая предварительно тебя (ввиду сокращения времени) послать ответную депешу такую:
"Приветствуем выход "Золотого Руна" да здравствует искусство. Сомов, Лансере, Добужинский, Бакст". <…> (105).
Неудивительно, что уже 2 февраля Зиновьева-Аннибал сообщала Замятниной: "С утра, т.е. с часу пришел вдруг парижский знакомый журналист и писатель, еврей Поляков. Интересный сионист Моисеевского типа. Ушел. Готова ванна Вячеславу, но он бегает по комнате, отдавшись мыслям о двух статьях для Руна…" (Карт. 23. Ед. хр. 7. Л. 44 об). И тут же, в том же письме: "Еще последняя приписка, через силу, но чтобы закончить: Вяч<еслав> уже в ванне, а на столе планы обеих статей в "Руно"" (Там же. Л. 45 об).
Вообще это письмо весьма содержательно. Оно писалось с 31 января по 2 февраля, и по ходу Замятнина успела сообщить несколько колоритных эпизодов. Так, 31-м датируется рассказ о предшествующих днях (видимо, 29 и 30 января): "Вяч<еслав> и Берд<яев> до полного моего головокружения говорили о свободе Воли, реализме и идеализме Богоисканий, Логосе и т.п., но у них жесткие мозги и сильные желудки, пищеварение совершалось quand meme. Потом В<ячеслав>в потащил-таки меня на Остров к Сологубу. Замаялась: слушала плохую аллегорию наряженную в стильный, блестящий наряд. Были и Мер<ежковск>ие, и еще куча народа. Какой-то порожительный поэт из кружка Случевского Уманов-Каплуновский бегал с альбомчиком, зачатым в ночь на 9 Янв<аря> 05 года, и ко всем писателям приставал вписать ему что-либо на общественную тэму. Все писали. Но я сделала бунтовскую грубость и отвязалась. <…> Вчера В<ячеслав> поехал на Остров к Аничкову и Гревсу, а я была у старухи Корф, а потом у Гиппиус. От 5 до 8 сидела с нею и отчасти Дм<итрием> Серг<еевичем>. Оставили обедать. Гиппиус оказывается единственной женщиной, с которой можно разговаривать с пользою и наслаждением. Сдружились. (Там же. Л. 39об - 40 об). 1 февраля вновь возникает казалось бы пропавшая тема "Факелов": ""Факелов" окончательно не будет в этом году. Театр будет, может быть, и грандиозный (Дягилев загорелся его внешней, архитектурно-художественной стороной и хочет строить), но с февраля <19>07 года" (Там же. Л. 41об).
А в конце письма разорванная на несколько порций информация о Среде 1 февраля (записано на следующий день после нее):
…припишу Среду. Вечер был опять с новыми. Да еще многие не пришли из тех, кто собирался: Гревсы, Аничков, Гуревич Л.Я., "Тропинка" (106), Венгеровы, Мережк<овские> и т.д. Очень вышло оживленно. Вечер распался на две половины: литературную и философск<ую> 1) Читался мой "Бред" Вячеславом (ставилось на голосование, читать ли прозу в 200 строк без имени автора) мастерски, вы удивились бы! Как истинный актер, вжившийся в роль! Посылаю вещь вам: пусть Сережа разучит и прочитает! Впечатление "ошеломляющее": долгое молчание, потом слова; но не умею их передать. Ничего важного, в сущности. "Сила", "Музыка", "Лирика", "Не может быть, чтобы не писали стихи!", "Ново, так ново, что ошеломило" и т.д. Но вот что важно: возмущение еще глухое, но уже яростное революцьонеров: "Не может ваш герой испытывать психологию революцьонера и усмирителя". Из таких неожиданных из нескольких углов нападков я вдруг поняла свою вещь, и… свою душу. Я анархистка последней глубины, но нет для революцьонера худшего и опаснейшего врага, как истинный анархист! О, как я люблю свой "Бред", это великое, гениальное произведение, в нем весь мир и весь приговор его. О, какое счастие, какое острое, молнийное счастие так вдруг постигнуть все, все, все… дойти… не до последней ли своей мудрости? <…>
После "Бреда" читали поэты стихи, каждый по два. Председателем был Соколов, Факельщик. И…, представь себе, читала Оля Беляевская прелестное стихотв<орение> "Новогодняя ночь" с "убрусами парчевыми". Что с нею? Она приходит к нам, сидит с людьми, вся в порыве творческом. Даже могла описать могилу Насти (мне одной прочитала эти стихи) и свою скорбь у креста могильного (107). <…> Стихотвор<ение> Вяч<еслава> "Солнце" (новое) произвело восторг и побило всех поэтов. Если бы ты знала, до чего он теперь стал прекрасно и кристально писать. "Cor Ardens" будет чудо и ближе к моим "К<ормчим> Звездам". <…>
А Среда наша закончилась очень интересным и строгим собеседованием на тему… Федор Сологуб! Это остроумно предложил и еще остро и хитроумно ввел В<ячеслав>в, так оборудовав ее, что вышла под этим живым соусом тема Мистика и Религия. Говорилось горячо и очень глубоко. Умы и сердца зияют и горят. Когда кончили, я подошла к предс<едателю> Бердяеву и написала на его листе крупно: Мистика есть воление Невозможного. Эта формула была принята собранием. Потом радостные, ласковые и богатые друг от друга все разошлись в 3 часа (Там же. Л. 41об - 45 об).
В. Пяст вспоминал по этому поводу: "Из литературных тем помню предложенную Вячеславом Ивановым беседу "О Федоре Сологубе". Последний, помню, присутствовавший при выборе темы, протестовал, -- а в знак протеста и совсем покинул собрание" (108).
Не исключено, что именно к этому вечеру относится список присутствовавших, карандашом сделанный Ивановым (Там же. Л. 46).
Бердяев
Блок
Сологуб
Габрилович
Байков (проф. Политехникума, юрист <1 нрзб>)
Ю.Верховский (поэт)
Нувель
Гернгросс (поэт)
Ремизов
Ремизова
Рославлев (поэт)
Пащенко (художник)
Годин (поэт)
Макс Ли (беллетристка)
Чулкова
Крандиевская (поэтесса)
О.А.Беляевская (бел<летристка> и поэтесса (109))
Мирэ (беллетристка)
Сюннерберг
Смирнов (филолог)
Ковальский (беллетрист)
Борис Зайцев (беллетрист)
Тэффи (поэтесса)
Давыденко (художник)
Мальфетано (скульптор)
Городецкий (поэт)
Чапугин <так!> (беллетрист (110))
Гордин (Наша Жизнь)
Кондратьев (поэт)
Андрусон (поэт)
Соколов (юрист)
Орлова (учительн<ица>) (111)
33.
Прокомментируем некоторые имена. Впервые здесь появляются ставшие впоследствии завсегдатаями Сред Вальтер Федорович Нувель (1871-1949) - чиновник особых поручений канцелярии Министерства императорского двора, более известный как человек, одушевлявший многие культурные предприятия и друживший едва ли не со всем Петербургом, а также писательница Александра Михайловна Моисеева (1874-1913), пользовавшаяся псевдонимом Мирэ. Наталья Васильевна Крандиевская (1888-1963) - начинающая поэтесса, впоследствии жена А.Н. Толстого; Александр Александрович Смирнов (1883-1962) - сотрудник журнала "Новый путь", в дальнейшем видный филолог; Алексей Павлович Чапыгин (1870-1937) - в будущем известный советский прозаик.
Богатой на события оказалась масленичная неделя. В недатированном, но явно написанном 7 февраля письме Зиновьева-Аннибал начала ее описание так:
Сейчас должна на блины к Ремизовым (приходила сама умолять), оттуда в универс<итет> в фил<ософское> общество на реферат Мережк<овского> Достоевский и Революция (112).
Вчера был у нас кружок т<ак> наз<ываемых> "маленьких реалистов" с их лидером Арцыбашевым, был Луначарский, Муринов, должен был быть Вейнберг, было целая кучи <так!> молодежи писательской. Человек 28! И я одна поила и ставила (с помощью Арцыбашева) твоей мамы самовар, увидев его в кухне, Арцыб<ашев> воскликнул: "С таким самоваром вам нужно открывать трактир!" Читал повесть "Кровавое пятно" Арцыб<ашев> Это лучшая его вещь. Много "силы видения и благородный поступок", как сказал Вяч<еслав>, открывая "обсуждения". Обсуждения затянулись до 4-х часов! Очень уж тема потрясающая: расстрелы в Москве. Ораторствовали много два адвоката: Луначарский и Волькенштейн. 1-й требовал больше подъема на завоевание бессмертного будущего спасенного человечества. Говорил Ивановский очень дельно и живо говорил о том, что революцию сделал "резонанс", а не вожаки и не со….. деятели", всякие были всякими выставляемы требования, но в конце концов я сделала таки "бунт" (уж смешно, как все меня знают и "раек" всегда "вопреки Олимпу" со мною). Я сказала несколько слов о том, что все мы "бродим вокруг" (на что Вяч<еслав> с председат<ельского> места мне заявил, что это не парламентское и обидное определение, но я не уныла и продолжала), потому что не хотим ремесленно отнестись к рассказу, мы мало <нрзб> и потому мало культурны. Если бы мы разобрали по существу дела, то увидели, что упреки и похвалы (рассказу) относятся не к содержанию, а к его неправильному построению, где не всегда соблюдена перспектива, и если бы Арц<ыбашев> усовершенствовал форму, мы не спорили и толклись бы, как это случилось!". Раек (я лидер Райка) и Муринов очень поддержали меня. С Луначарским и Арцыб<ашевы>м дружески объяснялась частным образом после. Но бунтовала порядочно в смысле срывания ораторов, т<ак> что Вяч<еслав> после отчаян<ных> и бесплодных звонов однажды сорвался с места председат<ельского> и перебежал всю комнату "усмирять" меня. "Что, досталось?" -- спрашивал раек. Ушла в кухню, потом перебежала в другие двери скандалить. Вячеслав закончил собрание словами о Луначарском. Наш критик желает быть пророком, но хуже, что он требует, чтобы и художник был пророком. Арцыб<ашев> же только художн<ик>-историк (Карт 23. Ед. хр. 16. Л. 4об - 5об).
8 февраля состоялась очередная Среда, о которой Зиновьева-Аннибал писала 11-го числа:
Среда была небольшая благодаря игре литераторов на сцене Яворской - "Плодов Просвещения" (113). Но было уютно. Читались стихи. Изумительный, с ног сшибающий талант Городецкого. Пьяный поэт, пьяных слов, пьяных образов, вакхически, хаотически закруживающий вихрь в нервах слушателей… В<ячесла>в прочитал несколько стихов, и одно с безумными, бьющими по сердцу рифмами (114). Пришлю. Большой эфект <так!> был. Читали еще молодые: Верховский, Фридман <так!> (115), Пяст. Противный Чулков удрал, а были два красивых стихотворения. Потом предложили и исполнили тему "О ритме", председ<атель> Бердяев. Был композитор с Вечеров Современной музыки: Коротыгин <так!>. Беседа была глубоко интересная. Городецк<ий> говорил о теории Бюхера и Зелинского научно, о том, что ритм присущ человеку не только в искусстве, но и в обыкновенной речи и индивидуален. В<ячесла>в - о том, что ритм двоеначален, Аполлон и Дионис, и "очищает" от хаоса… Я протестовала, заявив, что ритм не сливает своих двух начал и может губить и разъединять строй, так же, как извлекать лики из хаоса… (Там же. Л. 9 и об).
И в тот же день, потом перескочив в следующий, она ведет рассказ о бурной жизни последних дней масленицы (к этому можно добавить, что 10 февраля Ивановы были на дне рождения или именинах у матери Замятниной (116)).
11 час. утра. 11-ого Февр<аля>
Вчера обедали у Жуковского с снеговерхими главами Кадетской партии: Струве, Франком, Борман и К?. Жук<овский> передал Вяч<еславу>, что Ростовцев просит свидания с В<ячеслав>ом и очень озабочен ненапечанием Публиканов (117). Струве и Франк очень просили о статье для "Поляр<ной> Звезды". Кроме того, Жук<овск>ий устроил даровое печатание двух книг: "Религия Стр<адающего> Бога" и сборника напечатанных статей Вячеслава. Придется наладить дело лично. Просили стихов и слушали с "вниманием и уважением", и вообще отношение самое почтительное к В<ячесла>ву. <…>
Воскр<есенье> 12 Февр<аля>
Прервал письмо Чулков с проэктами, сметами и выкладками "Факелов". Повесть Андреева даст деньги на издание, хотя сама стоит огромного гонорара! Выходит без сомнения и "Прометей", и рвут оба мой "Бред" (118). <…>
Кружится голова: 4 издания: 1) "Cor Ardens", к осени заготовлять, и тотчас 2) и 3) "Рел<игия> Диониса" и Дионисические его статьи, 4) Публиканы. Потом новые заказанные по теме статьи в пять изданий срочно, и драма "Прометей" дописать и издать осенью в Скорпионе.
Воскресенье был ужасным днем <так!>. Были у Розанова, кот<орый> пленил нас ласкою и проникновенностью.
Мы с В<ячеслав>ом за последнее время нелепо, но сильно ссоримся из-за государственности, целостности России, славянском союзе и тому подобных святынях "нацьональных поэтов" вроде Пушкиных, Тютчевых, Никольских (!) (119) и Ивановых.… А Розанов говорил, что у нас всегда медов<ый> месяц, что мы страшно похожи друг на друга и душою можем даже разойтись, мирил нас, благословил и заставил на лестнице поцеловаться, предварительно заявив, что ему смертельная охота поцеловать меня, но сделает он это только через 1 ? или 2 недели (срок выздоровления его жены! это старичок из деликатности душевной). Только уж руку поцеловал! Смех, и трогательно. Уехали в 11 ? к Сологубу. Тот читал конец "Мелкого Беса" (слабо и неважно, т.е. не насущный хлеб) - до 4-х утра. А после 4-х, до 5 ? объяснение с В<ячеслав>ом, очень бурное и, увы, в результате которого Сологуб явился мне таким бедненьким, бьющимся о свои грани и о свое ненапитанное тщеславие зверьком. Все-таки всеми правдами и неправдами помирила их. А вышло все из-за чертей сплетень и наускиваний, чертей, так обильно обитающих в литерат<урном> болоте. Только В<ячесла>в до сих пор не принюхался еще к этому болотному душку и разгуливает невинным обормотом. Хотел В<ячесла>в сделать "доброе" Сологубу, а тот "увидел" себе обиду и оскорбление. Смешно и глупо. Ну, пока еще все устроилось, но, увы, мы оба потеряли истинное уважение к нему и к тому же убедились, что обманывали себя наивно в его чувствах якобы дружбы и любви к нам (Карт. 23. Ед. хр. 16. Л. 8, 13об-14об).
Начавшийся великий пост занятий и заседаний отнюдь не прекратил. Более сорока человек собралось на Среду 15 февраля. Список их опубликован (120), там же А.Б. Шишкин напечатал и фрагмент письма Зиновьевой-Аннибал от 17 февраля, относящийся к Среде. Однако у нас, кажется, есть возможность уточнить некоторые чтения и прочитать оказавшееся неразборчивым для предыдущего комментатора, почему имеет смысл привести эту запись в целостности, тем более, что она и действительно отражает глубокий интерес к проблеме, выдвинутой революционным событиями на передний план.
…Среда вышла колоссальная: 41 чел<овек>, причем многие не пришли из собиравшихся быть. Тема была: Соцьализм и Искусство на канве лекции в [Рел<игиозном> Общ<естве>] где-то… Аничкова. Он поставлял тезисы и они обсуждались. Ему не позволили повторить лекцию подряд, так как все боялись соскучиться лекцией (у нас на Средах мало ewiger Studenten! Вот в чем горе, Мару!). Но вышло, пожалуй, хуже. Плохо довольно, ибо Аничков не сумел ясно формулировать и путанно шли прения. Раек бунтовал. Я поставила предложение: "Не живее ли и не геньальнее ли подойдем к теме, если начнем с последнего тезиса, кстати, он тогда окажется парадоксом и будет веселее!" Это было дерзко и не принято Олимпом, но послужило громоотводом на время для страстей райка, и все же поторопило угрозою философ<ов?>. Аничков было рассердился, но я ему потом "приватно" напомнила "Le Promethee mal enchaine", и как он читал лекцию при помощи fusees и photographies неприличных! и сказала я Аничкову: "Радуйтесь, что до второго не дошло, а первое я пустила, чтобы удержать для вас внимание публики!" После прений, во время которых В<ячеслав>у не удалось, т.к. очень торопили председателя бунтовавшие, произнести своих слов, отчего все и вышло как-то сбивчивее и тусклее обыкновенного) вотировалось чтение стихов. Вызвал опять одобрение, смешанное с изумлением на странную новизну мелодии (именно больше новизны мелодии, по-моему, нежели ритма) Городецкий, и безусловный восторг В<ячесла>в одним еще в Москве написанным стихотворением "Неотлучное". Мережк<овский> принес свою новую книгу "Грядущий Хам" с дружеской (нахальной, по-моему) надписью, но в книге оказались полемические красоты непорядочного свойства, направленные на В<ячесла>ва (подлые клеветы притворщика и негодяя Мережк<овско>ого, по-моему). Оба они коварные предатели, и это последнее и окончательное мое мнение, плюс еще, что Гиппиус - циничная девка).
В общем, все-таки сошло пышно и затронуло не одну глубокую струну. Много уже, заметь, новых посетителей и молодежи (Карт. 23. Ед. хр. 16. Л. 19-20).
Отметим здесь упоминание о "Грядущем Хаме" Д.С. Мережковского. 20 февраля Зиновьева-Аннибал написала Замятниной: "Сидим за твоим самоваром. В<ячеслав> перелистывает газету. Оба проснулись в пять часов и оба от навязчивых образов не могли заснуть. В<ячеслав> написал прелестные стишки еще о бессоннице и письмо негодяю Мережковскому, нелепо ласковое и великодушное" (Там же. Л. 22). Этого "ласкового и великодушного" письма мы не знаем, но сохранился черновик, выдержанный совсем в иной тональности: "С горестным изучением и сердечною болью прочел я на стр. - Вашей книги [слова], относящиеся ко мне. Несколько дней уже не знаю, как преодолеть душевную смуту, и оттого пишу эти строки. Как? предо мною очевидная наличность преднамеренного и коварного оклеветания, очернения, дискредитирования? <…> Как могли Вы впасть в такое искушение, написать эти недостойные Вас строки? И окончательно обличая преднамеренность Вашего лжесвидетельства, подкреплять его (-- невероятно! --) фальшивою несущест<вующею> цитатою из моих статей…" И хотя завершалось все это формулой: "Я не не могу, как всегда, не почитать и не любить Вас во всей полноте этих слов. Ваш весь сердцем В.И." (121), все же очевидно, что Иванов был глубоко обижен и раздосадован статьей (непонятно почему не прочитанной в первой публикации самого конца 1905 года). Недаром он отвечал Мережковскому и печатно (122), и устно на следующей среде.
О насыщенной жизни Ивановых на второй неделе поста Зиновьева-Аннибал писала так (для удобства мы соединяем письма от 20-23 и 25 февраля (123)):
Описание Понедельника <20 февраля>: дивный концерт на "Вечерах совр<еменной> музыки" -- Reger-Abend (124). <…> Но горе в том, что перед концертом приходил Габрилович (он же друг и тайный почему-то муж незаконный сестры Лохвицкой, поэтессы Тэффи, которая нам очень симпатична) и умолял нас быть у него хотя бы после концерта. Он же давно (28 об) замышлял этот вечер. Пришлось быть. Было мило. Но отравляло злое лице несчастного Сологуба. Боюсь прямо, что он не совсем нормален. Хотя и обещал быть у нас и как будто на словах ласков, но ежесекундно вламывается в нелепые обиды. Габрил<ович> дал нам № газеты театральной "Театр и искусство" <…> (125)
Было 45 кроме нас, легли в 5 ? <…>
Среда пришла несколько путанно, но очень оживленно. Темою был поставлен Берд<яев>ым (председ<атель>) "О Черте", и прошло на вотировке. Сначала как-то шутили. Поднялся вечный шут Ремизов и вышел, чтобы демонстрировать себя как экземпляр в руках Черта. Наладил серьезно В<ячесла>в, и довольно злобно поставил в центр книгу "Гряд<ущий> Хам" (писала ли тебе, что там прямо клевета сознательная на В<ячеслава>, "выше подымайте ваши дифирамбические ноги" -- якобы выписка из "Рел<игии> Стр<адающего> Бога"). Вышло как-то, что не черт ли Мережк<овский>
Он старался верно поставить тему: или говорить о Черте исторически или мистически (тогда черт, идущий от Дост<оевского>, объясненный Мер<ежкоск>им как Черт серединности, кот<от>ого В<ячесла>в отрицал, противополагается его глубинам сатанинским, вопреки Мер<ежковск>ому, выводящему Антихриста, он же "Грядущий Хам", из черта мещанства и плоскости).
Очень закругленно и интересно сказал Габрил<ович>, выведя черта из Индии. "Мара злой, заткавший покрывало Майи", и свел черта к нашему "главному врагу - Мелкому Бесу". Еще В<ячесла>в говорил, что в его глазах черт есть только Geist der Schwere по Ницше. Я сказала так: "Не знаю, следует ли говорить, потому что выходит, что это у меня слишком радикально: всё существующее Черт, и только Невозможное есть выход из него. Поэтому нет человека, который не волил бы Невозможного, и даже все те, кто думают, что признают возможным будущее счастие на этой, таковой земле, думают так по недоразумению. Но я так широко и так убежденно признаю всю вселенную, начиная от ее возникновения из первого яйца и движения от первой причины - от Черта, что собственно мне нечего и говорить о нем". Это подняло очень оживленные прения, в кот<орых> постоянно возвращались к высказанному мною (126) *. Интересно было, как общество часам к 2-м разделилось: часть хотела определенного продолжения диспутов, часть -- стихов. Ставилось на голосования по несколько раз. Прошло стихи незнач<ительным> больш<инств>ом. Ставилось на голос<ование> прочтение трех стих<отворен>ий в прозе: Allegro, мое ("Тени") и Гернгросса. Прошли. Читали несколько поэтов, потом Гернгросс. От чтения Allegro и себя я отказалась, ибо было поздно и многие ушли. Я не нашла это тактичным и выгодным. Остались почти до 4-х: Жук<овски>ий, Герцык (говорила ли, что она написала глубочайший филолог<ическ>ий и филос<офск>ий разбор "Тантала", многое объяснивший В<ячесла>ву в трагедии своей и показавший без похвал всю многогранность и необъятное значение этой вещи). Герцык - Сирин (127) поразительно лицем похожа на В<ячесла>ва (могла бы сойти за сестру), Чебот<аревск>ая, Иван<ов>ский и еще поэт Цензор - редакт<ор> нецензурного "Прометея". В<ячесла>в читал несколько новых стихотворений. Он их пишет почти каждый день. "Менада" и "Ветер", "непутевый ветер-вай" ужасно понравились. Два стихотв<орения> он дал в "Вопр<осы> Жизни", и также "Тени" наши. В Четверг - vernissage. Вчера написала "За решеткой". Потом был долго Белый. Полу-ребенок, полу-подлец. Не не писатель и никуда не гож, по-моему. Вообще он ошибка кругом. <…>
…сегодня <23 февраля> вечер отдыха, были на vernissage выставки Мира Искусства, куда нам прислали почетный билет (Карт. 23. Ел. Хр. 16. Л. 28 и об, 25, 28об-30об).
На третью неделю поста пришлась очень существенная Среда, но начать, пожалуй, следует с более частных впечатлений. 27 февраля Зиновьева-Аннибал писала о текущих новостях петербургской жизни (поводом отчасти служил недолгий визит Д.В. Философова в Женеву, где он виделся с Замятниной):
С Сологубом вроде ссоры. Розанов не принимает пока: увы, его жена очень больна. <…> В<ячесла>в переписывает (наизусть) свою "Ars Mystica" - произведение еще Берл<инск>ого периода, но прекрасной формы, но ценного пафоса и мыслей: история искусств с Греции беглым полетом через века к нам, и призыв к великой Религии, чтобы сделать его вселенским и соборным. В<ячесла>в хочет поместить свою "Ars Mca" в сборник "Свободная Совесть" вместо статьи, которую они от него ждут (128). Вообще в нем начался переворот от теории к искусству. Ему невыносимо трудно раскачаться на статью, и все сильнее и страстнее захватывает лирика и замыслы художественные… Относит от мелей Мережко-Бугае-Бердяе-Булгако- и пр. плоскословенства в свой изначальный океан. Так да будет! В<ячесла>ву предстоит сделать наконец серию дневных визитов.
Отвратительны, действительно литераторишки кружковые. И твое сообщение о сплетниее Дм. Вл. Фил<ософо>ве (сладким барином я его зову), где он объясняет грубые нападки Сологуба тем, что этот великий писатель лопается от зависти к нашим Средам - на многое непонятное бросает свет: в прошлую среду Мер<ежковск>ие нарочно устраивали вечер у себя! Зазывают Блока, Рем<из>ов<а>, Карташева, удерживают Арбатского святошу Белого - это все их fideles. Разве так поступают "друзья"? А В<ячесла>в все еще нежные струны не может оборвать. Но я прозрела, хоть поздно, но уже раз навсегда и без жалости. (129) <…>
Понятно, что визит Фил<ософов>а не оставил ничего, кроме кислоты. Он не может любить нас: есть что-то внутри его, что его отталкивает от нас. Я же абсолютно с ним никаких ссор не имела, ибо вообще и дел не имела. (Карт. 23. Ед. хр. 16. Л. 31-32об).
Перечень посетителей Среды 1 марта, как и ее описание, воспроизведены А.Б. Шишкиным (130), но, как и в некоторых других случаях, мы приводим свой вариант прочтения. В списке присутствовавших к записи "Волькенштейн (адвокат)" следует прибавить еще "Волькенштейн (поэт)", также пропущена фамилия Н.В. Крандиевской.
Четверг. 4 часа дня. 2 марта 06
В кабинете В<ячеслав>а пальма, латания, солнце, небо, снег на кровле, и на твоем сине-зеленом кресле - наша кошка La Vampa: белая грудь и лапы, а по спине и бокам в черных и серых пятнах снопы ржаво-огненных лучей… зеленые яркие глаза. Ленивая. Ласковая. Ластящаяся. Очень понравилась вчера художникам. Она пришла дней десять тому назад с чердаков, позвалась к нам и поселилась… Обладает всеми свойствами культурного квартиранта… <…>
Вчера сговорено с Сомовым о начале работы по портрету: Сомов хочет сам приезжать и… по вечерам! Он писать будет карандашами, очень немного цветного. Мне велит чутьем "увеселять Джоконду".
В Москве всё говорят о Средах.
Сошла Среда очень оживленно и плодотворно. По списку состава видишь, какой он был блестящий. (Ради Бога, не растеривай списки, посылаем их свято на сохранение. Все письма и списки хочу переплести на память этого горячего, бьющего родниками времени). Тема - искусство будущего. Обострился спор до глубокой духовной враждебности в лице Белого и Вячеслава. Первый (после речи В<ячесла>ва о желательном "хороводе" искусств) в яркой, хотя и через меру малопонятной речи, с большим нахальством формы и аксессуаров (голос, пафос, выскакивания ) проповедовал и пророчил не только слияние в будущем искусств между собою, но и слияние объекта творчества с субъектом творящим. Т.е. попросто обращение художника в теурга, творчества наружного в творчество внутреннее, смерть искусству в религии. А еще проще: через искусство человечество просветится, а само искусство станет ненужным и пойдет насмарку.
Вячеслав горяче <так!> говорил в защиту искусства. Бог человеку завещал продолжать Его творящую работу, и богоискание закончится в творчестве, направленном из человека в природу. Природа должна быть обогащаема, и Ангелы будут художниками. Они будут творить миры, и все, что сотворят, будет не мертвое, а живое. А Белый буддист в эстетике.
Белый заявил, что Вячеслав творит мертвецов, ибо сотворяет глыбы каменные вместо живых, человеческих сердец. Вячесл<ав> сказал, что человек в камень вдыхает жизнь и творчество: жив Парфенон, Гамлет и т.д., и здесь (а не в начале) сказал об ангелах. И еще о том, что пафос его - пафос Пигмалиона.
Забавно, что я в райке просила одного слова "кстати", но Берд<я>ев не дал, а записал меня в порядок ораторов. Я же тогда соседям шепнула: "Белый подпадает искушению своего псевдонима: семицветный луч сливает в белый. Это самоуничтожение искусства. Это буддизм". Слово в слово почти то же возражает Белому Вяч<есла>в с Олимпа в первой речи своей, возражающей Белому, и я глупо кричу на всю залу: "А… а!" Все хохочут надо мной. Уж очень хорошо, умно говорил Нувель в защиту l'art pour l'art в самом плодотворном для честного великого искусства смысле. Но под конец говорило много мямлящих или прихорашивающихся болтунов (кроме еще разве Осипа Дымова и, конечно, Бердяева (131)), стало скучнее, Белый разболтался, отвечая всем, и атмосфера бунта в райке назревала… Тогда я (всегда жду этого срока) сбегала в свою комнату, нацепила красный хитон свой на палку из-под ваших рисунков (Кстати: рисунки покажу спокойно Сомову. Вчера было нельзя: теснота и поздно: художники пришли к 12-ти! и еще кстати для картины: я была в белом хитоне ) и принялась махать и вертеть этим длинным и широким красным флагом из-за дверей передней. Смех и волнение. Председатель осведомляется: "Чего требует красный флаг?" -- "Очевидно, ниспровержения существующего строя!" Стали требовать стихов. Стали записываться поэты: провалился бедный Ив<анов>ский своим стихотворением о 9-ом января, очень стали теперь строги к форме. Плохо прошло еще одно стихотворение, читанное Леманом, - Анненковой. Очень мило было горное эхо - стих<отворени>ие Волькенштейна. Потом с блеском сошел Городецкий своими сильными самобытными мифологическими мазками. Потом пропел на цыпочках и с выкриками Белый. Общий восторг. Стихи некоторые недурны. Одно - художественно. Но я испытывала и допускала в себе удовольствие несправедливости и все время ненавидела и его, и его стихи. А соседям говорила, что "и подошва в сметане хороша". Дрянь он все-таки и шарлатан несомненный. Потом просили В<ячесла>ва. Прочел два маленьких очень изящных стих<отворен>ий <так!>. "Ветер" попросили для "Адской Почты", но он уже отдан в "Тропинку". Он уже в корректуре. Allegro сделала смешной, милый рисунок. Тянулась Среда до 4-х часов четвергового утра… Ушли. И с ними La Vampa - Билибин снизу принес ее обратно (Карт. 23. Ед. хр. 17. Л. 1об-3об, 5 и об).
С этого момента в жизни Ивановых снова выделяется несколько отдельных течений. В центре, конечно, по-прежнему остаются Среды, но рядом с ними возникает альманах (пришедший на смену журналу) "Факелы", а также рядовое для постороннего наблюдателя, но для них самих чрезвычайно важное дело - позирование К.А. Сомову для портрета, заказанного "Золотым руном". Кажется, что и Иванов и Зиновьева-Аннибал воспринимали это как символическое действо, доверенное чрезвычайно близкому по духу художнику. Об этом свидетельствует целый ряд записей, которые стоит привести, объединив в более или менее целостное повествование. Они же окажутся связаны и с изданием "Факелов".
Описания были начаты в письме, которое в равной степени писали Зиновьева-Аннибал и Иванов. Судя по той части, которая принадлежит Иванову, Зиновьева-Аннибал принялась за него 13 марта, а потом переуступила свою очередь:
Дорогие мои, и сегодня даже не знаю, что удастся написать. Это была не неделя, а пожарная скачка. Сижу в зале в уголке. У окна по обе стороны стола с красным сукном сидят В<ячесла>в и Сомов друг против друга. В<ячесла>в <1 нрзб> к окну так, что падает мягкий, но ясный свет из небольшого высокого окна в глубокой готической амбразуре на одну половину лица, освещая и второй глаз. Сомов пишет карандашом черным голову и часть бюста с рукой. Потом будет слегка расцвечивать цветными карандашами. Он приезжает, начиная с субботы, ежедневно от часу до 4-х и дольше… Вот уже много раз отрывалась для беседы бесконечно тонкой, изящной и интересной с этим тонким, изящным, детски геньальным художником… Вот только что позвонилась Allegro и читает с В<ячеславо>м свое стихотворение рядом в кабинете, Сомов что-то устраивает в своем рисунке и рассуждает со мною о моей привычке писать лежа с (твоей) <1 нрзб> в руке, опершейся о локоть… Сомов на днях сказал: "Мне хотелось бы просить у вас позволения написать дуэт вас масляными красками. Л<идию> Дм<итриевн>ну вот в этом прекрасном красном хитоне. Только мне хотелось бы оранжевую шаль!" Мы, конечно, были очень счастливы, но боимся, что при его ужасной занятости несколькими заказами здесь и из Германии он не найдет времени… Но оранжевая идея меня воспламенила, и вчера урвала час (кстати, там же у Гост<иного> двора сделала позорно запущенный визит) и разыскала оранжевого, горящего кашемира. Сегодня солнце и зимнее сверкание. Свела Сомова в светлый кабинет с его двумя арками-окнами и накинула на себя красную - оранжевую ткань. Он пришел в судорожный восторг, от этого смешения прямо спазмы были с ним. Примерялся так и иначе, нашел, что цвет тела зеленый от этого оранжевого, велел отрезать кусок ткани так, чтобы спадая через спину и перевесив локти, она достигала двумя змеями оранжевыми полу.
17.III.
Дорогой друг, Маруся!
Лидия не успела продолжать этого уже четыре дня тому назад начатого письма; посылаем листок как есть. Знаю, что письменное поздравление не удовлетворит Вас. Вам уже нужно теперь живое общение. Все же заочно обнимаю Вас и целую Ваши ручки. Поздравляю и желаю Вам здоровья и счастья. Ибо счастливой Вы можете быть. Редкое в наши дни свойство. Так вот, чтобы Вы были в себе очень счастливой - Вам желаю, как люблю Вас, гармоническая душа во всей своей эмпирической дисгармонии и шершавости, нехорошая "оптимистка", святая Маруся! -
Только что был юноша v. Gunther и читал мне ряд переводов на немецкий из моей лирики. Красивый и талантливый юноша. Он же перевел "Тени Сна". И своих стихов уже выпустил книжечку. Сомову нравятся его стихи и переводы. Представьте, я получил повестку, уполномочивающую меня подать выборный голос. Непременно воспользуюсь, в пользу К-Д. (ибо более левые не выставляют кандидатов). Но индивидуальный бойкот, по-моему, не имеет смысла. Ваш всем сердцем Вячеслав.
Дорогим друзьям домашним привет сердечный.
Только что получил любезное письмо от Гиппиус из St Raphael как ни в чем не бывало.
Получены ли Вопр<осы> Жизни XII и Весы, февраль? (там 14 моих ст<ихотворений>, в "Золот<ом> Руне, II" -- два.)
Нравится ли Лидии "Ветер" в измененном мною виде? "Гимн Свободе" пока не написался. Прилагаю стихотворение, посвященное Ольге Ал<ексан>др<овне Беляевской>, и другое для сборника, протестующего против смертной казни (Карт. 9. Ед. хр. 33. Л. 35-36об; рука Иванова - с даты 17.III и до конца письма).
15 марта Зиновьева-Аннибал пишет Замятниной на открытке: "Вчера в 4 ? ушел Сомов, я подала ранний обед и в 6 час. ушел В<ячесла>в с визитами Дягилеву и Нувелю (Дягилев говорил В<ячеслав>у, что он оч<ень> сочувствует идеям В<ячесла>ва о театре, и мы надеемся, что, может быть, будет содействовать его осуществлению)" (Карт. 23. Ед. хр. 17. Л. 10). Потом последовал довольно большой перерыв, когда писем писать было некогда, и 21-22 марта последовала еще одна запись j работе над портретом и тем, что с этим было связано.
Сегодня, о смелость моя! угощала обедом Сомова. В 4 часа побежала за провизией, т.к. на сеансе сидел Gunther и читал свои музыкальные стихи и переводы, растопив плиту, а в 5 сели за стол! Hors d'oeuvres sardines, макарони по-итальянски, телячий рулет и жар<еный> картоф<ель> с мочен<ой> брусникой, битые сливки с яблочным пюре (испекла яблоки и протерла) и кофе турецкий. Сомов очаровательный собеседник, умница, утонченник, само изящество. Был при нем два раза Hans v. Gunther, совсем юный балтийский немец дворянин, кажется, поразительно даровитый поэт из Modernes Dichter Кружка Steph. George. В<ячесла>в говорит: напиши, что он страшно хорошенький. Издавать собирается 25 томиков!! с переводами нов<ых> русск<их> поэтов. (Напр<имер>, "Тантал" - отдельн<ый> томик, "К<ормчие> Звезды" и "Прозр<ачность>" в одном). Перевел, кажется, великолепно, много стихов В<ячесла>ва. Также все мои "Тени Сна" (второй их перевод на нем. язык). Был в первый его приход и один писатель из рабочих Чапыгин с талантом, но недостаточно ярким, он пришел ко мне прочитать мне одну свою сказку (очень недурную) для "Тропинки" и, таким образом, вокруг нашей Джоконды образовалась академия искусств, чем Сомов был очень доволен и говорил, что моя оранжевая шаль даст тон всей академии. Он придумал мне три костюма и принес книги из Эрмитажа… <…>
Мережк<овск>ие уперли не простившись, а какнув в Хаме (вот словечки одно к одному), и вдруг сладкое письмо и<з> St. Raphaёl Гиппиус к нам обоим. <…>
Ну, принимаюсь за работу, а то В<ячесла>в проснется, а потом Сомов, а потом наша ужасная Среда, как лавина. Зовет: Лиля, Лиля! сонным голосом. Finita la mia matinata!
4 часа. Ушел Сомов, сегодня торжественно заявил в присутствии Чулкова по поводу обложки Факелов, что оранжевый цвет он хочет сохранить для моего портрета осенью. Вяч<есла>в вернулся вчера в два ночи с корректурами, которые и так правил и день до 4-х, и совершенно прекрасной обложкой "Факелов" Лансере: на темном пурпуре матовым серебром дивные огни факелов и венки (Там же. Л. 15-17 об).
В каком-то смысле "академия искусств", видимо, должна была служить противовесом Средам, все более и более клонившимся к философским диспутам, несмотря на усилия "райка". Председательство Бердяева этому, конечно, только способствовало. Сомов же, успешно создававший атмосферу "чистого искусства", задавал тон во время сеансов, и посещения И. фон Гюнтера (оставившего об этом времени воспоминания в своих мемуарах (132)), утверждавшего "что самые тонкие и передовые люди Европы вот здесь, вот - мы, ибо Запад еще декаден<т>ствует в своих вершинах, а мы уже перевалили" (Там же. Л. 25-26), должны были не только льстить Иванову, но и утверждать его в верности избираемого и формируемого пути.
26 марта Зиновьева-Аннибал сообщает Замятниной (133): "Решено было, раз мы "правительство" и "первые люди", с осени начать "преображать" костюмы и нравы, устроив ядро истинной красоты при помощи наших художников. Сомов, бывший очень робким и несколько исключительным в своих идеалах 18-го века, теперь совершенно соблазнен моими хитонами и нашими жаркими проповедями. С ним установились отношения любовные, сильнейшего взаимного заражения, и я написала ему на своих "Кольцах" то, о чем мы с В<ячеслав>ом говорили: "Чистому художнику, дорогому вдохновителю, милому мне Константину Андреевичу Сомову". Сомов называет каждый сеанс у нас сказкой Шехеразады и не спешит кончать свой делающийся, кажется, совершенно замечательным портрет. В В<ячесла>ве ему нравится его многосторонность и всеотзывчивость. Да, ведь Сомов подарил нам дивный альбом своих произведений с надписью: "Глубокоуважаемым и дорогим мне В.И. Иванову и Л.Д. Зиновьевой-Аннибал". А в день имянин еще пришла телеграмма от Осипа Дымова: "Сердечный привет, доброе поздравление женщине, чья белая душа укутана в красный хитон". Кстати, поздравляли еще две сестры Гиппиус (непонятные) художница и скульптор, и еще поздравлял письменно Успенский (134)" (Там же. Л. 26об, 28 и об).
Конечно, из идеи "преображения" костюмов и нравов ничего получиться не могло (это могло быть реализовано только в рамках тесного кружка, "Гафиза" или "Фиаса"), но сама идея выглядит чрезвычайно характерной. Здесь речь ведь шла уже не только о привычном к тому времени символистском жизнетворчестве, которое в известных им образцах (Брюсов, Бальмонт, Белый, Мережковские) Ивановы воспринимали скептически, а о явно и большем, о самой широкой переделке реальности в разнообразных ее аспектах. Еще раз подчеркнем, что это делалось внутри "Башни", но помимо Сред, занятых иными проблемами.
В письме от 30 марта, помимо рассказа о прошедшей Среде (этот рассказ мы приведем далее), читаем и об отношениях с Сомовым, и о "Факелах", и о других примечательных событиях:
Ночью на Среду Вячеслав буквально импровизацией написал стихотворение Allegro шутливое, хотя высоким стилем с большими утверждениями о нас как trésoriers de l'avenir для "тощих" фараоновских годов (в ответ на стихотворный вопрос Allegro-фараона, присланный ему по почте по поводу пьесы Осипа Дымова - Юсуфа, не разгадавшего сон фараона) (135). И два P.S. шутливых, легких и очаровательных в защиту, с некоторой тонкой иронией, Дымова. Также великолепные длинные терцины Сомову, глубокий и изящный портрет художника и души - пессимиста, влюбленного в ушедшую красоту, в потерянное счастье. Терцины вышли, по-моему, безупречными. Сомову ужасно нравятся и он их считает драгоценным подарком и шедёвром. Вяч<еслав> вписал их в Прозрачность - подарок Сомову. <…>
Иду назад в днях - к неописанной Воскресной ночи. В театре на пьесе Дымова (136). Свежая, смелая проповедь жизни, не боящейся прошлого для будущего, не стесняющейся сказать "горе побежденным" на тонах чеховских. Вся зала почти знакомая. Но много и "публики". Чулков и Ремизов слышали в нескольких местах разговоры "публики": "Сегодня интересный вечер: будут все декаденты, будет Вяч. Иванов!" и "Интересно посмотреть на этого Вяч<есла>ва Иванова!" После 12 поехали к Сологубу. Какая-то удручительная и мрачно бесовская атмосфера. Читал сказку, т.е. рассказ с бесовскими штучками. Ловко, но скверно. И публика очень подозрительная: какие-то плохие поэты сатанинского пошиба. Дома к 4 утра! Во вторник Сомов, вечером ждем к обеду Гюнтера. Не едет. Вяч<еслав> мчится к Ремизовым, где Гюнтер живет, со сценой неправильной ревности. Вечером является Гюнтер, занимавшийся весь день в редакции "Petersburger Zeitung" продажей ста своих стихотворений переводных... Утром я должна по делу спешно к Ремизовым. Возвращаю<сь>: Сомов уже на сеансе и меня ждет. Синилов <так!> говорит о либретто своем, чтобы я писала к будущему году. Образуется академия вокруг Джоконды. Приходит Гюнтер. <…> Приходит Леман со своим "вечером литературным", где мы должны читать. А мне некогда шить костюма. <…>
Прерывала для Чулкова: принес Факелы! Прелестная книжка. Вышло пока всего 400 экз. Бумаги не хватило. Отправляют все в провинцию. Только после Пасхи выяснится разрешение цензуры… (Там же. Л. 34-36)
И закончить сюжет с собраниями вокруг Сомова, пишущего портрет Иванова, следует, видимо, таким письмом.
Понед<ельник> 3 Апр<еля> 06
Среда описана. Теперь четверг <30 марта>. Писала вам письмо, что-то продумывала из нескольких своих замыслов. Вечером пришел Гюнтер. Потом пошла спать очень усталая. В пятницу Сомов. При нем получаю письмо из Москвы. Да, не сказала, что так как слова Брюсова о том, что имя мое уже им давно напечатано в сотрудниках "Весов", оказались ложью, то я просила его передать редакции, что я из сотрудников ухожу. Вот он и ответил мне, что поручение он исполнил, но впрочем неупоминание имени моего ничего не предрешало, т.к. мое имя недостаточно "выдающееся" и подразумевается под и др. На это я отослала ему письмо, все построенное на "And Brutus is a honorable man" и переделке в "And Brutus is a naughty, naughty child". Все письмо ясно обвиняет его во лжи и в комичной вывертке с "недостаточно выдающимися" после "Колец", "Пламенников", оповещенных ответствен<ных> крупных статей и вступительн<ой> статьи Вяч<еслава> к "Кольцам"… И несмотря на все это "Скорпион" не сумел сделать мое имя даже для себя самого достаточно выдающимся. Также имя Александра Блока (разделяющее мою участь) оценено ниже какого-то черносотенного поэтишки Кузьмина… и т.д. And Brut……………..
Я на днях вышлю копию с этого письма. В общем , Брюс<ов> еще такого не получал. Кончаю: уверяю вас, что понимаю вас лучше и лучшим, нежели вы поймете об этом из этого мальчишеского письма (137).
Все-таки какая паскудная душонка у этого лгунишки, которого жалко и который умеет так детски мило улыбаться и делать неожиданно добрые, лучистые глаза! Но я ничего теперь не боюсь. Проживу и без "Весов". Хочется чистого и ясного в жизни, а также чувствуется какой-то родник творческих сил. Только бы время!.. Пришел Верховский, милейший поэт и привязавшийся к нам еще совсем молодой, хотя очень бородатый человек. Читал свои терцины - поэму. Вячеслав мастерски раскритиковал, и Верх<овский>, хотя и огорченный, но все же был доволен и обогащен. Академия пила чай. Потом ушел Верх<овский> и вскоре Сомов, хотя долго медлил, беседуя. Вечером в пятницу оказались у одного молодого композитора, нашего знакомого со Сред - Гнесина. Он играл и пел свое очень мелодичное и с симфоническим аккомпанементом хора для рояля на стихи Бальмонта. Потом пришел поэт Волькенштейн, с которым они вместе мечтают о пластическом творчестве как в музыке, так и в поэзии, и работают над собою как истинные "ремесленники" своего дела. Какова бы ни была мера их дарований, радует видеть серьезное, плодотворное отношение к искусству, так близко напоминающее эпоху Возрождения. <…> Я распоряжалась чаем, а милый, горящий Гнесин читал, потом играл и пел часами оперу новую Римск<ого->Корсакова "Китеж". Задумана и местами исполнена совсем в духе и даже стиле мистерии. В чтении частями очаровывала. Легенда разработана почти лубочно и попадаются прекрасные слова и сцены. Но музыка расхолаживает оперностью, неновостью, прекраснодушием, вложенным во все народные мотивы ложно понятые. <…>
В Пасху делали визиты. Вечер застряли у Ремизовых, пришел и Сомов. Рем<изов> читал изумительно фантастические свои сказки. <…>
P.S. Сомов сошел с ума. Настаивает портрет подарить В<ячесла>ву, напечатав его в "Руне", а не отдавать Рябушинского <так!>. Мы протестуем. Наша дружба, которую Сомов называет трехугольником (honny soit qui mal y pence) растет, крепнет и все украшается (Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 1-3об).
Закончив с "академией", перейдем к Средам, которые теперь описываются Зиновьевой-Аннибал далеко не всегда так же подробно, как прежде. Так, о встречах 8 и 15 марта рассказано в письме от 21 марта:
Вчера Вяч<еслав> ходил в Солян<ой> Городок и опускал свой бюллетень за К.Д., "так как левее нет выборщиков" и "так как индивидуальный бойкот, во всяком случае, бесполезен, даже если корпоративный и оказался бы действительным". <…>
О Средах двух пропущенных отчетами что сказать. Нет сил. Были интересные, полезные и очень почти слишком специальные дебаты на тему Искусство будущего. Собираемся еще продолжать. Было еще несколько новых лиц. Ораторами были главн<ым> обр<азом> Вяч<еслав>, Берд<яев>, Нувель (умница логическая и защитник истинный искусства), и в прошлую Среду очаровательное, умное, гениальное дитя Грабарь, и оч<ень> интересно говорил горящий мой друг Миша Туган<-Барановский>. Грабарь по поводу тошнявой <так!> статьи в "Руне" об индивидуализме в искусстве Бенуа, -- говорил, что у нас слишком заботятся об индивидуализме и переходят в отъединенные экстравагантности, в эпохи же могучего творчества (Ренессанс, наприм<ер>) никто не боялся быть похожим на другого, наобор<от>, Veronese увидит у Тициана Венеру и Адониса, побежит домой и сделает такую же позу, пытаясь во всем подражать, "плагиировать", и тогда-то и выйдет именно Veronese во всей силе индиви<дуальн>ости. "Да здравствует плагиат". Это было так все свежо и богато сказочно. Не передается. В<ячесла>в придает значение этим разговорам о Иск<усств>е, потому что теперь замечается поворот всех новых художников вообще прочь от индивидуализма. (Кризис Индив<идуал>изма). А наши Среды так способствуют выработке нов<ых> идей, что, напр<имер>, Берд<яев> говорит уже о плагиировании.
В прошлую Среду был тюремный редактор "Сигнала" - Чуковский, он 22-ого идет под суд. У него семья и нет денег, издатель подлец его не выручает. Он так нервен, что страшно за него, хотя храбрится ужасно. Остался один после всех до 5 ? утра. Говорил без конца, очень тонкий, изящный человек, юноша, проживший много лет в Англии и по-русски говорящий с акцентом. Кажется оч<ень> талантлив. Странно было и страшновато за него. Странно и трогательно прильнул он к нам в первое же свое посещение. Он сотрудн<ик> "Весов". Очень хвалил "Кольца" и "Тени Сна" (Карт. 23. Ед. хр. 17. Л. 12об-14).
Это письмо требует некоторых комментариев. Статья Александра Бенуа, о которой идет речь, -- "Художественные ереси" (Золотое руно. 1906. № 2). "Кризис индивидуализма" -- статья Иванова (Вопросы жизни. 1905. № 9). "Сигнал" -- сатирический журнал, который издавал (а не был только "тюремным редактором") К.И. Чуковский. Уже в 1960-е годы он рассказал историю журнала и все перипетии, связанные с его судебными преследованиями (138).
Значительно подробнее повествование о Среде, состоявшейся 22 марта (сделано в письме, начатом 24 марта во время сеанса Сомова, но интересующая нас часть записана 26-го). Цветы и подарки связаны с именинами Зиновьевой-Аннибал, приходящимися на 23 марта старого стиля.
<…> Говорила ли, что Гюнтер графолог поразительный и тонкий. По почерку моему определил во мне всякие ужасы: холодный огонь, мало темперамента, большая жалостливость, высокий полет мыслей, конструктивность творчества, честолюбие, тщеславие, кокетство, строгость, сильную чувственность… с последним проделывал несказанные церемонии, пока выдал. Я умоляла сказать все, только если это не глупость и не бездарность. <…> Но я очень довольна, и я же себя не знаю. И думаю даже, что это ближе к истине, нежели Александра Вас. Гольштейн с моей "добротой". Недаром Гиппиус, глядя мне в глаза, спросила: "Вы умеете любить? Любите ли хоть кого-нибудь? Ну хоть В<ячеслава> И<ванови>ча?" Я и не хочу любви. Что-то иное нужно. И никогда не писала я столь безумно противоречивых вещей, как именно за это время поисков.
Ну, к Среде. Приходят гости и являются цветы. Понемногу комната обращена в цветник. Это невероятно, безумно в Марте в Петербурге среди снега. Народа набирается 34 чел<овека>. Все со мною так ласковы и почтительны. Гюнтер читает стихи мне и В<ячесла>ву и еще свою песеньку… Он поразителен. Ему всего 19 лет! И он так умен и так безумен. Он был в каком- то экстазе в тот вечер. Еще вдвоем с В<ячесла>вом он делал ему признания о себе, и пророчил, и читал прекрасные стихи странным чарующим ритмическим образом… Упоительный, красивый мальчик, и в первый раз мне юноша кажется интересным (20 об) и мущиною. У него есть сестра-консерваторка, с которой он глубоко и нежно дружен. Они называют друг друга смешными ласковыми именами, и я так ему завидую. <…> Тема была в Среду "О счастии для современной души", но несмотря на все усилия В<ячесла>ва поставить ее на место, она все сдвигалась и беспорядочно и maussadement вернулась вокруг. Никто не мог так посмотреть на счастие как на упоение мукою и блаженством в трагической среде, т<ак> сказать. Верно, большинство людей голодны и сытого не разумеют. Но где вам голода? Имела ли ты счастие? Нет, святая Маруся, но полна до краев твоя сытая душа. (Странно, что одновременно с предложением В<ячеслав>ом этой темы ее же предложил Ос. Дымов, который понимал верно). А мне было стыдно говорить в среду, потому что я боюсь голодных, мне жалко. Я же не добрая, но жалостливая. Пишу дальше о теме: Вечер не удался, потому что В<ячесла>в решительно перетончил. Если им трудно уже понять упоение как соединение счастия и трагизма вместе, то совсем невозможным оказалось понять призыв к счастию простому за или по ту сторону этого упоения. А именно тезис его был: Я много разговаривал с Сомовым (Сомов присутствовал, но, как пойманный школьник, комично молчал даже на вопросы), что счастие люди знали до половины 19-ого века, по мнению Сомова, люди совсем уходят от счастия и человечество ожидает огромный провал, ибо жизнь уже не будет ни красивой, ни счастливой. Вяч<еслав> же утверждает, что счастие, как кажется, действительно умерло, и для соврем<енной> души возможно только упоение-экстаз, кот<орый> соединяет высшую полноту мгновения с острейшим ощущением трагизма жизни. Или же возможно отрешенная солнечность. Но В<ячесла>в все же тоскует о прежнем счастии цветка и сравнивает себя с Фаустом, кот<орый>, достигнув всех вершин, зовет Мефист<офеля> для испытания мига, кот<ор>ому бы он сказал: остановись. На все предлагавшиеся формулы счастия В<ячесла>в восклицал: "Грустное счастие!" и спрашивал: "Неужели никто не чувствует пафоса Фауста bis?". Еще вставляю для ясности. Сравнение с Фаустом только параллель. Фауст все узнал и все созерцал, и дух макрокозма и микрокозма. Так и соврем<енный> челов<ек> может сказать про себя: я узнал и Диониса и Аполлона, и экстаз и распятие, распятую солнечность и все сочувствия, все страдания и все радования… и ничего лично-человеческого во мне уже не осталось. А все же я хотел бы быть и человеком, и хотел бы не отвернуться и оттого, что только menschliches, nur menschliches. Голубая весенняя даль опять поднимает меня лететь куда-то в то место, где как будто ждет меня мой цветок счастия мига, как и Фауст говорит: "Кто не хотел бы летать весной с журавлями?" и пр., одним словом, слова В<ячесла>ва были "реакцьонерны" в смысле реакции против его обычной и энергичной проповеди сверхиндивидуализма, мистического хорового экстаза, религии Стр<адающего> Бога и других отраженностей и солнечностей. Он сам сожалеет, что внес смуту в публику, кот<орую>, как оказалось, нужно трактовать педагогично и которая не может понять поэта в его художнической универсальности. Уже после Среды В<ячесла>ва упрекнули за его "арелигиозность", которую он будто бы неожиданно проявил. А он решительно испытывает какие-то латентные заражения от Сомова, которого очень любит и чувствует или даже "сверхчувствует" и с которым забавляется романтизмом (читает теперь по его приказанию "Кота Мурра" и автобиогр<афию> Челлини) и носится по его советам с каким-то широко задуманным Abenteuer Roman a la Wilhelm Meister из соврем<енной> жизни (Карт. 23. Ед. хр. 17. Л. 19-22об).
Последнюю мартовскую среду А.Б. Шишкин считает началом нового этапа в развитии предприятия: вместо открытости и широты - интимность и сосредоточенность. Действительно, в описании, сделанном Зиновьевой-Аннибал в письме от 30 марта, мы читаем об этом, но уже сейчас хотим обратить внимание, что сама же она в следующих письмах скажет о случайности и полной непреднамеренности вечера 29 числа. Малое число посетителей было не достигнуто какими-то усилиями устроителей, а оказалось таким по стечению обстоятельств (возможно, потому, что это была Страстная среда). Следующие собрания у Ивановых опять были такими же многолюдными, как и предшествующие.
Прошла Среда. Было народу мало и стало новое ощущение уютности, интимности. Прения очень интересные: Бердяев, Аничков, Добужинский, Сомов, Ос. Дымов, Дерибас (знакомый Бердяева, банкир, издатель, кажется, испанский, приехавший в Петербург проповедовать открытую им мистику!), композитор Кнезин, еще художник, один именем вроде Сапеги?, Гюнтер, Настя Чеботаревская, Юр. Верховский (в ту Среду было 34, а в это <так!> 12), Чапыгин. Введена была беседа стих<отворением> Вяч<есла>ва, посвященным Сомову (что связывалось с прошлою темою о счастии) и чтением фрагмента Дерибаса о верности земле. Говорилось о Преображении Земли как лозунге неомистиков и новой фазе христ<ианского> сознания. В конце же беседы опять возвратились к Сомову и романтизму вообще. Все это было оч<ень> живо, широко, непринужденно. Блестящи были Вяч<еслав> и Ос. Дымов. Хотя я нахожу, что Вяч. впадает в догматизм вместе с Берд<яе>вым, требуя Христа как пафоса Преображения. А я против этого сильно бунтовала. Имела союзниками молчавших художников и Дымова.
Мне было хорошо, потому что было три мне душевно и телесно приятных человека, и все трое меня товарищески и изысканно любят. Сомов, Осип Дымов и Гюнтер. Был и милый, изящный и очень ласково дружественный Добужинский, который хочет прийти днем с Сомовым писать пэйзаж из моего окна. Он художник "в окно и из окна". Из женщин была только хорошенькая кошечка Настя Чеботаревская, заручившаяся вперед согласием христосоваться с Вяч<еслав>ом и с Сомовым. Она прелестная женщинка и добронравная гетерка литературная. А мы с В<ячеслав>ом и Сомовым в часы наших пиршеств за ризотто размечтались об уничтожении дам и создании гетер - товарищей воистину.
Вчера Аничков отличался, обучившись наконец говорить поистине интересно, сжато и остроумно тоном свободно-ограненного собеседования. Ужасно красиво и истинно говорил о Сомове славный наш Осип Дымов. У Гюнтера, моего Ritter'а (он разносил чай, приносил самовар и следил за всякою помощью мне, т.к. вместо Анюты у меня были помощниками паж и пажица, двое ребетенки <так!> Александры - Таня и Егорушка) - разболелась голова и он ушел до конца вечера. Было страшно удобно бродить по свободной комнате (которую, кстати, мы теперь стали называть hall (139)). Так жарко беседовали, и еще задержал Аничков, проэктируя какой-то грандиозный вечер соединенных искусств с целью сбора, что ушли в 4 часа. Вячеслав уверял, что я была очень красива и одета фантастически прекрасно (Карт. 23. Ед. хр. 17. Л. 32-33).
Третьим апреля датировано небольшое письмо к Ал.Н. Чеботаревской, где Зиновьева-Аннибал сообщала: "Среды процветают. В<ячесла>в будет печатать "Рел<игию> Стр<адающего> Бога" и свою германскую диссертацию. Я написала серию рассказов. Вышли "Факелы", но еще только 400 экз<емпляров>, оттисков "Тени" нет" (Карт. 24. Ед. хр. 22. Л. 12). Значительно подробнее следующее письмо, помеченное "Среда 5 ? дня", т.е. 12 апреля, но в этот день было написано только начало, а продолжено оно, как следует из текста, было 14 апреля, а окончено и вовсе 15-го. Оно замечательно неразрывным переплетением переживаний "обычных" дней и двух первых апрельских Сред (5 и 12 апреля), поэтому мы не решаемся его членить.
Вот когда впервые с болящею спиной, руками дрожащими и т.д. дорвалась взяться за письмо. Было: 1) <1 нрзб> сеансе Сомова и один обед с ним, 2) Среда безумная, на которой посетила нас Ida Aalberg, финская Дузе (140), и визит к ней в благодарность за присланный мне дивный букет красной гвоздики, 3) посещение Соловьевой и визит деловой к Озаровскому, актеру и профессору театрального училища, которые пригласил Вяч<есла>ва читать лекцию о Греции в пользу бедных учеников театрального училища, т.е. чтобы они могли примкнуть к организуемой Озаровском поездке в Грецию, <…> У меня проект собрать все рассказы из воспоминаний детства (1 ? еще осталось дописать) в отдельную книжку "Трагический Зверинец", а "Отрывок из письма" составляет первый рассказ к третьей книге "Брак", вторая будет, вероятно, называться "Юность", там будет <так!> все соцьялистические переживания и трагедия с женою Гудлета и мои романы первые. 4-ая книга будет "Любовь". Напечатается она уже после моей смерти (141). И насколько три первые книги будут правдивы не протокольно, а лишь художественно, настолько эта последняя будет сухая протокольная запись событий и переживаний. <…>
Вячеслав завален делами. Юлия Беляевская упросила его читать лекцию в пользу учителей выгнанных. У него на совести 4 или 5 статьи <так!>. Каждый день в газете Булгакова "Народ" печатают о его двух статьях, и они еще не начаты (142). Нужно приготовить к печати книгу о Рел<игии> Диониса, а ему еще не пришлось приняться, также диссертацию, также хоть начало Cor Ardens приготовить к печати. Собственно, ему не следовало бы уезжать, но, Бог даст, в мае выберемся хоть к концу. <…> Милые, я же давно уже не в Среду пишу, а уже в Пятницу в 9 утра. Напилась кофею и легла писать. Итак, дальше: в Среду меня притеснил Сенилов (композитор, талантливый, по словам Нувеля, одного из устроителей Вечеров Совр<еменной> Музыки), "думали ли вы о Стране Солнца?" (помните, либретто для его оперы?). Я сказала, что заканчивала несколько начатых работ, но что если он мне даст срок недели две и пришлет конспект своего сценария, то я тогда отвечу ему окончательно, могу ли взяться. <…>
Художники наши "Мира Искусства" мои большие друзья и оценщики. Бакст рассказывал мне, что Сомов с ним говорил о моем портрете, а Бакст ему советовал сделать его очень большим, a la David. На днях Сомов напомнил: "Помните, vous etes engagee! Вы не можете мне отказать!" "Да вы ко мне сами охладеете" "Я не могу. Как я вас тогда увидел у камелии в белом и с оранжевой шалью. Этого нельзя забыть". "Да осенью нет камелий!" "Я достану". <…>
Та Среда вышла неожиданно пышная. Я думала, что всем надоели Среды, и в 11 час (было всего чел<овек> 12) отослала Анюту. Вдруг принялись валить. И новые по рекомендации прежних. И Ida Aalberg. Самовар мамин кончается. Я проклинаю судьбу, ибо не имею времени ставить при таком сложном обществе, да и лампу одну нужно всегда долить два раза в вечер. Ida Aalberg моет чашки и в то же время просит экстатического репертуара на будущую зиму. Тэму избирают очень серьезную: Романтично ли современное искусство? Прения открывает В<ячесла>в чтением отрывков из своей статьи в "Руно" (143). И подымает очень глубокий слой своим плугом. Человек сорок и много дам сидят и слушают ораторов, как публика в театре, терпеливо, благоговейно. Только я (в последний раз, ибо обещала В<ячесла>ву и Бердяеву больше не бунтовать, а самой участвовать в прениях) спросила голос (по совету Нувеля и Сюннерберга), чтобы заявить, что ничего не понимаю. Собственно, тэма поставилась так: Что современное движение - романтизм или пророчествование? Вяч. определял признак<и> того и другого и говорил, что пророчествование наше сводится к подготовлению органической эпохи, которая должна сменить теперешнюю критическую (Это будет эпоха интеграции в противоположность эпохи дифференциации: термины, за которые я и разбесилась). <…>
В эту Среду (Ida Aalberg на 2 недели в Финляндии, поэтому тэма "Актер будущего" отложена) была тэма "Факелы"., но литерат<урное> отделение поставлено вперед. Читала жена Щеголева, молоденькая актриса (т.е. теперь она не играет) сначала стихотв<орение> Брюсова "Приходи путем знакомым…" по просьбе Вячеслава на первом месте (по-моему, раззолоченная ложь) очень хорошо, и потом стихотворение В<ячесла>ва "Перед жертвой" ("Факелы") так дивно, что я впервые понял<а>, что актер может читать лучше поэта. У меня чуть судороги не сделались от ее ритмики и трепещущей глубокой интерпретации, а также дивного глубокого голоса. Если бы Вера слышала, он поняла бы, что такое актер будущего, и, может быть, он к ней ближе, нежели актер настоящего. Читали потом Сологуб, Городецк<ий>, Вячеслав три новых стихотворения, Волькенштейн и произвела гром рукоплесканий Ольга Беляевская: какой язык богатый русским словом, сияньем простоты, последнее стихотворение посвящено Ремизову "Кикимора". Оправдание Кикиморы. Ремизов был очень доволен, даже кряхтел. Публика просила В<ячесла>ва прочесть еще стих<отворение> Сомову, которое всем чрезвычайно нравится (даже Батюшкову).
Очень живо прошла тэма. Я вела себя хорошо. Говорила первая, что такое "Факелы", хотя сначала и отказалась, объявив, что у меня ум, мозг не культивированный, потому что университета я не прошла. Но потом все же (так как вышла заминка. В<ячесла>в было предложил, чтобы раньше высказались не факельщики) запросила снова и сказала о расколдовывании мира, т.к. всегда в мироздании не все благополучно и т.д.
Субб<ота> 5 часов. Увы, вчера не отослала письма. Пришел Сомов. При нем Лиза Зиновьева и девочки Блок (144), потом бежали мы трое на обед к Бердяевым и оттуда все на вечер к Манассеиным. Там было общество не обыкновенное их, а изысканное для нас: Ростовцевы, Котляревские, Дымов, Ремизовы, Бердяевы, мы, художник Мурашко. Было весело, даже после ужина пели: Соловьева дивным контральто в темноте без аккомпанемента русск<ие> песни и романсы, потом заставили меня, и я с эффектом и позорно распущенным голосом Habanera, но осветила меня, т.к. я была в красном хитоне с оранжевой шалью. Эффект огромный, прямо фурор. Только Ростовцев и В<ячесла>в божественно серьезны. Комическая штука вышла у Дымова. Он попросил позволение передразнить Вяч<есла>ва, читающего на Среде стихотворение. Встал в позу, поправив пенснэ рукой, прижав его к носу. А я говорю: "Нет, не позволяю, вы плохо передразниваете!" а он вдруг ко мне: "Ты мне своими шашнями отравляешь все Среды!" Хохот невероятный и т.д. Подражал В<ячесла>ву бесподобно, особенно в манерах… (Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 5-11).
18 апреля, во время сеанса Сомова, у Ивановых появился второй раз М. Кузмин. И если первый его визит оставил обе стороны неудовлетворенными, то, по воспоминаниям самого Кузмина, "с первого же моего прихода на Башню во время Сомовского сеанса вопрос о дружбе моей с Вяч. Ив. был решен" (145). Для довольно многих событий конца весны и лета 1906 года этот визит был весьма значимым.
Сезон Сред был закончен довольно рано, 26 апреля. И снова при описании последних двух собраний Зиновьева-Аннибал не может отделить их от прочих событий собственной жизни, что свидетельствует о том, что слияние казалось бы решительно отделенных друг от друга сторон действительности уже произошло; при этом оно начинает осложняться новыми замыслами, как официальными, так и неофициальными. Из действительных издательских дел отметим учреждение нового сатирического журнала "Адская почта" (его вышло всего 3 номера), а из дел сугубо интимных - основание общества "гафизитов", также решенное во время последней среды.
И еще кажется нужным подчеркнуть, что теперь Зиновьева-Аннибал решительно отодвигает в сторону политику и требует от своей эпистолярной собеседницы того же. То, что еще так недавно во многом определяло обстановку Сред, теперь становится пережитком, основные устремления Ивановых и их гостей все более и более удаляются от текущих событий. Письмо, которое мы воспроизводим в наиболее значительной его части, писалось с 24 апреля по 1 мая (146).
Уже утром отправила картолину. Но это последняя неделя такого ужаса. Последняя Среда. <…> Та Среда: 41 чел. Тема: вновь о "Факелах" и мистич<еском> анархизме. Лит<ературное> отд<еление> - стихи: читала Щеголева Верхарна в переводах Брюсова и еще раз "Перед жертвой" (в Понедельник перед той Средой мы ходили к ней с Вячеславом и свезли его стихотв<орение>, написанное им ей в благодарность за прочтение (147). Она была так тронута, что говорила, что это счастливый день ее жизни и она как во сне. Она прелестного типа, тонкая, застенчивая, внутренная женщина. После нее я была у мамы (148) и не застала, и еще у Блоков - поэта с женой <…>). После Щеголевой читал Городецкий и по требованию публики еще раз Вячеслав читал терцины Сомову "О Сомов, чародей…" и "Фейерверк" ему же по поводу его картины на выставке. Потом Белый читал свою карикатурную (149) статью "Феникс". Было скучно большинству, но Вяч<есла>в увлекал и пришел в восторг, больше от снова блеснувшей надежды найти нить общую с Белым… Только я порасхолодила их, спросив Белого, не черным ли пуделем чертовским кончает он свою теодицею. В течение этой ночи несколько раз гости лазали на крышу, сначала при звездах, потом к утру, уже при свете. Вид и освещение были фантастичны и совсем невероятны. Мы бродили на семиэтажной башне вдоль карнизов и в месте труб по бесконечной крыше нашего дома-великана. На мне был бледно-лиловый хитон с белою шалью. Это было красиво в утреннем свете. <…>
Четверг 7 час. утра. <…> Апофеоз Сред - наша прощальная Среда. Напрасно считать гостей, их было за пятьдесят. За время прений "В чем состоит Красота Жизни?" посреди hall нашей я втиснула между креслами и стульями ковер, и мы сели на пол: Сомов, Кузьмин <так!>, Чуковский, Настя Чебот<арев>ская, я и еще другие. Нам принесли изумительный букет из больших лилий, роз, гвоздики, гиацинтов, прямо великан, как подают любимцам-артистам с <1 нрзб> розовыми лентами, где золотыми буквами отпечатано: "Лидии и Вячеславу Ивановым от друзей Сред". Это было epatant воистину. Также от Ремизовых явился куст ромашки - целая роща, т. что когда его поставили, комната оказалась ромашковым лесом. Лазали на крышу. Там говорились стихи. Потом продолжались прения. Поставил Вячеслав вопрос, к какой красоте мы идем: к красоте ли трагизма больших чувств и катастроф или к холодной мудрости и изящному эпикуреизму. Это то, что все это время занимает меня как проблема душевная и художественная. Много виноваты в столь острой постановке ее во мне - Сомов, Нувель и их друг поразительный александриец поэт и романист Кузьмин - явление совсем необыкновенно<е> и тихим ядом изысканных недосказанностей приготовляющий новое будущее жизни и искусству и всей эротической психике человечества. Есть у нас заговор, о котором никому не говори: устроить персидский, Гафисский кабачок, очень интимный, очень смелый, в костюмах, на коврах, философский, художественный и эротический. На будущей неделе будет первый опыт. Пригласили мы основатели т.е. Вяч<еслав>, Сомов, я и Нувель еще Кузьмина, Городецкого и, увы, Бердяевых (боюсь, что они не подходят, потому что в них нет ни тишины, ни истинного эстетизма). Прощание со Средами было совершенно неожиданно трогательным. Да, после прений читалось еще немало хороших стихов, Щеголева прочитала В<ячесла>ва "Бессонницу" и Брюсова "В публичном доме", читал много Городецкий. Меня Вячеслав заставил председательствовать, что я делала со всяким комизмом и анархизмом, хотя Сомов любовался на мой силуэт на рассветном небе. Ушли около 4 ? утра. Прощались все так ласково и по-человечески, что не хватало место <так!> на моих руках для поцелуев, а с дамами (обе были впервые - Лукш-Маковская, скульптор венский, и еще кузина Сюннерберга, очень глубокая и, кажется, несчастная девушка) всеми прощалась горячими поцелуями, даже с некоторыми мущинами, и какая-то несомненная атмосфера любви и растворения одиночества индивидуального существовала в этот вечер. Городецкого мы оставили ночевать. Еще бродили по крыше, я поставила самовар, пили чай. Говорили странно без решеток о любви, он сказал свой роман (150). Легли все в 8 утра. В 11 он убежал "с Кольцами в зелень", как написал на записке в кусте ромашковом. Но нельзя написать мало-мальски адекватно истине. Я не умею найти стиль для этих дневников. Даже рябь поверхности не передается, и так многое не могу сказать, потому что показалось бы странным и не тем. Как же сказать черный фон глубины, трагедии, на котором мы ведем свой хоровод муз… Ведь 26-ого - Среда была кануном 27-ого! и (sic) ни слова не было сказано о Думе (151). - И, ради Бога, не пиши мне о политике. Неужели ты не замечаешь, что я не пишу никогда о ней, ты же наполняешь ею две страницы. Для меня, впрочем, политики не существует и не существовало. Если невозможное 18-го октября осталось навек невозможным, -- я молчу, я "посыпала главу пеплом" и молчу. Пусть все совершается, как совершалось всегда и совершится. То я не хочу, то не мое, не моего Бога. Молчи и ты со мною. - Каждое слово, произнесенное в этой области, ссорит меня с Вячеславом. "Одним Всецелым умирима и безусловной синевой" (152). Он написал это обо мне, но он же и восстает за это на меня. Моя индивидуальность крепнет, и крепнет новая жизнь, которая не хуже прежней, которая заманчива и хочет быть легкой, легкой, как пляска на туманах утренних над бездною… Я не мирюсь ни с чем…
Думаю, что из написанного ничего нельзя понять. Все равно. Хуже, если поймется превратно; лучше уж ничего.
Понедельник 1 Мая. Впрочем, последние три страницы были написаны также сегодня. Что было после той еще Среды 19-ого Апр<еля>? В пятницу обедали у меня Сомов и Нувель. Это интимно эстетический и, скажу, эротический наш кружок. С ними входит атмосфера какого-то глубоко красивого эпикуреизма в его истинном смысле с его фоном трагической мудрости, ведающей безнадежность мира. Они оба люди очень добрые и очень честно относящиеся к России. А Сомов еще вдобавок великий художник. Нувель нас прямо полюбил как потребность умственного и душевного общения, почти прибавила бы и физического, если это можно понять очень верно и совершенно, впрочем, в прямом смысле.
В Субботу у меня иной обед: Белый и Аничков. Белый, скользкий холодный угрь <так!>, к которому я была очень ласковою и поста<ра>лась из-за всех сил <так!> отнестись к нему с нова <так!>. Он платил мне сто тысячами улыбок и "ах" вежливыми и соответственными и казался очень тронутым, но, увы, не верю в угрей скользких и холодных. Москва враждебна и не симпатична, т.е. Москва нового искусства. Аничков засиделся долго и рассказывал трагедию своей жизни. Мы были очень с ним ласковы. <…>
5 1/2 веч. <..> Во вторник было на сеансе Сомова заседание "Адской Почты": Дымов, Куприн, Гржебин, Чулков (не пришел), Сомов и Вячеслав. Читались рукописи для 1-ого №. Приняли мой "Отрывок из письма о неблагополучии мира", в особенности понравившийся, даже заживо <так!> задевший Куприна. Сомов сказал (это сплетничал Вяч<еслав>, потому что я отсутствовала на заседании. Они только попросили меня прочитать им. Это было как-то не очень приятно лично отдаться на суд. Меня "Скорпион" (с которым я поссорилась) все-таки избаловал безусловным приемом всякой моей строчки) Сомов сказал лаконично и веско: "Мне нравится и по форме и по содержанию". (Кстати, "Адская Почта" выходит на днях. Еще не вышла). Они отвергли Арцыбашева, Ремизова, самого Куприна (он не решился прочитать, сказав, что сам находит вещь свою плохою), одну вещь Горького. Другую Горького приняли. Итак, в первый № выйдет из рассказов фундаментальных Горький и я. Ужасно мне стало жутко. <…>
Был Чулков и читал стихи свои новые недурные. Когда все ушли, мы с В<ячесла>вом сели к окну и тихо я прочитала ему роман "Крылья" Кузьмина, совершенно тонкая, новая и ядом тончайшей красоты пропитанная вещь (153). Это был вечер поэзии. В пятницу мы были вечер у Добужинских <..> В Субботу был у нас троих интимный пир по случаю оконченного портрета. Сомов принес дивный горшок с пятью лилиями В<ячесла>ву и большую гортензию голубую мне. Я ездила в город с утра и купила курочку, закусок, чесноку и масла для салата и 2 бут<ылки> шампанского. Пили, говорили без конца, очень любили друг друга и разошлись к 2-м часам (Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 12-20об).
Отметим, что подробное описание последней официальной Среды сделано в дневнике Кузмина (154). Но своеобразные итоги всего сезона подводились как в печати (155), так и в переписке. В несколько шутливом тоне, но оттого не менее серьезно Блок писал В. Пясту: "В деревне буду отдыхать и писать - и мало слышать о "религии и мистике", чему радуюсь. В последнее время не бывал нигде, но все еще, пройдя экзаменное горнило, чувствую "жар и зной" последних "сред", на которых, по рассказам, многотысячные толпы алчущих все еще… говорили о "мистическом анархизме". При этом, ввиду сильного атмосферического давления, многие говорили на крыше, вися над безднами, и с высоты седьмого этажа видели, как за освещенными окнами "думает" новое правительство" (156). Тому же Пясту сообщал С.М. Городецкий: "Бывал на последних средах, но приходил поздно. Ото всего этого как-то отхожу. Темные места сред и тому подобного особенно выделяются. <…> В искусстве несомненно нарастает совсем другое, чем говорится, думается и пишется. Такие факты как Ремизов, новый фазис Бальмонта, пропускаются без внимания… <…> Нужно отметить опять из литературы: 1. Стих<отворение> В. Иванова "Сомову". Чудесные терцины, дающие полную характеристику, до самых подробностей, почти со зрительными впечатлениями. 2. Стих<отворение> Блока "Незнакомка"" (ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 246) (157).
С закрытием официального сезона можно было бы ожидать снижения интенсивности встреч, однако по крайней мере еще на месяц затянулись Среды ("Среды еще бывают, неофициально", -- писал С.М. Городецкий Блоку 3 июня [ЛН. Т. 93, кн. 2. С. 26]), и еще более заняло внимание обитателей "Башни" новое предприятие - кружок "гафизитов". Поскольку практически все материалы, относящиеся к нему, уже обнародованы (158), мы можем обойтись лишь краткой формулировкой той ситуации, которая сложилась на "Башне" в начале мая: редким и неофициальным Средам сопутствовали встречи интимного кружка, построенные во многом на отталкивании от обстановки Сред: вместо продуманной и выдерживаемой программы - вольное общение; вместо серьезных философских обсуждений - или вообще отказ от них, или же приход к высоким вопросам через игровые ситуации; вместо почти безгранично широкого круга посетителей - строго ограниченная группа; явно отличались внешность присутствующих (на "Гафизе" было принято переодеваться) и их манеры ("Все были на "ты", как в маскараде, и у всех были имена", -- вспоминал Кузмин в 1934 году). Нельзя не упомянуть и сильную гомоэротическую настроенность многих "гафизитов", в том числе и самого Иванова.
Ретроспективно Кузмин писал: "…"Гафиз" закрылся. Всего было собраний семь-восемь с разными промежутками. Влияние его, однако, если посмотреть теперь назад, было более значительно, чем это можно было предполагать, и распространялось далеко за пределы нашего кружка" (159). Кажется, число встреч было Кузминым преуменьшено, особенно если считать не только те, где собирался кружок в полном составе, но и те, где отсутствовал ряд членов. Во всяком случае, мысли о продолжении или возобновлении "Гафиза" существовали по крайней мере до лета 1907 года. Мы же ограничимся здесь информацией о внегафизических встречах и времяпрепровождении Ивановых до радикально переменившего их жизнь события - отъезда Зиновьевой-Аннибал в Женеву, состоявшегося 8 июля. Башенная жизнь этого времени подробнейшим образом описана Ивановым в письмах к жене, которые фактически представляют собою дневник и предполагаются нами печати именно в виде дневника Иванова 1906 года. С ее возвращения началась совершенно другая жизнь, которая должна быть представлена уже не с опорой на письма к Замятниной, а на основании других источников.
В недатированном письме Зиновьева-Аннибал описывала первые встречи после завершения официальных Сред. События, о которых идет речь, происходили 30 апреля, 2 и 3 мая.
Что касается продолжения дневника, то я остановилась на вечере в воскресенье у Манассеиных. Там было много выпито и немного слишком шумно. Но в конце вечера, вернее, ночи, когда уже кружок стеснился, что-то прекрасное случилось с Ростовцевым, который все повторял: "Слушайте, я это говорю теперь и больше никогда не скажу", и открыл перед нами глубоко экстатическую душу, призывающую Чудо и живущую только верою в древнюю живую Красоту. Потом он характеризовал Куприна и Вячеслава, и всех нас (меня - как написавшую Кольца), благословил на наше дело! Он был так прекрасен и говорил так умно и остро-проникновенно, что я была как в прекрасном волшебном сне. И прощаясь, я поцеловала его в губы. А перед тем, как мы дико спорили на тэму "О вражде полов", где были выбраны представителями - я от женщин, Allegro от мущин. И я велела мущинам любить мущин, а женщинам женщин с влюбленностью древнего Эроса, и при встречах страстных между двумя полами не скрывать от себя свою вражду.
Пусть так окрепнет каждый пол и вызреет в великий и прекрасный тип, и тогда, быть может, в момент высшей силы через много поколений встретится мущина и женщина великою встречею любовного слияния. Но теперь борьба и, конечно, не за равноправие, а за первенство.
Тут перешел разговор или, вернее, страстные прения на физические доказательства преимущества мущин как силы активной и потому могущей дать или не дать. На что я, мне кажется, нашла спасение в соображении, что если зарождение человечества и в руках мущины, т.е. его воли, зато в воле женщины рождение, и не захочет она - все усилия мущин будут излишни: она умрет, но с собою унесет и человечество. Останутся горы, цветы и звери. Началась беседа с речей в хвалу льда и вина. В<ячесла>в говорил о высшей красоте аполлинической многогранного и кристального льда и холоде Красоты и его союзе с огненным Вакхом.
Была очень интересная женщина, феминистка крупного типа - амазонка с секирой, жена одного художника. Она принадлежит к обществу женщин во имя Красоты пляшущих и фехтующих нагими. Но это она сообщала тайно. Впрочем, ее имени не выдаю и прошу этого чужим не читать.
Вернулись в 7 часов.
Во вторник было важное собрание, о котором писать не имею права по общему согласию его членов-друзей (160).
Среда все же собрала человек двадцать, более близких. Темы не ставили принципьяльно. Прошло с шутками, и ловко передразнивали лиц: Дымов и Аничков. Но чувствовалось, что люди от Среды требуют Среды и недовольны, когда она как просто вечер (Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 9-10об).
Несколько подробностей в описание Среды добавляет дневник Кузмина: "…немногочисленность гостей, большая привычка к ним делало более уютности. Аничков представлял всякий вздор, потом Дымов. Вяч<еслав> Ив<анович> обиделся на Нувель за вчерашнее <…> Разбирая, кто похож на какое животное, меня сравнили с серной…" (161).
Еще одна известная нам Среда состоялась 24 мая. Зиновьева-Аннибал писала о ней в недатированном письме так:
Среды стали скромными, хотя прошлая, благодаря душе Гафиза, присутствовавшей на ней (были и Гафисцы <так!>), оживилась. Дурачился Бердяев, его выбрали председателем, мы легли на ковер на пунцовую занавесь, головой на пунцовой (твоей) подушке, к его ноге прикрепили звонок, и так он председательствовал. Тема - "О поле". Сначала Ремизов говорил ужасно забавные и страшно смелые вещи, и стоял хохот, потом В<ячесла>в перевел все на физико-мистико, т. сказать, и стал диспут серьезным очень. Были писатель датчанин и скрипачка датчанка, его подруга, с которой умеющие говорили по-английски. Она играла. Когда ушли не Гафисцы и Бердяев, остался состав Гафиза, и до шести утра, встретив еще в 3 часа солнце, продолжали тему на вопрос о том, что такое поцелуй, диспут шел полу по латыни, ибо уже говорилось все до конца. И было многое сказано хорошо, и много вышло наружу правды. Мы теперь видаем людей столь разных, что прямо непонятно и прекрасно. Вчера днем была Колмакова, прекрасная, горящая душа, С.Д. и ищущая духа и добрая до полной красоты. Была несчастная талантливая Мирэ, которую я грею, как могу (она была изнасилована 15 лет, 20-ти в политической ссылке, а потом в Париже, брошенная любовником, сделалась моделью), теперь она пишет, и недурно, живет этим впроголодь, уже некрасива, хотя всего ей 32 года. - А вечер провели у Кузьмина, где слушали его песни Александрийские, подарившие мне мир, ощутимый гармонический мир красоты, слитого с душою неразрывно и верно тела, покорного Майе, и мудрого отречением от познания. Александрии не исторической, а какой-то "Каковии" тонкого, пьянящего сладостно поэта. Кстати, и красив экзотично Кузьмин, которого я назвала (и все "друзья" приняли) Антиноем. <…>
Вячеслав и Чулков на днях выпускают книжку филос<офских> статей факельных. У Вячеслава тоже сто замыслов. Принялся с жаром за "Прометея", а нужно начать печатать свою большую книгу статей и диссертацию. И хочется писать роман "Северный Гафиз" и т.д. и т.д. (Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 37об - 39 об).
В уже цитированном письме к Блоку С.М. Городецкий также вспомнил именно эту Среду: "Председательствовал Бердяев, лежа на полу, потому что говорили о поле. Все вопросы нерешенные, у Иванова четыре пола, у Бердяева преодоление смерти не родом (семьей), а замкнутой личностью. Ремизов за детей. Выразился по-ремизовски. У меня два пола и Третий (бог, сущее, экстаз), создаваемый их слиянием. Никто ничего не узнал, а говорили долго" (ЛН. Т. 93, кн. 2. С. 26). Довольно подробен был Кузмин, в дневнике своем зафисировавший присутствие всех "гафизитов" (в том числе и исключенной Л.Ю. Бердяевой), Ремизовых, Б. Лемана и датского писателя О. Маделунга. Относительно содержания беседы он записал: "Бердяев председательствовал, лежа на полу между свечей, со звонком, привязанным к ноге, и потом отлично говорил. С тем, что говорил Вяч<еслав> Ив<анович>, я не был согласен ни с чем. Ремизов ехидно и коварно шутовался, все говорили враз и потом долго отдельными группами с жаром и с интересом. Датчанка смотрела, будто готовая сойти с ума. Говорил и Городецкий, постепенно как-то по-новому освещающийся для меня. Потом остались одни гафисты и долго еще беседовали о поцелуе, было очень много словесности и мережковщины, и я был очень рад, когда Сомов сказал, что скорее всего согласен с моим мнением, которое было найдено циничным" (162).
Эта особенность существования "Башни", где разгорались не только словесные обсуждения, но и вполне плотские вожделения, так что Зиновьева-Аннибал была даже вынуждена задуматься, подходят ли они старшему ее сыну. Вообще Сергей Константинович Шварсалон (1887-1940-е?), после блестящего начала школьной жизни доставлял матери и отчиму немало хлопот. В 1905 г. он начал слушать лекции в Женевском университете (163), после возвращения в Россию учился в Дерпте, куда попал по протекции Иванова, доставляя родителям немало хлопот. Но еще только обдумывая его возвращение, 19 мая Зиновьева-Аннибал написала Замятниной тревожное письмо: "Как будет жить Сережа. В конце концов случилось, что квартира стала тесна. При таком напряжении всех сил, при таком круге знакомств я должна, чтобы жить, иметь свой тихий угол для сна и труда. Вячеслав живет совсем своею жизнью, и здесь жизнь такая страшно неумолимая, что если нарушится равновесие, прямо ужас меня берет, что не выдержит силами и что не совершит намеченного и необходимого круга. Затем образовавшийся тесный круг друзей наших такой своеобразный и такой своеобразно-интимный (Сомов, Нувель, Кузьмин, Бакст, Городецкий), что новая, своя жизнь Сережи не должна бы стесняться этою нашею установившеюся своеобразно жизнью. Он должен бы иметь всегда приют умственный и сердечный у нас, но быть свободным от нас и нам оставлять нашу свободу от родительства" (Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 33об-34).
Но пока что, без него, жизнь продолжается своим чередом. 4 и 5 мая мы находим Ивановых в гостях у Кузмина, 8 мая состоялось второе собрание "Гафиза". 10 мая прошло и третье его собрание (без Кузмина, который записал на следующий день: "…говорят, было скучно. Бакст все-таки предлагает некоторую ритуальность и символичность" (164)). 12 числа Кузмин приходит к Ивановым в гости. 16 числа Зиновьева-Аннибал сообщает Замятниной: "Только что Вяч<еслав> хворал какой-то желудочной инфлюэнцией. Но при этом все писал свои статьи: Предисловие к книге Чулкова, и в "Руно", и ответ Брюсову в "Весы" в защиту "Факелов" (165). А я вчера написала рассказ: "Тридцать три урода" (166). Это моя мука высказалась в очень странной форме. Задуман он давно. Только, увы, так как я рассорилась с "Весами" и не в мире с "Руном", то поместить такой рассказ - негде. Ужасно это" (Карт. 23. Ед. хр. 18. Л. 25 об-26).
В тот же день, 16 мая, прошел очередной вечер "Гафиза", описанный в дневнике Кузмина. Но, видимо, после этого Иванов опять почувствовал себя больным. 20 мая Ремизов написал В. Пясту: "Вяч. Ив. Иванов захворал…" (167). Об этом говорит и то, что Кузмину 17 мая застать Ивановых дома не удалось. 22 мая прошел подробно записанный Кузминым вечер "Гафиза", 23-го Иванов был у него в гостях, 24-го, как мы уже писала, состоялась Среда, после чего на следующий день Ивановы снова были у Кузмина в гостях, долго слушали его песни, потом гуляли. Зиновьева-Аннибал описала этот визит в письме от непонятного числа (сохранился отдельный лист): "Вчера были у Сюннерберга, куда всю зиму я не могла собраться. Каждый вечер как-то приходится проводить с Сомовым, и вчера с ним была интересная беседа. Но вечер был утомителен и неинтересен. До этого еще были мы с В<ячеславом> (я поспала раньше и пришла за Вяч<есла>вом туда к 10 час. веч.) до 11 ? ночи у Кузьмина. Он играл и пел свои поразительно изящные и неожиданные композиции. Между прочим, и на стихи В<ячесла>ва "Виноградник свой обходит…", который он написал уже давно. Он человек сложный бесконечно, и вместе с тем цельный как вылитый со своими глазами-звездами и ласковой речью древнего Александрийца. Сегодня устала, устала и устала. Кстати, сильно кашляю. А на дворе жара дикая, в тени 23 ? Реомюра! Но на башне божественно хорошо. И с В<ячесла>вом политических разговоров нет. Он весь в распланировках и устройствах своих книг" (Карт. 23. Ед. хр. 19. Л. 11 и об).
26 мая, как мы узнаем из дневника Кузмина, большую часть дня и весь вечер у Ивановых был Ю.Н. Верховский. 27 мая у них обедал Кузмин, после обеда Иванов отправился в редакцию "Адской почты", а Кузмин с Зиновьевой-Аннибал - в Таврический сад, что весьма выразительно описал в дневнике. 29 мая прошел очередной "Гафиз" без Сомова и Бердяевых. 31-го состоялись похороны матери Сомова на кладбище Новодевичьего монастыря, а вечером - подробно описанные в дневниках Иванова и Кузмина беседы с Нувелем, Бакстом, Сюннербергом и Кузминым, а потом с видными кадетами С.А. Котляревским и П.Б. Струве. Что касается этих последних, то Иванов был хладнокровен; Кузмин с его отвращением к политике - недоволен, Зиновьева-Аннибал же была даже еще более решительна, чем Кузмин, описывая вечер в письме к Замятниной от 4 июня. Впрочем, мы приведем письмо более обширно, чем только этот момент:
Дорогая, нежно любимая Мару, события вот : Еще Гафиз, но увы без Сомова.: у него умерла мать тою же болезнью, как и моя (я ее не знала). Когда я с В<ячеславом> приехали во вторник на панихиду, то он подошел ко мне у гроба и поцеловав мне руку, поцеловал в губы. Это меня до глубины тронуло и навек соединило с ним. Ты не знаешь, что за красота в этом тонком, из дивных противоречий сплетенном художнике, он весь одно произведение искусства, и он не виноват, что Баксту недоступно нервное его лице бледное матовою, густою бледностью, к которой так идет зеленый цвет, умный, то нежный, то шаловливый взгляд его темно-карих, почти черных глаз и милая непокорная мальчишеская растрепанность непокорных темных волос. Может быть, он не красив. Может быть, мал ростом, несколько полн, но я не желала бы изменить черты и повысить его на дюйм. Его небольшие, недлинные руки с пальцами-змейками (каждый последний сустав легко загибается вверх: это их особенность) я безумно люблю. Это какой-то фетишизм. Я целовала каждый палец, и не могу видеть эти руки возле себя без мучительного желания ласкать их и прижимать к щекам, к губам…
В Среду хоронили в Новодевичьем. Познакомились со всею семьей: отцом, невесткой покойного брата, детьми ее и сестрой Конст<анти>на Андреевича. Вечером была чепуха. Гафиситы, вечно прибегающие теперь к нам, пришли (кроме Конст<антина> Андр<еевича>) и… Струве и Серг<ей> Андр<еевич> Котляревский - два тошнявых кадета, принесшие из "Дворца" в "Башню" свою скуку и свои карканья. "Мы прикованы к тачке долга политического, к тачке скуки!" -- и плакали оба о культуре, причем один говорил, что ее не было, другой - что она пропала, но оба говор или, что все же ее носители - кадеты. Один пророчил 5 лет революции и варварства, другой 50 лет!
Пришли они в 12 1/2 ночи, а в 2 скатили свои тачки с башни вниз. <…> рояль мой приехал, и в Пятницу и вчера Гафиситы весь вечер, всю ночь пели и играли. Также я. Сомов бы<л> в пятницу. Встречали солнце вместе из моей комнаты, где в одной стене <рисунок> два окна дают мне последний красный луч и первый золотой. Ужасно странно: у Сомова оказался теплый, глубокий баритон. Вчера Нувель и Кузьмин (Петроний и Антиной) обедали: ризотто, гулаш венгерский с кр<асным> перцем и апельсины. Состояние мое такое: если бы был огромный талант, то написала бы великие, вечные произведения, ибо душа моя большое пустое пространство, где образ за образом отражается чисто и бесцельно, и счастием полно сердце над разнообразием мира. И не нужно единения ("Пламенники"). С В<ячесла>вом заключилась жаркая, безразрывно верная любовь.
Целую. Лидия.
P.S. Хотя никогда мы так ярко не расходились, как теперь (даже буквально ссорились не на шутку). Он утверждается в своем облике пророка и апостола, а я - беспринципного созерцателя (Карт. 23. Ед. хр. 19. Л. 4 - 5 об)
Иванов и впоследствии будет обращать внимание на политические события: роспуск Думы, Выборгское воззвание, слухи о введении чрезвычайной охраны - все это отражается в его дневнике и письмах, в отличие от писем Зиновьевой-Аннибал. Но, собственно говоря, дальнейшее перечисление событий на "Башне" вряд ли имеет смысл, поскольку практически все документы, содержащие сведения о них, уже опубликованы. Это дневник Иванова за 1-17 июня (II, 744-752) (168), дневник Кузмина, письма тех же лиц, а также Сомова. Единственное содержательное письмо Зиновьевой-Аннибал также было уже ранее опубликовано. Но и то, что мы узнаем из этих писем и дневников, уже в гораздо большей степени является частной жизнью, чем то, о чем мы говорили ранее.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СРЕДЫ У ВЯЧ ИВАНОВА:
ХРОНОЛОГИЯ
1905
7 сентября. Первая Среда (?)
14 сентября. Чтение стихов и прозы с участием К.Д. Бальмонта.
21 сентября. Чтение стихов В. Пястом. Беседа Вяч. Иванова и Мережковского.
28 сентября. Без определенной программы.
5 октября. Вечер "реалистов". Чтение рассказа М.АП. Арцыбашева "Тени утра"
12 октября. Беседа о событиях современности.
19 октября. Беседа о событиях современности в присутствии "реалистов".
26 октября. Неизвестно, состоялась ли.
2 ноября. Чтение рассказа А.П. Каменского "Четыре".
23 ноября. Чтение стихов.
30 ноября. Прения о поле (Вяч. Иванов и В.В. Розанов).
7 декабря. Собеседование о любви
14 декабря. "Одиночество и анархизм".
21 декабря. Доклад А.И. Гидони, диспут Вяч. Иванова, Мережковского и Сюннерберга.
28 декабря. "Религия и мистика". Прервано обыском в квартире Ивановых.
1906
4 января. Беседа о событиях современности.
11 января. "О декадентстве как философски-идейном движении".
18 января. "Религия и мистика" (доклад Л.Е. Габриловича), Чтение стихов.
25 января. Чтение стихов.
1 февраля. Чтение прозы и стихов. Беседа "Федор Сологуб".
8 февраля. Чтение стихов. Беседа "О ритме".
15 февраля. "Социализм и искусство" (доклад Е.В. Аничкова).
22 февраля. "О Черте".
1 марта. "Искусство будущего"
8 марта. "Искусство будущего" (продолжение)
15 марта. "Искусство будущего" (продолжение).
22 марта. "О счастье для современной души".
29 марта. "Верность земле" (доклад Дерибаса)
5 апреля. "Романтично ли современное искусство?"
12 апреля. Чтение стихов. "Факелы".
19 апреля. Чтение стихов. "Факелы" и "мистический анархизм".
26 апреля. "В чем состоит красота жизни?"
3 мая. Неофициальная Среда без темы.
10 мая. Нет сведений.
17 мая. Нет сведений (видимо, не состоялась).
24 мая. Беседа о поле.
Примечания:
© N Bogomolov
|