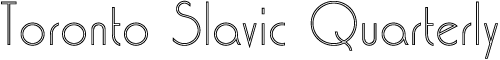ВЕРА МЕРКУРЬЕВА
"Умейте жить минуткой"
Подготовка текста и комментарии Т.Ф. Нешумовой
Настоящую публикацию можно рассматривать как дополнение к недавно вышедшей книге: Вера Меркурьева. Тщета. Собрание стихотворений / Составление, подготовка текста и примечания В.А. Резвого. — М.: Водолей Publishers, 2007. (Далее: ТЩЕТА).
В первом разделе мы публикуем стихотворения В.А. Меркурьевой, преимущественно альбомного характера, часто написанные "на случай". Во втором разделе — стихотворения, написанные ею в соавторстве, большей частью вместе с А.С. Кочетковым. Третий раздел составили стихотворения, опубликованные в указанной книге в беловом виде, здесь же мы восстановили строфы, вычеркнутые автором из окончательных редакций. По нашему мнению, информация об этих строфах, несомненно иллюстрирующая ход творческих поисков Меркурьевой, существенна и должна была бы быть отражена в соответствующих комментариях.
Раздел 1.
Е<катерине> — М<ихаилу>
Все потеряв, и бросив, и отринув,
покинув дом, и скинию, и склеп,
мы вышли ночью — несколько песчинок —
искать веками чаемый вертеп.
Пути к нему, смиряясь, волхв не знает,
о нем пастух, встречаяся, молчит.
Но вот гляди: с небес звезда двойная
льет синие и желтые лучи.
За ней, к нему. Но, затаив дыханье,
едва себе осмелимся сказать,
что светят нам в ее двойном сиянье
то светлые, то темные глаза.
Что здесь они тоскуют с нами рядом,
как мы — в дорожной тусклые пыли,
что там они взирают вечным взглядом
с высот небесных в глубину земли.
Что, может быть, как нам — они, кому-то
и мы — лучей таинственная быль,
А наше всё страдание и смута —
лишь звездная сияющая пыль.
Что в хороводе, легком точно воздух,
бескрайном, как весенние поля,
не различить нам — что глаза, что звезды,
не разобрать, где небо, где земля.
Что, наконец, не знаем лучшей доли,
как в небесах взойти на Млечный Мост —
и, обомлев от счастия и боли,
пролиться ливнем падающих звезд.
25 VI <1>922
РГАЛИ. Ф. 2209. Оп.1. Ед. хр.16. Л.48об.-49.
Предположительные адресаты стихотворения — участники кружка "Вертеп" — М.И. Слободской (см. о нем ниже) и Е.А. Корыхалова. О литературном кружке "Вертеп" см.: М.Л. Гаспаров. Вера Меркурьева (1876-1943) Стихи и жизнь/ Лица. Биографический альманах. Вып.5. М.-СПб., 1994. С. 65. (Далее: Гаспаров).
М.И. Слободскому
На 4 (17) и<ю>л<я> <1>926 г.
"Онегинская строфа"
Перестоявшись, киснет нектар,
Впрок солят только огурцы.
Давно и "Новь", и сам "Прожектор"
Простерли к Вам свои столбцы.
Вас извещает Тахо-Годи,
Что он к осенней непогоде,
Мечтой иль Павловым влеком,
Готов издать Ваш первый том.
А Вы — писанием "методик
И восхожденья" занялись,
Вы — наш arbiter и стилист,
Инструментатор и мелодик!
Вот так-то, чтя полезный труд,
Поэты улицу метут.
Но нет, земли ничтожный сор
Не затемнит правдивца взор,
Не заградит уста поэта
Чужой молвы бездушный толк —
Свой щедрый дар, свой вольный долг
Ты вспомнишь, данник Мусагета!
Уйдешь от ласковых долин,
Как ветер волен и один,
Туда, к пустынной горной келье,
Где буря правит новоселье.
И там увидишь землю ты
Такой покинутой и пленной —
Что к ней рванешься с высоты
Потоком песни солцепенной.
Кап-Кой
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л. 55об.-56об.
Первая строфа этого стихотворения ранее публиковалась по письму М.Л. Гаспарова в статье Е. Тахо-Годи: "Поэт под инженерным кэпи…" (О Сергее Аргашеве, Валерии Брюсове, Вере Меркурьевой и некоторых других, а также о пользе семейных преданий и архивов) // Контекст: 2003. Литературно-теоретические исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 203-224.
Вопрос, являются ли вынесенные в заголовок фамилия и инициалы авторским названием стихотворения или только посвящением, спорный. В списках Е.Я. Архиппова это названия. Причем, в текст заголовка он иногда включал и имя автора: "М.И. Слободскому — В. Мерк<урьева>" — именно так выглядит в его тетрадях заглавие одного из публикуемых стихотворений.
Михаил Иванович Слободской (1895-не ранее 1934) — поэт, журналист, переводчик с языков народов Северного Кавказа. Вот что написано о нем в статье второго тома словаря "Писатели современной эпохи", подготовленной по материалам Архиппова (не подписана, как и все статьи этого справочника): "род. … в с. Рассказове Тамбовского уезда в семье крестьянина. Через 2 года отец ушел в город и приписался к сословию мещан. С. окончил 1-е тамбовское реальное училище. Высшее экономическое образование было прервано призывом в армию. Живет во Владикавказе; в 1922-24 гг. состоял в местном поэтическом кружке "Вертеп", руководимом поэтом Верой Меркурьевой. Впервые выступил в печати во фронтовой газ. "Голос окопа" (1917. №№ 29, 33. Изд. комитетов военных депутатов частей 32 корпуса). Участвовал в газ. "Власть труда" (Владикавказ), в журн. "Студенческий журнал" (Тамбов, 1918), "Грядущая культура" (Тамбов, 1918-19), в сборн. "Золотая зурна" (Владикавказ, 1926) и др." (Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь. Том второй. Книга подготовлена к изданию Н.А. Богомоловым. М., 1995. С.179). В РГАЛИ есть его фотография 1931 г. с Меркурьевой и Архипповым в фотоальбоме Архиппова (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед.хр. 119. Л.9). В перечне русских венков сонетов Архиппов упоминает о "Венке сонетов Пречистой деве" И. Слободского ("Набрав иных цветов в саду воспоминаний / Тебе, Пречистая, сплетаю я венок". Петроград. <1>917". (РГАЛИ. Там же. Ед. хр. 101. Л. 66). Он был опубликован: И. Слободской, прот. Венок сонетов Пречистой Деве. Пг.: (Склад изд-ва О-ва распространения духовных знаний), 1917. Вероятно, это — произведение отца М.И. Слободского. Сохранился "Отзыв о двух рукописных книгах стихов М. Слободского", написанный Архипповым (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр.2. Л. 40-42 об., 55об.-57, 63-64).
В августе 1932 г. Слободской принимал участие в экспедиции по горной Ингушетии вместе с М.М. Базоркиным, художниками Х.-Б. Ахриевым, Г.-М. Даурбековым, И. Щеблыкиным. Начальником экспедиции был известный кавказовед — профессор Л.П. Семенов. Научные данные экспедиции опубликованы Л.П. Семеновым еще в 1936 году, а затем в 1963 г. в г. Грозном в книге "Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в 1925-1932 годах". (см.: http://www.ingush.ru/art5.asp). Очерк Слободского "Горы меняются" об этой экспедиции опубликован в газете "Власть труда" (11 декабря 1932). В Приложении к настоящей публикации мы помещаем стихотворение Слободского, обращенное к Меркурьевой. Его сюжет связан с осуществившимся намерением Слободского участвовать в научной экспедиции по Северному Кавказу.
"Новь" — один из ведущих послереволюционных литературно-художественных журналов "Красная новь" (1921-1929).
"Прожектор" — иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал. Издавался в Москве в 1923-1935 гг.
Тахо-Годи — Алибек Алибекович Тахо-Годи (1892-1937)— ученый и государственный деятель. Воспитывался у дяди во Владикавказе, где в 1912 г. закончил гимназию. (Вероятно, Е.Я. Архиппов был одним из его учителей). В 1916 году с отличием окончил юридический факультет Московского университета. После Февральской революции 1917 года был членом Дагестанской социалистической группы, в 1918-20 гг. — членом ВРК Дагестана. В 1920-22 гг. — наркомюст, наркомпрод Дагестанской АССР, член Дагестанского обкома РКП (б), ВЦИК и председатель комиссии ВЦИК по снабжению Дагестанской АССР. В 1922-29 гг. — наркомпрос, заместитель председателя СНК Дагестанской АССР. Находясь на посту наркома просвещения республики с 1922 по 1929 год, Тахо-Годи организовал в Дагестане сеть общеобразовательных светских школ. В 1920-е годы под его руководством в Дагестане были проведены научные экспедиции российских ученых, изучавших историю и этнографию Дагестана (участником их и был Слободской). С 1929 г. работал в Наркомпросе РСФСР; был одним из организаторов и директором Центрального НИИ национальностей. Параллельно читал лекции по кавказоведению в МГУ и в пединституте им. Ленина. Профессор, автор учебника по античной литературе, знаток французского языка, автор первых статей об Уллубии Буйнакском и поэте Батырае. С 1935 года в аппарате ЦК ВКП (б); одновременно продолжал вести преподавательскую работу в вузах Москвы. Осенью 1937 года был арестован по ложному обвинению, расстрелян 9. 10. 1937. Реабилитирован посмертно. См. о нем: Магомедов А.М. Алибек Тахо-Годи. Жизнь, мировоззрение, творческое наследие. — Махачкала, 1993.
Павлов — "Д.П. Павлов был секретарем бюро Ассоциации Северо-Кавказских горских краеведческих организаций, председателем которого был Алибек Тахо-Годи" (объяснение предложено в упоминаемой статье Е. Тахо-Годи).
Arbiter (лат.) — арбитр, третейский судья.
"Туда, к пустынной горной келье" — реминисценция из стихотворения Пушкина "Монастырь на Казбеке": "Туда б, сказав прости ущелью,/ Подняться к вольной вышине!/ Туда б, в заоблачную келью,/В соседство бога скрыться мне!.."
Кап-Кой — старое осетинское название Владикавказа. Этим же названием места Пушкин пометил свое стихотворение "Калмычке".
М.И. СЛОБОДСКОМУ
Рондо
с кодой
Влача рифмованные цепи,
я говорила — или нет:
о дне рождения на свет,
о дне рождения в Вертепе.
О дне, в который дикий стрепет
слетел к нам, — полевой поэт, —
влача рифмованные цепи,
я говорила — или нет?
Кто задирался много лет
в немом и безответном склепе
и вышел к нам — и в песни трепет
он преломляет тень и свет,
влача рифмованные цепи.
Освобожденному — привет,
новорожденному — в Вертепе.
4-17. VII. <1>924.
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л. 7об.
М.И. Слободскому
Пускай велит Вам разум разом
И дом, и город покидать:
Владивосток с Владикавказом
Сумеет сердце срифмовать.
Разлуки северная вьюга
Растает в памяти тепле.
Ах, все в гостях мы друг у друга,
И все мы гости на земле.
7. III <1>928.
Владивосток
26-ая верста
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л. 58.
М.И. СЛОБОДСКОМУ
Рондо
Когда Вертепу Вы явились,
Анчара острый иверень —
и Вашим чубом набекрень
и Вашим ямбом мы пленились.
Мы все стихами разразились,
кто бросив немощи, кто лень —
когда Вертепу Вы явились
Анчара острый иверень.
С тех пор, что год — разлуки тень:
поразбрелись, переженились…
Но уцелевшие решились
стихами вечно славить день,
когда Вертепу Вы явились.
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л.7. Стихотворение не датировано.
Иверень — "щепа, ощепок; черепок, осколок, осколыш, отломочек" (В. Даль).
М.И. Слободскому
И пропадая от каторжной боли в затылке,
И провожая подруженьку снова на роздых,
Вы не смогёте не тосковать по бутылке
И не примчаться за ней без сапог по морозу.
Завтра к 7-ми собираются в "Доме Поэта" —
Все как один: с бутылкой под мышкой, с тетрадкой в кармане.
Стол уберут моссельпромовскою конфетой
Шустрые Клоди, и Кати, и Тани.
Эдакое проворонить?! — ну не обида ль?
Будут смеяться с нас Евгений, и Миший, и Кирий.
Эй, Алконостыч, не подкачай, не выдай —
Будь у порога первым, дома оставив чирий!
В. Истошновна
24.XII. <1>931.
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л. 58 об.-59.
"Дом Поэта" — по всей вероятности, квартира одного из прежних участников "Вертепа". Возможный травестийный намек на известное одноименное стихотворение М.А. Волошина 1926 г.
Шустрые Клоди — сестра и вторая жена Е.Я. Архиппова: Клавдия Яковлевна и Клавдия Лукьяновна (Лукинична) Архиппова (урожд. Иовина).
Кати — первая — Екатерина Александровна Корыхалова (см. стихотворный устав Вертепа — в разделе 2 настоящей публикации); вторая — Екатерина Андреевна Юрченко (?— 1966?) — знакомая (и по-видимому, ученица) Е.Я. Архиппова, которой он, в частности, подарил два составленных им рукописных сборника "Castellum Maximilianum" (1931, Кок Тене Эли), "Фернампикс" (1931, Коктебель), ей адресован сборник стихотворений Архиппова, содержащий "Семь обращений к Е.А. Юрченко" (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп.1. Ед.хр. 11). В одном из них Архиппов писал: "Ты пишешь о поэтах и о книгах, / даря фрагменты книжной суеты, / (Еще жива библиоманов лига!) / и в сердце у тебя еще горят цветы! // В твоем письме осколки быта Веры (т.е. В.А. Меркурьевой — ТН): / Черкизово, Динамовская, Старки… / И лиры А-товой воспламенились сферы, / как древних арф разогнутые арки. // Так разбираю я перо мимолетящей птицы/ и жадно жду сплетения вестей / с Новодевичьего, из Старовской станицы /, как летом ждут любимых и гостей" (Там же. Л. 7-8; А-това — Ахматова; в Новодевичьем монастыре жил друг Архиппова — поэт, переводчик, филолог Д.С. Усов (1896-1943), неподалеку — сама Юрченко). А его сборник "Черубина де Габриак" (Петербург. Кунгахелла. <Год не обозначен>) подарен в 1932 г. К<ате> Юрченко (запись об этом: Там же. Ед.хр. 2. Л. 66об.-67об.). В 1966 году (11 марта) о ней писала Клавдия Лукьяновна Архиппова Юрию Николаевичу Володину: "В Москве умирает или уже умерла наша знакомая, почти сестра Евг<ения> Яков<левича> (названная) Екатерина Андреевна Юрченко… У Екатерины Андреевны есть редкая библиотека (кн. Гумилева, Ахматовой, Кузьмина (так!— ТН) и др.). … Екатерина Андреевна жила в своей комнате на Пироговской ул. (близ Новодев<ичьего> монастыря), № 7, кв.1. Но в последнее время ее, кажется, взяли какие-то люди для ухода за ней и она имела след<ующий> адрес в Москве: Москва Ж-114, 3-й Павелецкий, дом 9а, кв.33. Кузьмины (фамилия хозяек). Потом говорят, что ее поместили в дом престарелых, но она жила у этих людей Кузьминых по указанному мной адресу. …Ек<атерина> Андр<еевна> работала в Институте Истории АН СССР, Волхонка, 14, ком. 206" (РГАЛИ. 1458. Оп.2. Ед. хр. 39. Л. 10-11об). См. посвященные ей стихотворения Меркурьевой: "На голове клетчатая кепка" — ТЩЕТА. С.464 [стихотворение имеет авторское название "Силуэт", не приведенное в этой публикации; ср. другие стихотворения, вероятно, перекликающиеся по замыслу: "Силуэт Л. Беридзе" (ТЩЕТА. С.453) и "Ему же" ("Не хочется дразнящий силуэт/ Мне Вам писать на Ваши именины…"; ТЩЕТА. С.443)] и "С нежностью нагнусь я над мешком…" — в настоящей публикации.
Евгений — Е.Я. Архиппов или Е. Редин.
Тани, Миший, Кирий — неустановленные лица.
Алконостыч — М.И. Слободской.
В. Истошнова — В.А. Меркурьева.
М.И. Слободскому
Как оно было
Да, вечер был, скажу без лести,
достоин всяческих похвал.
Е. Редин, как "невольник чести",
гостей радушно принимал:
На примусе варил картошу,
селедю чистил, резал лук,
и рифм городил горожу,
и уж конечно — клюк да клюк.
А. Кочетков с большим талантом
литровку под полой припер —
а после резвым Росинантом
до света бегал в коридор.
Грустна (в кармане ни динара)
была Меркурьева сама,
без памяти от Сан-Бернара
и от Хохлова без ума.
Но вовсе не сова Минервы
их провожала до угла, —
а Ваша тень, пугая нервы,
в трусах и майке рядом шла.
Ворчала эта тень (без ссор Вы
подпишетесь, пролив слезу):
"В дым, в доску — пропасти и прорвы!
А я вот — ни в одном глазу".
Но не скорбите, — толку в том нет,
а тяпайте — пора давно
сюда, где любят Вас и помнят,
где ждут Вас рифма и вино.
24. V. <1>934
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед.хр.16. Л.19об-20об.
Редин Евгений Иванович (1892-1957) — поэт из круга В.А. Меркурьевой, автор книг для детей: "Красноармеец Ванюшка" ([Л.], 1927); "Каша" ([Л.], 1927); "Фокс и крысы" ([Л.], 1930); "Для чего хвост?" (М., 1931; 2-е изд.: М., 1946); "Птицы. Происхождение птиц, их жизнь и значение для человека" (М.-Л., 1939); "Сказка о гусляре" (М., 1961); "Царевна-лягушка" (М., 1956. 2 изд. — 1958). См. посвященные ему стихи Меркурьевой: ТЩЕТА, С. 442, 443. Некоторые его стихотворения сохранились в рукописном сборнике Архиппова "КАТОПТРА" (РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед.хр.16).
Кочетков Александр Сергеевич (1900-1953)— поэт, переводчик.
Ср. строки из послания Редина к "М.И. Слободскому" (<май 1934>): "…Отбродивши в мире странном / "Неживых" своих вещей, / ныне Вера Алексанна / ходит в Байронском плаще. //Потеряв наивность линий / и былой румянец щек, / Кочетков в тоске расиньей / "Сен-Бернаром" к нам прибег. // Я же, все еще Хохлова / бессердечно потрошу / и куски его сурово / на помойку отношу" (Там же. Л. 18). "Души неживых вещей" — название одного из циклов стихотворений В.А. Меркурьевой. Другие понятные нам реалии — переводческие работы Меркурьевой над ранней лирикой Байрона (не изданы) и А. Кочеткова над Расином (ср. строки из письма Усова к Архиппову: "В<ера> М<еркурьева> утверждает, что Коч<етко>в перевел драму Расина "Британник" в 10 дней, делая 180 (александрийских) стихов в день. Я этому, простите, просто не верю; и говорится это для того, чтобы "ущекотать" Усова, Челпанова, Рождественского, Федорова etc etc и показать, какой Александр Сергеевич единственный" — Там же. Ф. 1458. Оп.1. Ед. хр.78. Л.169об.). Перевод Кочеткова опубликован: Расин Ж. Соч. в 2-хт. т.1. М.-Л.,1937.
В. Меркурьева — "Вертепу"
Лихой порою, в черный год
разрыва уз и скреп —
в изломе гор, у спада вод
явлен был нам Вертеп:
простая бедная нора,
холодный темный склеп.
Но с братом брат, с сестрой сестра
спешат, спешат в Вертеп.
И свят не свят, и рад не рад —
идут — и зряч, и слеп,
с сестрой сестра и с братом брат
в ночи искать Вертеп.
Неверен шаг, безвестен путь,
но чаем, люб и леп,
но где-нибудь, но кто-нибудь
провалится в Вертеп.
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л.84-84об. Стихотворение не имеет авторской датировки, приблизительно его можно датировать серединой 1920-х годов. Под стихотворением позднейшее примечание (по-видимому, сделанное Архипповым): "Только что найденный автограф на клочке бумаги".
Из Анны Ахматовой
Вечером апрельским, загадочным,
Когда зацвела сирень,
Показалось совсем припадочным
Спать, когда скоро белый день.
Извилинами переулочными
Бродить, захмелев, до утра,
Шатаниями прогулочными
Сегодня прощаясь со "вчера",
А после, склонясь над работою,
Думать, что за окном весна,
Что частицу, может быть, сотую
-------
<1>Тихой грусти уймет она.
<2>Вдохновения даст она
<3>В стих прольет своего вина
20-IV — 4-V
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л.38.
Стихотворение, вероятно, как-то перекликается со стилизациями из цикла "С чужого голоса", создававшегося в январе 1918 г. (см.: ТЩЕТА. С.180-191), где есть стилизация "По Ахматовой".
Отчеркивание означает границу сложившегося текста. Далее следуют три приведенных варианта, но ни один не помечен как окончательный.
Е. Редину
Легенда, созданная раз,
Останется творимой вечно.
В тоске ли, в радости беспечной
Творим легенды тайный сказ.
Для новых уст, для новых глаз
Меняя облик бесконечно,
Легенда, созданная раз,
Останется творимой вечно.
Буди восторг волною встречной,
И если истинный алмаз
Ты временам восставший: Аз
Есмь Поэт, — Дорогой Млечной
Легенда созданная раз.
10. II.
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л. 35.
Год стихотворения не указан.
"Творим легенды тайный сказ" — ср. название трилогии Ф.К. Сологуба "Творимая легенда".
Вчерашней имениннице
Пришлось нам править ваши именины
В день преподобной — но не Антонины.
Ах, перепутал чей-то дух лукавый
Все имена, календари и нравы.
Но ловим мы почтить предлог удобный
День бесподобной — хоть не преподобной,
И верим твердо, что ваш ангел нежный,
Хотя и ложный, примется прилежней
И неусыпней (или непробудней)
Блюсти все ваши прихоти и плутни
И ниспошлет вам, но не что попало —
Не обожателей: и так не мало,
Не реквизиторов: и так их много,
Но пусть, о пусть вкруг вашего чертога
Со всех сторон, куда ни глянет око,
Кипят моря божественного мокка,
Стоят пирожных горные громады,
И винной негой плещут водопады.
Ведь радость в жизни горестной и пленной
Всегда была минутной и блаженной,
И хмель ее, чем горче, тем любезней —
В вине он, в поцелуе или в песне.
О, в этой жизни горестной и жуткой
Умейте жить, умейте жить минуткой.
11.IV. <19>21
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр.14. Л.26.
Стихотворение обращено к гимназической подруге Меркурьевой Антонине Павловне Бёме (1876?-1940-е?). До революции она занималась благотворительностью: была действительным членом общества попечения о сиротах и бедных детях Владикавказа, в годы Первой мировой войны — казначеем фонда по сбору теплых вещей в действующую армию. Ее муж, известный владикавказский юрист, не чужный и литературному творчеству, Борис Ричардович Бёме, её сын, талантливый учёный-зоолог Лев Борисович Бёме, и ее внук, Игорь Львович Бёме, были в сталинское время репрессированы, так что строки Меркурьевой о "горестной и жуткой" жизни оказались пророческими. Другие обращенные к Антонине Бёме стихотворения Меркурьевой см.: ТЩЕТА. С.454, 456.
А<нтонине> Б<ёме>
Сказаны все слова,
И все позабылись.
Я вот — едва жива,
Вы — отдалились.
Что же? не все ли равно,
Что изувечено,
Если не два, но одно
Ныне и вечно?
28. VI
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр.14. Л. 95.
Год стихотворения не указан.
А<нтонине> Б<ёме>
Вам привет плетя узорно-чинный,
С кем сравню, кому Вас уподоблю?
Белому ли цветику жасмина?
Ягоде ли синей — гонобоблю?
Меж цветов Вы — голубая роза,
А меж ягод — белая малина;
Меж стихов — ритмическая проза,
Между женщинами — Антонина.
Вся Вы — смесь подобранных контрастов,
Ваша жизнь — ряд противоречий,
Над мечтой у Вас — безумье власти,
А рассудком каждый шаг отмечен.
Знали вы, куда идти в туманах
Непроглядной безудержной страсти,
Верная до мелочи в обманах,
Любящая чутко — в безучастьи.
Направляясь прямо к двери ада,
Вы и в рай, конечно, попадете:
Верно уклонившись там, где надо,
Правильно сойдя на повороте.
Я ж, любуясь Вами после смерти,
Как при жизни Вами любовалась,
Поспешу и на тот свет, поверьте, —
Чтоб и там Вас встретить мадригалом.
28. VI. <19>24.
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр.14. Л. 87
АНТОНИНЕ БЁМЕ
За много лет сегодня первый раз,
что у меня нет темных роз для Вас.
Вы знаете, ведь это потому,
что хлеба нынче тоже нет в дому,
что больше нет — преданной руки,
для Вас опустошавшей цветники,
а для меня хранившей хлеб и соль,
себе оставив только труд и боль.
И вот нам — полынь земных полей,
а розы неба — Ей, все розы — Ей.
Но, может быть, сквозь прорезь этих строк
Она и Вам бросает лепесток.
23. VI. <1>931
Автограф — РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр. 16. Л.69-69об. Список рукою Архиппова — Ед.хр.14. Л.76-76 об. "Она" — вероятно, умершая в 1931 году родная сестра В.А. Меркурьевой Мария.
Мил<очке> Б<еридзе>
Надпись к портрету
(если б он у меня был)
Склонясь над книгою ученой,
Как будто вправду занята —
А лук и стрелы Купидона
Таятся в складочках у рта.
И губ ея разрез карминный
И в тоненькой руке перо —
Напомнят грешный и невинный
Век мадригала и Дидро.
Но "флейте нежного Вафилла"
Не всех дано очаровать;
И не Людмилой — Поэтмилой
Ее хотелось бы назвать.
15. IX.
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр.14. Л. 100об. Год стихотворения не указан.
Посвящено поэтессе, участнице поэтического кружка "Вертеп" и сборника "Золотая зурна" Людмиле Александровне Беридзе. Другие посвященные ей стихотворения: ТЩЕТА, с. 449, 450, 453. Одно из них — "Силуэт Л. Беридзе" — начинается переиначенной строкой портретируемой поэтессы: "Глаза как две маслиночки" (ср. строку Беридзе "Глаза как шоколадинки" — "Золотая зурна". С. 58).
Вафилл (Бафилл) — возлюбленный поэта Анакреонта, воспетый им в стихах.
"Флейта нежного Вафилла" — первая строка стихотворения М. Кузмина, представляющего собой отклик на рассказ С. Ауслендера "Флейта Вафилла".
А. Кочеткову
Ну, танцуй же, Молли!
Пой кукареку!
Но, кривляясь в роли,
Молли — ни гу-гу,
И Кочеврягиной не дали сахарку!
<1932>
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Л.33об. Список рукою Архиппова. Датируется по рядом записанному стихотворению, следующему в настоящей публикации.
Другие посвященные А.С. Кочеткову стихи Меркурьевой: ТЩЕТА. С.440, 441, 444.
А. Кочеткову
Слез напрасных не лей, певец, о стянутом шарфе:
худшей беды избежал: — мог повиснуть на нем.
Декабрь <1>932
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Л.33об. Список рукою Архиппова.
А. Кочеткову
Кто вы, быстроногий, —
птица или фокс!
О, когда бы боги
Ваш дали мне скок —
Сейчас я б из Москвы пустилась наутек-с!
Но до той поры Вам
хватит пары ног, —
а моим порывам
подведен итог:
Бодливой, знать, корове не дает бог рог!
16. II. <1>933
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Л.34. Список рукою Архиппова. Его же рукой исправлено красными чернилами первая буква последнего слова (была "н"), что, по-видимому, входило в авторскую игру: "ног"-"рог".
ЕВГЕНИЮ АРХИППОВУ
Не качества, но только очерка
старинного — сии листки
для архаического почерка
его аттической руки.
Красная Горка
1932
РГАЛИ. Ф. 2209. Оп. 1. Ед.хр. 16. Л. 38об. Под стихотворением — пояснение: "В сопровождении коробки с бумагой". Евгений Яковлевич Архиппов – (1882 (по новому стилю 1883)— 1950) – поэт, критик библиограф. См. о нем: А.В. Лавров. Архиппов / Русские писатели. 1800-1917. Т. 1. М. 1989. С. 212; а также нашу статью: Нешумова Т.Ф. Невидимый трилистник: Черубина де Габриак, Д.С. Усов, Е.Я. Архиппов // Toronto Slavic Qaurterly № 20. (http://www.utoronto.ca/tsq/20/neshumova20.shtml).
Кате Юрченко
С нежностью нагнусь я над мешком —
простеньким, пустым, бумажным.
Был он полон золотым зерном,
на простые деньги не продажным…
Редкому — на золото цена.
Редкая моя находка —
россыпь, да не денег, не зерна —
Сердца — золотого самородка.
И храню я бережно пустой
сверточек бумажный —
память о привязанности той —
и не покупной, и не продажной.
15.I.<1>934
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед. хр.16. Л. 24-24об.
Раздел 2.
Устав Вертепа
§1. Общество именуемое Вертеп
имеет целью <свержение*> существующего литературного строя,
освобождение от формальных закреп
и кое-что другое.
§2. Подымаясь по наклонной плоскости вниз
состоит сия ассоциация из:
1. Евгений Ивановича Редина —
поэта, известного в кооперации,
метрикой и ритмикой пока не съедена,
характера кроткого и приветливого,
по части бутылочной весьма сметливого.
У Вертепа же поставил Господь его
как рачительного пастыря скотьего.
2. Из Михаила Ивановича Слободского,
вида и нрава совершенно иного:
томного рыцаря в опущенном забрале,
в полной лирической амуниции —
на ногах с лыжами (и в Петровский пост!**)
на рукаве с птицею — алконост,
в стихах до неуловимости воздушного,
больно символизмом за щеку укушенного.
Лежит вроде Цербера у Петровской двери
оберегая ее от постороннего зверя.
3. Из Николая Георгиевича Яковлева
вскую шатающегося тако вправо, яко влево,
пятящегося целых пять лет назад
не то в Вертеп, не то в Чепелюгинский сад.
Прыжок с моста или на мост ему нипочем,
числится при Вертепе бирючом.
4. Александр Сергеевич Кочетков —
показался на миг, да и был таков —
Иоасаф-царевич, Алексий-человек Божий
с оживленным лубком тоже весьма схожий.
В припадке буйного самоотречения
дал обет быть в Вертепе козлом отпущения.
5. Вера Александровна Меркурьева
речью — райская гурия, а характером — адская фурия,
вида и обхождения елейного,
но никто не знает настроения ейного.
И в глаза и за глаза скажу ей не льстиво,
что она в верном стаде овца самая паршивая.
Но она за грехи и так уж наказана
тем, что к Вертепу накрепко привязана.
Затем идет бессловесное стадо,
коего имена тоже перечислить надо.
1. Людмила Александровна Беридзе,
в просторечии Милка, она же Гобеленчик,
двадцатичетырехлетний младенчик,
в колыбельке еще веселится,
топает ножками и качает головкой.
Это у нас, так сказать, Божья коровка;
пасется мирно у мирта и лавра,
под присмотром самих угодников Флора и Лавра.
2. Екатерина Александровна Корыхалова,
сложения малого,
а стихосложения вовсе небывалого.
Танцевать обожает на ножах и на яйцах,
имеет в нежном ротике преострое жальце,
тронуть ее — попробуй, посмей-ка —
на смерть ужалит коралловая змейка.
А впрочем — это у нее наружность такая… ехидная,
в сущности же она добрая и безобидная,
ходит по богомольям, читает акафисты,
голосом — на диафрагме — окатистым.
3. Лю-Пелипейко.
Это уже совсем другая семейка.
Ликом — мадонна Карло Дольче,
голос — стеклянный колокольчик.
Носит на голубой ленточке золотое сердечко.
Словом, — на пасхальном куличе — сахарная овечка.
8-21. IV
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед.хр.16. Л.86-87об. Рукою Архиппова над стихотворением проставлены года "1922. 1925" — хронологические рамки существования "Вертепа". Авторство стихотворения, очевидно, коллективное. Информация об упомянутых лицах, оставивших свой след в литературе, приводилась выше. Информацию о других поименованных членах "Вертепа" разыскать не удалось.
*- в рукописи на месте этого слова пробел.
** — т.е. летом.
Вскую — "попусту, напрасно" (наречие). В.И. Даль приводит пословицу: "По бороде блажен муж, а по уму вскую шаташася".
Баллада о бане смороденной
В Великий Пяток собрался пяток
Поклонников Зу-Хирамуры.
Вдруг стук в забор прервал разговор
О таинствах литературы.
Кто там? — Цвет-мет. — Хозяина нет,
А гостья плавает в ванне.
И в страхе Цвет-мет, его стынет след
В далеком линейном плане.
— Кто вновь под окном? — Из Англии том,
"Часы досуга" названье. —
— Та гостья ушла и дверь заперла,
Оставив хозяина в ванне.
— Хозяева где? — Мы оба в воде —
Кричат хозяин и гостья.
— Пришел объектив и принес штатив,
Готовьте для съемки помостья.
И пойман момент, на сгиб фотолент
Попался хвост Хирамуры.
Ушел штатив и унес объектив,
Дальнейшее — без цензуры.
Ибо славный пяток, обступив пирог,
На него нацелился зубом,
И хозяин сам рассёк пополам
Тот пирог в раченье сугубом.
Под окном стучат, но они молчат,
Предрешая ответ заране.
— Хирамура, беги, но пускать не моги:
И хозяин и гостья в ванне.
В.Меркурьева,
А. К<очетков>
6.IV.34
Винета
РГАЛИ. Ф. Ф.2209. Оп.1. Ед.хр.11. Л.20. Автограф Меркурьевой.
Великий Пяток – пятница Страстной недели. Первая же строка отсылает к пушкинскому стихотворению «А в ненастные дни / Собирались они/ Часто…», ставшему эпиграфом к «Пиковой даме». В балладе Меркурьевой и Кочеткова все нечетные строки ритмически (и внутренней рифмой) вторят рисунку 1-й и 2-й строк указанного стихотворения Пушкина.
Зу, Хирам (Хирамура) – клички кошек в семье Архиппова.
«Часы досуга» (1807) — первый сборник стихотворений Байрона. Намек на переводческие труды Меркурьевой над ранней лирикой английского классика.
"Но пускать не моги" – возможно, наличие формы «не моги» в «кошачьем» стихотворении – отсылка к стихотворению «У кошки четыре ноги» из повести Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика ШКИД», впервые опубликованной в 1927 г.
Винета – см. примечание к следующему стихотворению.
Дориану Евгенневичу-Архивову
Послание в Кунгахеллу
Шпили пронзают синий ледостав,
и окна с мутной прaзеленью света
окутаны стеблями бледных трав —
всплывает затонувшая Винета,
усопшей лирики восставший кенотаф.
"Две тени милые" везут, как встарь
перо (всё — ржавь!) по плесени бумаги.
Одна: "Увы! мы более не маги,
погас на дне волшебный наш фонарь".
Другая: "Поделом: водой его не шпарь!"
И входит гость. Рассыпав серебро
волос над обретенным эльзевиром,
простился он с литературным тиром
и на указку поменял перо,
но все же говорит: "Пожаловать! добро!"
Мечась меж нефтелавкой и базаром,
он писем ждал, как ждут в ночи зарю,
а получив — плевался в гневе яром
и изрекал: "Я толку в том не зрю —
корреспонденция усугубляет прю".
Но восклоняя розоватый лик —
морского жителя земной двойник —
он молвит: "Как в пустыне алчут манны,
известий от Ахматовой от Анны
я жажду — хоть сквозь шифр и морок мандельштамный".
И говорят ему: "Она была
как ночь безмолвна и как день светла,
но узко стало ей у Мандельштама,
и в "Узкое" сбежала Ваша дама…
А Ус Сергеич цел, хранит колокола<.>
Поэт же Мандель укрепил свой штамм
в писательской уютной новостройке,
в аду быв с Дантом, очертел и сам,
его словарь: "отстаньте" и "задам",
и вообще он шпынь и не по-летам бойкий.
Всплыла Винета полностью меж тем:
все звери живы и все вещи целы<.>
И знатный гость — сонет меж двух поэм —
кусательно-ласкательные стрелы
принес Винете в дар из Кунгахеллы.
В. Меркурьева
А.К.
31.I.34
Зубово
Винета 1931-1932
РГАЛИ. Ф.2209. Оп.1. Ед.хр.16. Л.88-89. То же (автограф) — Там же. Ед.хр.11. Л.41-41об. (и с разночтением в последней строке: "Принес Винете в дар — привет из Кунгахеллы") со сноской: "штамм — корень, Узкое — дом отдыха КСУ". КСУ — комитет содействия ученым, созданный в 1919 г. Позднее к нему были временно прикреплены и писатели.
Дориан Евгенневич-Архивов — Евгений Яковлевич Архиппов. Вс. Рождественский писал об Архиппове: "Если бы где-нибудь возник большой музей или храм Русского Символизма, я назначил бы Евгения Яковлевича его хранителем. И ключи свои — я уверен в этом, — он носил бы всегда благостно и благоговейно".
После отъезда осенью 1932 г. Меркурьевой из Орджоникидзе в Москву, литературный кружок "Вертеп", прекративший свое существование, был переименован в "Винету" — легендарный затонувший город, не раз упоминаемый в средневековых документах и сагах и вплоть до 17 века фигурировавший на европейских географических картах. Винета фигурирует в опубликованном тексте Меркурьевой (ТЩЕТА, С. 490) и в приводимом в приложении стихотворении Слободского.
Кунгахелла (Конунгахелла) — древний скандинавский город на территории Швеции, разрушенный в XII веке морскими пиратами. Так же, как и Винета, в сознании европейского читателя начала двадцатого века он был оживлен Сельмой Лагерлёф, написавшей сборник новелл "Герои Кунгахеллы".
Греческим словом "кенотаф" называют обычно пустую могилу, монумент в виде гробницы, в действительности не содержащей тела умершего. "Усопшей лирики восставший кенотаф" — емкая, амбивалентная формула для обозначения существования всей неподцензурной поэзии 20-го века. Образ, свидетельствующий о том, что шутя и веселясь, и авторы и адресат послания ни на минуту не забывали, что то, чем они заняты, очень важно: они осознавали себя звеньями вечно обновляющейся жизни слова.
"Две тени милые" — цитата из вариантов к стихотворению А.С. Пушкина 1828 г. "Воспоминание" ("Когда для смертного умолкнет шумный день"). "Одна" — судя по характеру реплики — Кочетков. "Другая" — Вера Меркурьева. "Волшебный фонарь" (laterna magica) — древнейшее проекционное устройство, а также название второй книги стихотворений Марины Цветаевой (М., 1912). В публикуемом стихотворении может быть понято как символ независимого поэтического дара (Меркурьева и Кочетков в эти годы пытаются зарабатывать литературным переводом, — т.е. тем, что отвлекает от собственного творчества, "водой").
"Гость" — Е.Я. Архиппов. Так он назван, возможно, потому, что, живя в двадцатые-тридцатые годы в Новороссийске, не мог быть непосредственным участником "Вертепа"-"Винеты", но незримо присутствовал на собраниях — так как активно переписывался с Меркурьевой и Слободским и был в курсе всех происходящих там событий; многие стихотворения участников "Вертепа" осели в его домашнем архиве. А летом 1927 году Архиппов и в самом деле стал "гостем" — ненадолго приехав в Орджоникидзе. В последнем пятистишии слово "гость" повторяется. Но финал стихотворения, кажется, уже не поддаются однозначному прочтению. "Сонет меж двух поэм" можно понимать как дар, принесенный "гостем", но не исключена и вторая версия: "гость" (Архиппов) сам уподоблен строгому жанру сонета, а "двумя поэмами" тогда можно считать или авторов этого послания — или — упоминаемых в нем Мандельштама с Ахматовой.
Эльзевирами называют книги, напечатанные знаменитыми голландскими типографами-издателями Эльзевирами (конец 16 в. — начало 18 в.). Здесь употреблено в значении "книжная редкость вообще".
Строки "простился он с литературным миром/ и на указку поменял перо" расшифровать очень просто: выпустив "Библиографию И.Ф. Анненского" и книгу литературных эссе "Миртовый венец", Архиппов почти перестал печататься и стал учителем гимназий и школ Владикавказа и Новороссийска, его долгий педагогический труд даже был отмечен орденом, но, разумеется, никакого прощания с литературным миром на самом деле не было; для этого человека литература была тем воздухом, без которого он и не мыслил жить.
Слова "известий от Ахматовой от Анны/ я жажду" могут ввести в заблуждение: Архиппов не был знаком с Ахматовой и, являясь ее поклонником, никогда не состоял с ней в переписке, но тщательно собирал все сведения о ней, получаемые от своих литературных друзей и приятелей: Меркурьевой, Э.Ф. Голлербаха, Вс.А. Рождественского, Д.С. Усова, А.В. Звенигородского. Так что точнее была бы формулировка "известий об Ахматовой", но, меняя предлог, друзья повышали иронический градус стихотворения, подтрунивая над известной склонностью Архиппова к безусловному поклонению перед своими литературными кумирами.
"Зубово" — на самом деле никакая не подмосковная деревушка, как можно было бы подумать, но очередная игра: до 1935 г. Меркурьева не имела в Москве своей жилплощади и ютилась у своей гимназической подруги Гени Рабинович, проживавшей на Зубовском бульваре — т.е. в "Зубово" (именно Е.Я. Рабинович и С.В. Шервинский сберегли основную часть архива Меркурьевой и передали его в 1961 г. в РГАЛИ).
"Любите ли Вы Мандельштама? какую книгу более?", — спрашивал в 1932 году Архиппов Меркурьеву в литературной анкете. Она отвечала "Да — "Tristia"" (Цит. по: Гаспаров. С.70). Ее знакомство с Мандельштамом, вероятно, следует отнести к первым летним месяцам 1918 г. Мандельштам тогда вместе с другими чиновниками Наркомпроса перебрался из Петрограда в Москву и жил в гостинице "Метрополь". Меркурьева, только что вступившая в союз московских писателей, соседствовала с ним на страницах выпущенного в Москве стихотворного сборника "Весенний салон поэтов". Знакомство это возобновилось через 15 лет, почти через год после возвращения Веры Александровны в столицу: 10 августа 1933 г. она пишет Клавдии Лукьяновне Архипповой (Клоде, жене Евгения Яковлевича): "Ну вот познакомилась (возобновила знакомство) с Мандельштамом, на днях буду иметь его новые (для меня, за последние годы) стихи, с Державиным (его <т.е. Мандельштама — ТН> стихи, переписанные мною для Евгения, задержал Усов)" (РГАЛИ, Ф. 1458. Оп.1. Ед. хр. 123. Л.23). Осенью 1933 года Меркурьеву принимают в московский горком писателей. Рекомендацию (25 сентября) ей подписали М.Н. Розанов, В.В. Вересаев, Г.И. Чулков, О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк (Текст рекомендации см. в кн.: О. Мандельштам. Собрание сочинений в 4-х тт. Т.4. М., 1997. С. 203-204). Мандельштам помог ей получить первый заказ на переводы — с туркменского.
А 16 ноября 1932 г. Меркурьева пишет К.Л. Архипповой: "Была несколько раз у Мандельштама (переводы эти он мне нашел), он очарователен, забавен, желчен, высокомерен и трогателен. Должен был наконец-то показать мне свои стихи последних лет, — как раз заболела его жена, к которой он болезненно даже как-то привязан. Она славная, простая, грустная, заботливая. Анна Ахматова у них останавливалась в свой приезд последний. Я ее видела одну минуту — она мне открыла дверь и ослепила. Как расскажешь о ней? Высокая (не так высокая, как стройная) женщина-птица, руки легкие в полете, глаза — без цвета, так глубоки и темны (светлые глаза), в черном, длинном в обтяжку платье. Я смотрела на нее и молчала (тщетно вспоминая, как зовут Мандельштама, о кот<ором> спросить), она тоже. Его не было дома, я стала уходить, не прощаясь, молча — онемела, она закрыла за мной дверь со словами: "До свидания". Вот все. Немного?" (РГАЛИ, Ф. 1458. Оп.1. Ед. хр. 123. Л.30-30об.) "Потом "видела Анну Ахматову, слышала ее, читала ей" уже в феврале 1934" (Гаспаров. С. 85). Летом 1936 Меркурьева встретится с Ахматовой у Шервинских и та "подарит ей свою фотографию с надписью: "Чудесной и мудрой Вере Александровне Меркурьевой в знак благодарности. 22 июня 1936. Ахматова. "Старки"". ("Чудесной и мудрой" — Ахматова не бросалась зря такими словами). Потом Меркурьева писала Архиппову: "Жизнь неполна у тех, кто не видел ее в лицо... Ни с кем, ни к кому у меня не было того, что к ней: полное признание, полное отречение от себя — нет меня, есть только она. Встреться мы лет двадцать тому назад — была бы, вероятно, дружба до гроба, а есть — мое преклонение и ее отклонение. Так и должно быть, несбыточного не бывает" (3 октября 1936). Это была третья встреча ее с Ахматовой" (Там же).
Перед Ахматовой Меркурьева благоговела, а в Мандельштаме она узнала своего — в том смысле, что с ним можно было пускаться в то поэтическое озорство, которое так ценил и сам Мандельштам, и Меркурьева с Кочетковым. Юмор, с которым дан в послании портрет Мандельштама, артистичен и легок, он сам несомненно оценил бы его — если бы знал об этом тексте (чего нельзя исключить).
"В аду быв с Дантом" — летом 1933 года Мандельштам написал "Разговор о Данте". Квартиру в Нащокинском переулке — "в писательской уютной новостройке" Мандельштам получил осенью 1933 (Подробнее об этом жилье Мандельштама см.: Витгоф Л.М. Москва Мандельштама. М., 1998. С. 233-256).
"Не по летам бойким" называют Мандельштама авторы, один из которых моложе поэта на девять лет, а вторая — старше почти на пятнадцать. Характеризуя Мандельштама словом "шпынь" (в словаре В.И. Даля: "колючка, острый шип; колкий насмешник, резкий и дерзкий остряк; балагур, шут") авторы не подозревали, может быть, насколько они были близки к его автопортрету, просвечивающему в написанных в том же январе 1934 г. "Стихах памяти Андрея Белого".
"Узкое" — с начала 1920-х годов известный подмосковный санаторий ЦЕКУБУ, до революции — усадьба Соловьевых (именно там скончался в философ В.С. Соловьев).
Ус Сергеич — Д.С. Усов (см. о нем выше). Хранителем колоколов он назван потому, что жил в эти годы в Новодевичьем монастыре, некоторые корпуса стали жилыми в перенаселенной столице еще в двадцатые годы. 28 ноября 1932 Меркурьева писала Клоде: "Недавно был Дм<итрий> Серг<еевич> с женой… Читала им свои стихи, и Дм<итрий> Серг<еевич> выразился, что Евгений Як<овлевич> давал ему только один аспект Веры М<еркурьев>ой — "аскетический"" (РГАЛИ, Ф. 1458. Оп.1. Ед. хр. 123. Л.8). К новому 1935-му Усов прислал Меркурьевой четверостишие:
Если б не курево,
Нам было б слаще
С Верой Меркурьевой
Видеться чаще.
Переписывая его для Клоди Архипповой, Меркурьева замечала: "Как Вам это нравится? Покажите Евгению — хотя ему теперь не до Ус<овы>х и не до меня будет: ведь Алекс<андр> Серг<еевич Кочетков> с ним! Легко вообразить сколько будет выпито…" (Там же. Л. 64).
Особое звучание в контексте 1930-х годов приобретало маленькое словечко, сказанное Меркурьевой и Кочетковым об Усове: "цел". В феврале 1935 г. Усов был арестован по делу "немецкой фашисткой организации" (вместе с философом Г.Г. Шпетом, искусствоведом А.Г. Габричевским, переводчиком М.А. Петровским и филологом Б.И. Ярхо). А через три с половиной месяца после написания этого послания, ночью с 13 на 14 мая 1934 года в "писательскую уютную новостройку" нагрянут "гости дорогие" и за Мандельштамом.
Баллада о курортном вагоне
Евгении Яковлевне Р<абинови>ч
Под стук ритмический вагона,
изныв душою и боками,
под стук ритмический вагона
на жесткой койке тарахтя,
полутревожно, полусонно
за внутренними голосами,
полутревожно, полусонно
следило Ксукино дитя.
Но коль тебе питаться нечем, —
(ведь сухарей у нас немного) —
но коль тебе питаться нечем, —
как проживешь ты без меня? —
— До Зубовской ведь не далече,
в Ермел проторена дорога,
до Зубовской ведь не далече,
дойду, рублем твоим звеня.
— Но туфли счастья — дар Мосторга —
уносят дале все и дале,
но туфли счастья — дар Мосторга —
меня несут из милых стран… —
— Мы обе вырвемся из морга
(Ты — на зарплате, я — на Дале)
Мы оба вырвемся из морга,
я в Иппокрену, ты — в Нарзан.
С любимыми вы расставайтесь,
<С любимыми вы расставайтесь,
С любимыми вы расставайтесь>
без сожалений и тревог.
Но поскорее возвращайтесь,
<Но поскорее возвращайтесь,
Но поскорее возвращайтесь>
на сиротеющий порог.
2 V 1933
А. Кочетков, В. Меркурьева.
РГАЛИ Ф.2209. Оп.1. Ед.хр.16. Л.26об.-29 об.
Стихотворение пародирует стихотворение А.С. Кочеткова "С любимыми не расставайтесь". Взятые в ломанные скобки строки в оригинале даны отточиями.
О Е. Рабинович см. выше.
Ксукино дитя — т.е. член Комитета содействия ученым (см. прим. к предыдущему стихотворению). В 1932 году Корней Чуковский оставил в дневнике запись: "На нашем грузовике написано было КСУ. Одна женщина, сидевшая на возу, запряженном волами, прочла надпись и сказала со вкусом: Ах вы, ксукины дети!.. "Ксукины сыны", "Ксукины дети" — эта кличка утвердилась за нами прочно".
Ермел — затрудняемся прокомментировать.
С. Шервинскому
Коль поэт на лапах утвердится,
скорпионский хвост раздув трубой:
— Никуда-де стих мой не годится,
я-де недоволен сам собой, —
мы придем — Ехидна и Тарантул —
уязвим кощунственный язык,
чтоб, взмолившись Шекспиру и Данту,
лауреат издал правдивый зык —
и тогда, классический календ рой
отряхнув, многоспесивый мэтр
просияет звездной сколопендрой
и отдаст нам скорпионий метр…
2. V <1>933.
А. Кочетков, В. Меркурьева
Шервинский Сергей Васильевич (1892-1991) — поэт, переводчик. Начиная с 1935 г., Меркурьева и вместе с А.С. Кочетковым и его женой жила в Старках в избе, неподалеку от дома Шервинских, несколько летних сезонов. В 1935 Шервинский приветствовал приезд Меркурьевой в Старки стихотворением "Сосед", частично опубл. в кн.: Петросов К.Г. Литературные Старки (поэты "черкизовского круга" и Анна Ахматова) — М., 1991. С.23-24 (в этой брошюре сделана одна из первых попыток, неизбежно неполная и неточная, рассказать о дружбе Меркурьевой и Шервинского и опубликовать стихи Меркурьевой); бегло о знакомстве Мекурьевой и Шервинского написано в статье: Гаспаров. С. 78-79. Шервинскому адресованы и другие стихи В.А. Меркурьевой (см.: ТЩЕТА. С. 487, 492).
Послание "учитывает" стихотворение Шервинского "Скорпион на лапах утвердится,/ смертный хвост закинет над собой…" (1926)
Продолжение темы — в стихотворении Меркурьевой "Он и я", обращенном к Шервинскому (ТЩЕТА. С.487).
Раздел 3.
***
Над головой голубое небо.
Под ногами зеленая земля.
После дождя как пахнут тополя.
— Хлеба, сухого черного хлеба. —
[Ты меня любишь, так свято страстен,
— Детям, старым погибель суждена. —
Я с тобою так радостно нежна.
Вместе мы дышим солнцем и счастьем.]
Руки мои наконец в покое,
Нежных пальцев неволить не хочу.
— Труд не по силе, груз не по плечу. —
Мне наклониться срезать левкои.
Стих мой послушен, милый мой дорог,
День мой долог и край мой — рай земной.
— Голод летом, голод, холод зимой. —
Боже, Москва моя — мертвый город.
[Сон блаженный мне снится, мне снится.
— Ночь коротка, а день твой без конца.
Что же вы не рветесь, струны цевницы?
Рвутся человеческие сердца.]
15.VII. <1920>.
2 и 5 строфы восстановлены по автографу Меркурьевой: РГАЛИ. Ф. 2209. Оп. 14. Ед. хр. 14. Л.23. Окончательный вариант, без этих строф — машинопись, там же, л. 222.
ТЩЕТА, С. 375.
ГОЛОДНАЯ
С утра до вечера
Есть нечего.
Обшарила все потаенки-норочки.
А ни черствой корочки.
Мне не спать, не есть, не пить.
Пойду я плутать, бродить.
У стен камня-города
От голода.
Про нас, на земных полях, знать, не сеяно,
То ли ветром свеяно.
Ступить — что ни шаг, ни два —
Ой, кружится голова.
Дороги нечаянно
Встречаются.
Кольцом людским на перекрестках схвачены,
Котлы-то горячие,
Полны до краев едой.
Постой, постаивай, стой.
[Тебе мы угодны ли —
Голодные —
Насытивший 7 тысяч пятью хлебами,
От земли, от неба ли?
А нам вместо-то хлеба, что же
Ты камни глодать даешь?]
Мы ходим в дом из дому
С поклонами,
По людям Христа ради побираючись,
Со смертью играючись.
Улыбки Твоей цветы —
Доволен ли нами Ты?
Тебя не увидели
Мы сытые —
В предсмертной тоске, в покаянном ужасе
Ты нам обнаружился.
Слава же Тебе вовек,
Показавшему нам свет.
Головокружение,
Томление
Дремотно-соблазнительное, вкрадчиво
Всплывает, а то спрячется.
Котлы-то полны по край.
Подай, Господи, подай.
6. I. <19>22
ТЩЕТА, С. 380-381.
Восстановленная строфа — РГАЛИ. Там же. Л. 30.
***
Дождь моросит, переходящий в снег,
Упорный, тупо злой, как … печенег.
Ступни в грязи медлительной влачу —
И мнится мне страна восточных нег.
Из тьмы веков к престолу роз избран,
За Каспием покоится Иран.
На Льва-Толстовской улице шепчу:
Тавриз, Шираз, Керманшах, Тегеран.
В холодном доме тихо и темно,
Ни сахару, ни чаю нет давно.
Глотаю, морщась, мутный суррогат —
"А древний свой рубин хранит вино".
Теплом и светом наша жизнь бедна,
Нам данная, единая, одна.
А там Иран лучами так богат,
Как солью океанская волна.
Здесь радость — нам не по глазам — ярка,
Всё черная да серая тоска.
А там, в коврах — смарагд и топаз,
Там пестрые восточные шелка.
От перемен ползем мы робко прочь,
Здесь — день как день, и ночь как ночь, точь-в-точь.
А солнце там — расплавленный алмаз,
А там, а там — агат текучий ночь.
Неловко нам от слова пышных риз,
От блеска их мы взгляд опустим вниз —
А там смеются мудро и светло
Омар-Хайам, Саади и Гафиз.
[О если б разорвать заклятий круг!
О, если б север, запад — разом вдруг
Со Льва-Толстовской улицы смело
В цветной Восток и переливный Юг!]
Холодный ветер, скучный запад брось,
Беги от них — а ноги вкривь и вкось
На Льватолстовской улице свело,
О, если б повернуть земную ось!
7. III. <1922>
ТЩЕТА. С.385-386.
Автограф — РГАЛИ. Там же. Л.36
ПРИЛОЖЕНИЕ:
М. Слободской — В. Меркурьевой
На прощанье
Осень, разлука, объятья, разъезды.
Пологие ночи, напористые поезда.
Жизнь начинается. Даже последней бездари
светит своя звезда.
Вагонной свечой оплывает провинция.
Тусклота. И — единственный сон:
модный пиджак закройщика Минца
над артельною вывеской вознесен.
Всем, кто умрут за тем же порогом,
над которым по чину отцов пронесли,
всем исполать, — пожелаем, в дорогу трогая,
выродки провинциальной земли.
Все распадается, как пересохшая кадка.
Уксусом делается вино…
Бледно-зеленой расцветкой затканы
опускаются стекла Винеты на дно…
Учительница! Успеха, удачи!
И жизни, влаженной в звонкие обруча.
И песен, звучащих по старому аль иначе.
И прощение всем, кто Вас огорчал.
Кап-Кой.
5.IX. 32
РГАЛИ Ф.2209. Оп.1. Ед.хр.16. Л.16об.- л.17.
Дата под стихотворением — день рождения В. Меркурьевой. Стихотворение вызвано переездом Меркурьевой в Москву.
© T. Neshumova
|