Михаил Талалай
GOGOL A ROMA ДАРИИ ОЛСУФЬЕВОЙ-БОРГЕЗЕ:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Впервые мне довелось услышать об этом исследовании ровно 20 лет тому назад, в 1989 г., во время моей первой поездки в Италию. Мой тогдашний и исключительный гид, Дмитрий Вячеславович Иванов, на мои расспросы о русском Риме назвал имя Дарии Васильевны Олсуфьевой-Боргезе и название книги - Gogol a Roma. На мой последующий вопрос - "Нет ли смысла организовать перевод книги?", с присущим ему ироничным видом Дмитрий Вячеславович ответил буквально следующее: "Прелесть книги как раз в том, что она написана по-итальянски".
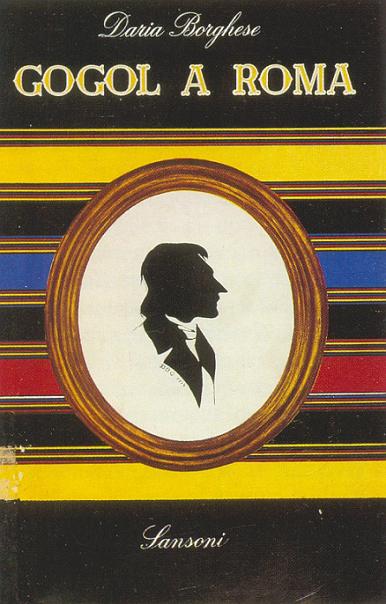
Эту фразу можно бы поставить и эпиграфом к моему эссе: в ней - намек как на заслуги, так и изъяны текста.
В любом случае Олсуфьева-Боргезе - пионер темы "Гоголь в Риме": даже Рита Джулиани свою фундаментальную книгу La "meravigliosa" Roma di Gogol' начинает с фразы "прошло 50 лет после книги Дарии Боргезе…" (1), тем самым обозначая ее как некую веху.
В литературу Дария входила постепенно: когда ее личная жизнь, после окончания войны, более-менее приобрела устойчивые формы, она принялась за серию очерков о Риме, где ее русскость проявлялась лишь эпизодически. Эти очерки были собраны в ее первую книгу Vecchia Roma (1954) (2).
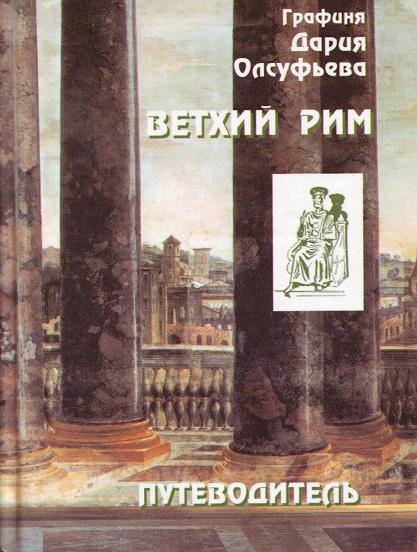
Закономерно, что высокообразованная соотечественница писателя, оказавшаяся в эмиграции на берегах Тибра и укоренившаяся на этих берегах, заинтересовалась сюжетом "Гоголь в Риме". В рамках этого исследования объединилась ее просвещенная и эрудированная любовь к Вечному Городу и - ностальгия. После первой книги - сборника эссе о Риме - набранный ею "краеведческий" материал позволил свободнее оперировать в пространстве гоголевского Рима. Она одной из первых составила выверенный список адресов: Quando e dove Gogol visse a Roma ["Где и когда Гоголь жил в Риме"], восстановив римский маршрут писателя - теперь он, конечно, уточнен, - во многом благодаря разысканиям Ванды Гасперович.
Книга Gogol a Roma вышла спустя три года после Vecchia Roma, в 1957 г. В предисловии автор формулирует свои задачи - и не только исследовательские, но и идейные. Как эмигрант она достаточно жестко пишет о современной ей России, где "как и век тому назад, всё еще цинично торгуют мертвыми душами" (3).
Прежде чем перейти к собственно римской теме Олсуфьева-Боргезе старается развенчать прогрессистскую критическую традицию, идущую от Белинского, и, одновременно, изъять Гоголя из советского литературного пантеона:
Тогдашняя российская интеллигенция, либеральные круги, литературная критика, ведомая прогрессистом Белинским, после первых лет ложной веры в Гоголя как в лучшего выразителя их политических убеждений, оказались уязвленными первой частью его "Мертвых душ" (4), предав творца нападкам и анафеме. Кое-кто заклеймил его религиозным фанатиком и даже душевнобольным.
Далее автор подчеркивает, что советский режим еще более усилил линию Белинского. С приходом к власти в России коммунистов Гоголь, уже повсеместно признанный, был отправлен, по словам автора, в "ссылку" - как якобы реакционер и рупор религиозных предрассудков.
Однако ссылка "оказалась кратковременной" - к моменту выходы эссе Дарии Гоголь в СССР стал классиком. Этот поворот автор объясняет двумя причинами: 1) режим, подвергшийся "смертельной опасности во время Второй мировой войны, в судорожной попытке спасения обратился - в конфузной и абсурдной манере - к отринутым было национальным ценностям, так Гоголь вернулся на авансцену"; 2) труд тех "русских интеллектуалов, кто остался привязанным, несмотря на идеологический диктат, к духовному потенциалу старой отечественной литературы и кто пытался, через переиздания, вновь задействовать этот потенциал, порой диаметрально противоположный советскому официозу".
Мы можем видеть здесь характерную тенденцию у умеренной эмиграции - вычленять в советской культуре приемлемые элементы. В этой сфере особенно много потрудилась сестра Дарии, переводчица Мария Васильевна Олсуфьева (переводы Дудинцева, Окуджавы, Шкловского) (5). И сама Дария не чуралась представителей советской интеллигенции - в частности, она работала личным переводчиком Твардовского (который в своих Дневниках назвал княгиню "красивой бабой").
Перейдя к жизни и творчеству Гоголя в Риме, автор пишет основные главы, представляющие сегодня, пожалуй, наименьший интерес для отечественной публики, так как они полностью базируются на опубликованных прежде в России письмах, дневниках, мемуарах. Заслуга этих страниц - именно в том, что они по-итальянски. Олсуфьева-Боргезе, пользуясь академическими советскими изданиями Гоголя - преимущественно "Полным собранием сочинений" - снимает с них, по ее словам "плотную вуаль предисловий и примечаний, с рассеянными повсеместно именами Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. Все эти псевдокомментарии, играющие в действительности роль громоотводов, собственной убогостью лишь оттеняют величие оригинальных текстов" (6).
Более интересны размышления Олсуфьевой-Боргезе об отрывке "Рим" и о его неуспехе в Италии. По ее мнению, он лишен той чарующей экзотичности, что привлекает итальянцев в других произведениях Гоголя:
"В результате этот текст знают мало, ссылаясь на него только в тех случаях, когда приходится писать о Риме XIX столетия в описаниях иностранцев - судьбу отрывка можно сравнить с судьбой акварелей "Утраченный Рим" Рослера Франца, удовлетворяющих ностальгию коллекционеров".
Кроме того, отрывок "Рим", как она утверждает, "с трудом поддается операции перевода", что, кстати, вызвало ядовитую иронию исключительного рецензента Томмазо Ландольфи и переводчика отрывка (об этом подробнее ниже). Олсуфьева-Боргезе пишет:
"Стиль Гоголя тут - это точный слепок с итальянского барокко, весь в извивах и бесчисленных волютах, в игре светотеней, что создает композицию, схожую с великими римскими храмами эпохи Сейченто. По отношению к "Вечерам на хуторе близ Диканьки" этот язык - всё равно что оркестровка Палестрины по отношению к украинской колядке. Такую работу нельзя оценивать привычным мерилом, тем более - с позиций классовой борьбы! В ней звучит с полной силой искрящаяся музыка гоголевской прозы - и в правду, скорее поэзии."
Последнее положение подтверждает и Рита Джулиани, относящая гоголевский текст по его настроению к любовному объяснению и, следовательно, к поэтическому по устремленности жанр (7).
Новой для того времени стала глава, где проводится широкое сравнение Гоголя и Белли - глава, которая по сути завершает книгу. Олсуфьева-Боргезе находила у двух литераторов много общего:
"Оба поэта обладали высокой музыкальностью, оба служили тончайшими инструментами народной жизни, непрестанно изучая говор, пословицы, подслушивая уличные беседы, подсматривая сценки. Оба - в душе "классицисты", бежавшие от французского романтизма, излученного от холодной и ехидной физиономии Вольтера (8). Оба не любили современный им Париж, обличая его суетное тщеславие и мелочность. Оба обожали римлян, с их здравым смыслом, вековым и ясным, с их пусть ироничной, но твердой верой в Бога всемогущего […]. Наступает упадок сил, поэтическая струна более не звенит, а божий дар смеха - они были им награждены более других писателей современности - тускнеет. В конце интенсивного творческого пути оба чувствуют себя одинокими. После оглушительного концерта, звучавшего внутри, приходит пугающая тишина. И тогда и Гоголь, и Белли обращаются к Богу, бросая в огонь собственные шедевры, превратившиеся в их глазах в мишуру, способную ввести в искушение братьев наших меньших."
Изощренный Ландольфи и здесь упрекнул автора в том, что она говорит об очевидной близости Белли и Гоголя, в то время как, по его мнению, намного было бы интереснее подчеркнуть их разницу (9).
Расскажем чуть подробнее о рецензии Ландольфи, который похвалил, как полагается, книгу Олсуфьевой-Боргезе за ее изящный стиль, указав на компетентность и на человеческую теплоту автора, без академической сухости:
"Книга богата человеческим материалом, забавными случайностями, так что показывает нам Гоголя живого, но в точно описанном времени и пространстве, что доставляет читателю (и, несомненно, рецензенту) огромное удовольствие от ее чтения" (10).
Далее, однако, он упрекнул ее (помимо вышеуказанного) за некую олеографичность повествования о любви Гоголя к Риму, развернув это в интересный постулат: "Гоголь был влюблен не в Рим, а в свое представление о Риме".
Рецензия дала повод Ландольфи вернуться к гоголевскому отрывку "Рим", который он переводил "не без раздражения" и к которому тоже предъявил ряд упреков. По его мнению, Гоголь проявил себя тут в первую очередь как чужеземец, forestiero - каковым, смягчает рецензент заявление, "писатель был повсюду". Слаб отрывок, по убеждению Ландольфи, и с литературной точки зрения, но тут он останавливается, лукаво ссылаясь на ту же "русскую" Боргезе, которая затыкает ему рот заявлением, что, мол, иностранцам этот гоголевский текст не понять: "а я-то, неразумный, корпел над переводом", как бы говорит рецензент.
В заключении Ландольфи воспел славу апострофа в латинской транслитерации фамилии Гоголь - Gogol': сам повсюду он педантично его расставляет. Пусть Боргезе и русская, завершает свою рецензию Ландольфи, но в написании фамилии она не права.
Сборник рецензий Gogol' a Roma вышел в 1971 и переиздан в 2002 г. (изд. "Adelphi") (11). Ландольфи очевидно была дорога именно эта рецензия, раз он выбрал ее в качестве общего титула. Появилось как будто бы две разные книги с одним названием, но я представляю, как был доволен рафинированный Ландольфи - названия формально не совпадают: у Ландольфи проставлен апостроф, у Олсуфьевой - нет. Так что к известному сюжету о пользе букве "ять", можно прибавить и микросюжет о пользе апострофа.
Более резкие замечания принадлежат перу литературоведа Джованни Ориоли (12), который, также отметив приятный слог автора, без "интеллектуальных ухищрений", предъявил к нему следующие основные претензии: 1) неучтено предыдущее итальянское гоголеведение, в первую очередь, общие работы Этторе Ло Гатто 2) небрежно оформлены библиографические ссылки, что затрудняет читателю дальнейшее знакомство с литературой 3) преувеличен "неуспех" отрывка "Рим", высоко оцененный Э. Паппаченой в фундаментальной книге "Gogol" (Milano, 1930), которая, похоже, осталась неизвестной Олсуфьевой-Боргезе 4) никак не упомянут перевод "отрывка", сделанный Ландольфи (13) 5) широкие параллели между Белли и Гоголем представляются искусственными, без учета работ специалистов по Белли (П.П. Тромпео) 6) некоторые исторические имена указаны ошибочно, или же без необходимых доказательств 7) приводимые письма Гоголя уже достаточно известны в итальянской филологии 8) не разработан важный сюжет "Гоголь и живопись".
На книгу Олсуфьевой откликнулся и римский филолог и краевед Вольф Джусти, который и самостоятельно обращался к Гоголю (14). Его рецензия в целом написана в благожелательном тоне, подчеркивая важность кропотливого подбора цитат и писем.
Вольф Джусти был близок к автору по жизни: в рецензии он вспоминает о прогулках с Олсуфьевой и их споры, спустя столетие, вокруг полемики Белинский-Гоголь, причем Джусти не раз, по его словам, выступал защитником, пусть и с оговорками, Белинского. Эта его позиция проскальзывает и в рецензии, где он в мягкой форме, но упрекает-таки Гоголя за идеализацию папских властей, за невнимание и не видение поднимающего голову итальянского Рисорджименто, короче, представляет некий воображаемый, олеографический Рим - то, о чем говорил и Ландольфи.
Вне сомнения, именно работа Олсуфьевой-Боргезе подтолкнула Вольфа Джусти к гоголевским штудиям: в 1978 г. он издал итоговую книгу "Tra Pietroburgo e Roma: annotazione su Gogol".
…В 2009 г., кроме юбилея Гоголя, исполняется 100 лет со дня рождения Дарии Боргезе-Олсуфьевой. И этот параллельный юбилей позволяет обратить более пристальное внимание на ее фигуру и биографию.
Дария покинула Россию ради Италии вслед за родителями, когда ей было десять лет. Италия, впрочем, была для ее семьи в некотором смысле "родиной", ибо ее отец, граф Василий Алексеевич Олсуфьев, и мать, Ольга Павловна (урожденная графиня Шувалова), будучи страстными почитателями искусства этой страны, проводили в ней немало времени, а, кроме того, Ольга Павловна к тому же обзавелась во Флоренции доверенной акушеркой и время от времени ездила в Италию рожать очередное дитя. Сама Дария, в отличии от своих сестер, родилась в Москве в 1909 году, в фамильной олсуфьевской усадьбе на Поварской улице - там, где сейчас Центральный дом литераторов.
Еще был жив тогда ее дед, граф Алексей Васильевич, маститый сановник, посвящавший досуг переводам древнеримских поэтов. Жили Олсуфьевы согласно старым барским обычаям: лето проводили в поместье Ершово, что близ Звенигорода, тешась крестьянскими забавами (там кстати, советские писатели устроили Дом отдыха), а зимой - в доме на Поварской, полном вышколенной прислуги. Иногда отлаженный ритм жизни прерывался, и мать семейства отправлялась в Италию к знакомой акушерке. Дети росли во многоязыковой среде: мать предпочитала читать и писать на французском (в доме прислуживала и француженка); любимая няня, литовка Кета, изъяснялась по-немецки; особый гувернант обучал детей английскому; дед разъяснял церковнославянский, а во время поездок во Флоренцию всё семейство погружалось в итальянскую стихию.
Всё это старомосковское, с европейским привкусом, бытие оборвалось в 1914 году.
Отец Дарии, полковник в отставке, сразу после начала мировой войны ушел на фронт добровольцем. Его послали на Кавказ; следом за ним, в сопровождении приставленного казака, отправилась супруга, чуть позднее - все пятеро детей. Революция застигла семейство Олсуфьевых в Кисловодске, где, в надежде на защиту казаков и горцев, укрылись бывшие аристократы. Советская власть, водворившись и в этом курортном городке, лихо взялась за грабежи и расстрелы. Летом 1918 года граф Василий Алексеевич вместе с другими офицерами уходит в горы, к отрядам Добровольческой армии. Осенью того же года "белые" и казаки занимают Кисловодск, но ненадолго. При подходе "красных" Олсуфьевы бегут к Черноморскому берегу, и с помощью добрых людей добираются до Батуми. Настала весна 1919 года, и "красное" кольцо заметно сжалось. И вот в один из весенних дней к Батуми причалил английский военный корабль. В смятении Ольга Павловна поднялась на его борт, слезно умоляя увезти ее и детей в Италию. Британский морской капитан тут же предлагает всем Олсуфьевым явиться на борт. В марте 1919 года беженцы оказались в апулийском городе Таранто...
В изгнании Олсуфьевы жили безбедно. В немецких банках они держали капиталы, а во Флоренции Олсуфьевы имели "собственный уголок". Дарья, окончив лицей, поступила в Художественное училище изучать итальянское искусство, а одновременно решила пройти курсы медсестер. Одновременно решила пройти курсы медсестер. Все четыре сестры, Дария, Ольга, Александра и Мария, получив хорошее образование, славились во Флоренции своими талантами и красотой: среди искателей невест возникло даже собирательное выражение "сестры Олсуфьевы". И видные женихи не заставили себя ждать: Мария, даровитая переводчица, вышла замуж за флорентийца швейцарского происхождения Марко Микаэллиса, известного университетского ученого-агронома, при этом его брат женился на самой младшей из сестер, Ольге. Старшая сестра Александра (Ася), талантливая художница и скульптор, вышла замуж за римского аристократа, архитектора по профессии, Бузири-Вичи. Однако самая блестящая партия ожидала Дарью - ее суженым стал молодой морской офицер, князь Юнио-Валерио Боргезе, представитель видного итальянского рода. В 1931 году во Флоренции они сыграли пышную свадьбу. Родились дети - Элена, Паоло, чуть позже Ливио-Джузеппе и Андреа-Ширэ.
Время было грозное. Шла война в Эфиопии, и Дария отправилась в Африку медсестрой, а ее супруга командировали в Испанию, там он командовал подводной лодкой. Главная драма началась в 1941 году, когда "вторая" родина Олсуфьевой Италия воевала с "первой", с Россией. Муж Дарии, не раз награжденный знаками отличия, получал и высшую награду королевства - Золотую медаль. Муссолини высоко ценил военные таланты князя Юнио-Валерио Боргезе и до последних дней своего режима доверял ему высокие посты в армии. Война заканчивалась, дуче был расстрелян партизанами, а его самых видных военачальников арестовали и посадили в тюрьму на острове Прочида, в Неаполитанском заливе. Поговаривали о показательном судебном процессе над итальянскими военными. В те тяжкие дни графиня Олсуфьева, теперь уже княгиня Боргезе, часто ездила на этот рыбацкий остров, пытаясь облегчить положение супруга, обивала пороги адвокатских контор, и мужественно растила одна четырех детей. Через три года князя Боргезе выпустили на свободу. Возобновилась спокойная жизнь: Юнио-Валерио и Дария занялись воспитанием подраставшего поколения.
У Дарии окрепли таланты - писательский и художественный. Вышли две ее книги, о которых я рассказывал. Вероятно, она написала бы еще много книг, но судьба распорядилась иначе. Четвертого февраля 1963 года Дарья Васильевна возвращалась в Рим с загородной прогулки на машине. Произошло нелепое столкновение с другим автомобилем и она погибла. В следующем году ее овдовевший супруг учредил литературную премию имени Дарии Боргезе - вот уже более сорока лет, в конце мая, ее вручают лучшим знатокам Рима (15).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дария Олсуфьева-Боргезе
Гоголь в Риме
(отрывки)

Сегодня, спустя более столетия после смерти Гоголя, он представляется намного более великим и "актуальным", нежели в его времена. Тогдашняя российская интеллигенция, либеральные круги, литературная критика, ведомая прогрессистом Белинским, после первых лет ложной веры в Гоголя как в лучшего выразителя их политических убеждений, оказались уязвленными первой частью его "Мертвых душ", предав творца нападкам и анафеме. Кое-кто заклеймил его религиозным фанатиком и даже душевнобольным. Однако несмотря на попытки критиков поставить заслон между Гоголем и читателями, его фигура неуклонно возвышалась в общей панораме русской литературы. Постепенно и в Европе начали ценить силу его пера.
С приходом к власти в России коммунистов Гоголь, уже повсеместно признанный, был на какой-то период отправлен в "ссылку" - как якобы реакционер и рупор религиозных предрассудков. Когда же режим подвергся смертельной опасности во время Второй мировой войны и в судорожной попытке спасения обратился - в конфузной и абсурдной манере - к отринутым было национальным ценностям, Гоголь вернулся на авансцену. К столетию со дня его смерти его произведения впервые вышли из-под станков государственных типографий (16), а Академия Наук СССР издала полное собрание его сочинения в 14-ти томах. Аккуратное и тщательно подготовленное издание - плод трудов тех русских интеллектуалов, кто остался привязанным, несмотря на идеологический диктат, к духовному потенциалу старой отечественной литературы и кто пытался, через переиздания, вновь задействовать этот потенциал, порой диаметрально противоположный советскому официозу. Во избежание остракизма подобную литературу покрывают плотной вуалью предисловий и примечаний, рассеивая повсеместно имена Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. Но все эти псевдокомментарии, играющие в действительности роль громоотводов, собственной убогостью лишь оттеняют величие оригинальных текстов (17).
Критика Белинского и его эпигонов сегодня выглядит лишь близоруким политиканством, а роль Гоголя, в противовес им, - еще более значительной. Писатель как будто и сам предвидел это, когда в письме к Шевыреву от 20 сентября 1843 года размышлял о копошении полных самомнения людях, терявшего при отстраненном взгляде всякий смысл.
Трудности перевода, да и боязнь показаться ретроградами, долго вынуждали и итальянского читателя воспринимать творчество Гоголя в мрачной упаковке русской критики. Итальянцы не оценили еще в полной степени, как им близок Гоголь, и как, в свою очередь, близка ему Италия, и в первую очередь, Рим.
В Россию эту возникшую близость тенденциозно свели к некоему моральному бегству от обязанностей народного писателя. Однако именно в Италии Гоголь смог подняться над гавканьем своих соотечественников, смог обрести ясность и необходимый отрыв для работы над "Мертвыми душами", самой, что ни на есть народной литературой, смог, наконец, уврачевать свои болезни римским воздухом.
Его безграничную любовь к римлянами объясняют особой чувствительностью художника к фольклору. Но Гоголь, с его душой южанина, сумел понять сколько вечного, классического, непреходящего дает Рим тому, кто в состоянии его познать. Его осознанная любовь к Вечному Городу выражена и в отрывке "Рим", и в его чудесных письмах, которые итальянцам стоит узнать лучше. Эта любовь пронизывает всё его творчество, от начала до конца, свидетельство чему и - юношеское стихотворение "Италия". Поэту - всего 20 лет, и его стихи, книжные и чуть банальные явно навеяны Пушкиным (тоже пламенным поклонником страны, где ему, увы, так и не удалось побывать), но они исполнены той любви, коей он затем не изменял.
Гоголь в результате навел воображаемый мост между Россией и Римом. Этот "мост" может и должен быть укреплен более полным знанием его творчества, непременно приводящим к восхищению. Писатель способен еще много сказать Италии, но намного актуальнее его диалог с Россией, где - как и век тому назад - всё еще цинично торгуют мертвыми душами. [...]
Гоголь прибыл в Рим в Страстную субботу, 26 марта 1837 года, в самый последний миг, дабы успеть побывать на пасхальной мессе папы Григория XVI в ватиканском соборе - о таковом намерении он сообщал еще в Париже, готовясь к поездке в Италию (18).
Его самые первые дни в Риме отравлены трагической вестью о гибели Пушкина, и эта утрата заслоняет другие чувства, что выражено и в письмах (например, к Погодину, от 30 марта 1837 г.). Постепенно все-таки письма насыщаются радостью открытия нового мира и его полного совпадения с еще неясными юношескими мечтаниями. Велико счастье Гоголя от любования римскими красотами: он не перестает восхищаться великолепием ночей, прозрачностью воздуха, отсутствие туманов, серебристыми переливами облаков. Писателя, правда мучает болезнь желудка, которая и сведет в могилу в возрасте всего 43 лет, но при этом его дух старается превозмочь физический недуг.
Сначала Рим показался ему маленьким, но постепенно город "рос" в его сознании, вместе с памятниками, садами, руинами. Медленное вчувствование в Вечный Город в течение первых недель в итоге привело его к убеждению, что тому, кто познал Рим, невозможно жить в ином месте.
Жизнь литератора скромна, но деньги всё равно тают. Гоголь мечтает о государственном пансионе, подобному тому, что получают российские художники, беспечно фланирующие по Испанской площади. Да ему хватило бы и скромного жалования певчих при посольской церкви, тоже не обремененных обязанностями.
Жуковский в Петербурге откликается на просьбу приятеля и хлопочет перед императором: Гоголь получает от царских щедрот пять тысяч рублей. Этого ему хватает на год с лишком римской жизни, да еще на летнюю поездку на воды в Баден-Баден. […]
В течение всей своей краткой и странной жизни Гоголя не покидало ощущение некоего предначертания. С первых римских дней, и даже много раньше, он "знал", что Вечный Город будет его великой любовью и что именно тут он сочинит свою главную книгу. [...]
Размышляя, с духовной позиции, о Европе, писатель отрицал за Германией и еще меньше за Парижем роль центра цивилизации, как то делали его современники. Блистательная сила Рима, несмотря на кажущуюся летаргию, для Гоголя, с его южной, и в некотором смысле даже средиземноморской душой и с его чувствительностью, представляла непреходящий источник человеческой жизни высшего порядка.
Вернувшись в середине октября из Германии, он выплескивает радость от очередной встречи с Римом в истинные любовные гимны. Его привязанность к римскому пейзажу и к его обитателям становится более интимной. Многие писатели той поры описывали Вечный Город с большей компетентностью и подробностями, но никто - с большей любовью.
Теперь он живет на via Felice, № 126, на последнем этаже. Исторический дом существует и поныне, изменилось название улицы, теперь via Sistina, и нумерация, теперь № 125 (19). К дому прибавилось два этажа, а на фасаде - мемориальная доска, водруженная римской колонией в итальянской столице к 1902 году, к 50-летию со дня смерти Гоголя. Ее текст, на русском и итальянском, гласит: "Здесь жил в 1838-1842 гг. Николай Васильевич Гоголь, здесь писал "Мертвые души"" (20).
Действительно, именно в этих стенах роман обрел свою конкретную форму. "Окрестил" его Пушкин, Рим взрастил. В России, где Чичиковы, Ноздревы, Коробочки встречаются на каждом шагу, гоголевский текст не смог бы оторваться от плоского бытового фона, не смог получить объемность и густую суть.
Гоголю, впрочем, нужна непосредственная публика - для проверки воздействия фраз, текущих с его пера. Так, по необходимости, он сближается с русской колонией в Риме, состоящей из завсегдатаев салона княгини Волконской в Риме и виллы Репниных-Балабановых во Фраскати и из транзитной кампании путешественников, художников-пансионеров, любителей старины и просто бездельников, избравших своей штаб-квартирой Испанскую площадь. Помимо этого, он делит квартиру на via Felice c двумя русскими жильцами, которым и читает "поэму", по мере ее написания. Это - посредственный литератор Панов, и столь же посредственный Анненков: ему мы, впрочем, обязаны ценным свидетельством, обширным воспоминаниям "Гоголь в Риме летом 1841 года" (и у Анненкова его сосед выведен пусть гениальным творцом, но ограниченным ханжою). […]
Рим являлся для писателя косвенным источников вдохновения, неким фильтром, сквозь который персонажи "Мертвых душ" просеивались в четкие силуэты, с могучим сатирическим зарядом. Город стал и непосредственным источников вдохновения, но только в одном случае, - незаконченного романа "Аннунциата". Его начало получило при публикации в "Москвитянине" (1842 г.) временное название "Рим", оставшееся навсегда. Фоном для романа избрана папская столица XIX века, и уже одно противоположение Вечного Рима эфемерному Парижу должно было вызвать ярость у западников (что и произошло - см. критику Белинского в "Отечественных записках"). [...]
Для итальянцев же отрывок "Рим", с трудом поддающийся операции перевода, лишен той чарующей экзотичности, что их привлекает в других произведениях Гоголя. В результате этот текст знают мало, ссылаясь на него только в тех случаях, когда приходится писать о Риме XIX столетия в описаниях иностранцев - судьбу отрывка можно сравнить с судьбой акварелей "Утраченный Рим" Рослера Франца, удовлетворяющих ностальгию коллекционеров.
Нам же отрывок "Рим" представляется оригинальным и сильным, а для русской литературы - уникальным, ибо нигде более не встречается подобной слитности темы (бессмертия Рима) и языка. В самом деле, стиль автора - это точный слепок с итальянского барокко, весь в извивах и бесчисленных волютах, в игре светотеней, что создает композицию, схожую с великими римскими храмами эпохи Сейченто [XVII в.]. По отношению к "Вечерам на хуторе близ Диканьки" этот язык, всё равно что оркестровка Палестрины по отношению к украинской колядке. Такую работу нельзя оценивать привычным мерилом, тем более - с позиций классовой борьбы! В ней звучит с полной силой искрящаяся музыка гоголевской прозы - и в правду, скорее поэзии.
Конечно, для итальянцев жизнь в квартале Траствере лучше представляют сонеты Белли. Для русских же отрывок "Рим" открывает целый и неведомый мир. [...]
"Satyra tota nostra est", - говорил Квинтиан. Сквозь века римляне пронесли свою привязанность к сатире. В особенности религия, даже искренне и непосредственно исповедуемая, становилась излюбленным предметом сатиры - причем часто со стороны пылких верующих. Именно так: людям, далеким от веры, нет интереса метать громы и молнии в сторону клира. Пасквино сочинял самые безжалостные сатиры против папства, оставаясь при этом верным членом Римо-Католической Церкви, безо всякого намека на протестантство. Белли едко высмеивает кардиналов и монсеньоров, не теряя ни йоты веры. Он - добрый римлянин, чья личность может показаться противоречивой и двусмысленной лишь неверующим критиканам (и не римлянам). И поэтому вовсе не странно, что его духовник падре Тиццани, которого поэт попросил уничтожить "кощунственные" стихи, этого не сделал, убежденный, что смех вере не повредит.
Именно эти черты характера римлян оказались особенно близки Гоголю. Его сатира - положительна и ясна, как и сатира римлян. В его насмешке нет той горечи, и даже злобы, что присутствует у других русских сатириков, от Некрасова и Салтыкова-Щедрина до современного Зощенко.
Вместе с римским народом Гоголь, всегда боявшийся толпы (вспомним его памятное бегство с московской премьеры "Ревизора"), чувствует себя в высшей степени уютно. Он любит с ним смешиваться - в особенности, в дни празднеств и карнавалов, ценимых им за свободное и естественное слияние разных общественных слоев. Кроме того, в эти моменты его радует полнейшее отсутствие тут торгашеского духа. Конечно, от такого проницательного наблюдателя не укрывалось грядущее наступление меркантильного европейского духа на Рим эпохи папы Григория XVI, чересчур простой и патриархальный.
После традиционных зимних и весенних праздников писатель особенно ценил праздники летние - не в последнюю очередь, благодаря отсутствию любопытствующих иностранцев. На Вознесение, к примеру, папа благословлял римские поля с балкона базилики Сан Джованни ин Латерано. Солнце золотило античное кольцо стен, голубая вуаль дымки овеивала Альбанские холмы, на шлемах коленопреклоненных солдат колыхался плюмаж, отливали бронзой загорелые и суровые лица крестьян, тоже стоявших на коленях - всё это составляло светозарную и многоцветную картину, радовавшую душу Гоголя. Он пылко описывает этот и другие празднества в письмах к сестрам Балабановым, к Жуковскому, без устали перечисляя подробности уличных сценок и проявления народного характера.
Среди культурных римлян особую симпатию он испытывал к кардиналу Меццофанти: сухенький прелат-полиглот, владевший несколькими десятками языков, в первую же минуту знакомства с Гоголем обратился к нему на русском. Писатель талантливо, но дружелюбно высмеивал своеобразный способ кардинала составлять фразы, нанизывая их на одно, постоянно повторяемое слово.
Огромное впечатление производили на него итальянская музыка, театр, опера. [...]
Ясные дни порой перемежались с тревожными бессонными ночами, которые он проводил сидя на узком диванчике, в опасении упасть в обморок или - хуже - забыться летаргическим сном, чего маниакально опасался. По утрам он ворошил простыни на кровати, дабы служанка Нанна не прознала о странном ночном поведении "синьора Никколo". […]
Помимо писем, в первую очередь, к Балабиным, о римском периоде Гоголя мы знаем из воспоминаний Александры Смирновой-Россети, воплотившей для него союз двух стран. Прелестная русскоязычная итальянка как будто утоляла в последние пять лет его жизни ностальгию, тягу к свой "душе", к Риму.
Среди римских дружб самое исключительное место занимали отношения с Зинаидой Волконской. Мягкая улыбка княгини осветила всю первую половину русского Отточенто [XIX в.] - во всех художественных сферах. [...]
Известно, что еще в 1834 году, в Петербурге, готовясь к своим лекциям в университете, Гоголь в подлинниках изучал труды итальянских историков, Бембо, Наваджеро, обоих Виллани, Муратори. В Париже, готовясь к Риму, он брал уроки итальянского, и за год жизни на берегах Тибра его основательно выучил: одно из свидетельств тому - письмо к Марии Балабановой от 15 марта 1838 года, целиком написанное по-итальянски. Николай Васильевич хорошо знал местных классиков, начиная с Данте и кончая Тассони и Парини; ценил "цветочки" Франциска Ассизского. В Риме он полюбил совсем особую поэзию - на романеско, римском диалекте, и ее главного трубадура - Белли, с которым познакомился в салоне Волконской (известно, что Белли написал по ее заказу два сонета).
Глубоки и разнообразны аналогии между Белли и Гоголем.
Оба они выразили в их неподражаемом языке души их народов - римского и русского. Близкими были их судьбы и даже конечные намерения - сжечь лучшие вещи.
Оба поэта обладали высокой музыкальностью, оба служили тончайшими инструментами народной жизни, непрестанно изучая говор, пословицы, подслушивая уличные беседы, подсматривая сценки. Оба - в душе "классицисты", бежавшие от французского романтизма, излученного холодной и ехидной физиономией Вольтера. Оба не любили современный им Париж, обличая его суетное тщеславие и мелочность. Оба обожали римлян, с их здравым смыслом, вековым и ясным, с их пусть ироничной, но твердой верой в Бога всемогущего, для Которого человек - это лишь бедный буратино. Именно они, поэты (а не политики, как им вроде бы положено) предчувствовали пропасть, куда вел материализм, исходящий от холодных и ехидных физиономий. Именно в качестве поэтов они шли впереди своего времени, ужасаясь безумной скачке человечества. "Куда ты мчишься, Русь…"
Наступает упадок сил, поэтическая струна более не звенит, а божий дар смеха - они были им награждены более других писателей современности - тускнеет. В конце интенсивного творческого пути оба чувствуют себя одинокими. После оглушительного концерта, звучавшего внутри, приходит пугающая тишина. И тогда и Гоголь, и Белли обращаются к Богу, бросая в огонь собственные шедевры, превратившиеся в их глазах в мишуру, способную ввести в искушение братьев наших меньших…
Перевод с итал. М.Г. Талалая
Примечания:
© M. Talalai
|

