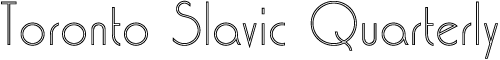Рита Джулиани
Булгаков, Мастер и меланхолия
Замечательная выставка "Меланхолия. Гений и безумие на Западе" (1), прошедшая в парижском Гран-Палэ в 2005-2006 гг., вновь привлекла внимание к понятию "меланхолии", которое, после победного шествия психоанализа, казалось безнадежно устаревшим и навсегда оставшимся в прошлом.
Слово "меланхолия" возникло очень давно, в V-IV веках до нашей эры. В приписываемом ученикам Гиппократа трактате "О природе человека", созданном за 400 лет до н. э., перечислены четыре основные жидкости, определяющие состояние человеческого организма: кровь, слизь, желтая и черная желчь, называемая также "черная влага". От их соотношения зависит темперамент: сангвинический, флегматический, холерический, меланхолический. Глагол μελαγχολαω означает: меня охватила меланхолия, я потерял рассудок, я брежу; существительное μελαγχολια встречается у Гиппократа (от греческого χολη μελαινα - черная желчь; латинское: melancolia, atra bilis). В отличие от остальных трех, "черная желчь" не является настоящей органической жидкостью, это образ, метафора. В классической медицине принято считать, что изменение "черной желчи" или ее избыток повергают пациента в уныние и печаль, рождают в его голове мысли о самоубийстве или провоцируют вспышки бреда (2).
В русский, как и в западные языки, это слово пришло из древнегреческого: меланхолия - точно соответствует греческому μελαγχολια. В академическом Словаре русского языка указаны два значения:
- первое: "мрачная настроенность, уныние, тоска"; это значение усиливается в сочетании "черная меланхолия" (с точки зрения этимологии - тавтология) - "очень мрачное, подавленное настроение, гнетущая тоска";
- второе: "психическое расстройство, для которого характерно беспричинно угнетенное состояние, иногда с бредовыми идеями". В этом значении меланхолия почти синоним слова "безумие", понимаемом в общем, широком смысле.
В западных языках слова, обозначающие безумие, по большей частью, не связаны с корнем слова "разум": (англ. foolishness; франц. folie; нем. Wahnsinn, Warrüchtheit, Tollheit, Torheit; исп. locura; ит. follia, pazzia). В русском языке есть целый ряд синонимов (сумасшествие, безумство, сумасбродство, слабоумие), в которых присутствует корень "ум", а также слова, по происхождению с ним не связанные, - взбалмошность и помешательство. Кроме того, есть слово, этимология которого отражает связь между психической и душевной болезнью: прилагательное душевнобольной - "страдающий психическим расстройством". Слово это часто встречается в произведениях Михаила Булгакова.
В древности считалось, что безумие - одни из путей постижения высшей истины, и насылают его нимфы (3). К этой легенде вернется в романе "Лолита" (1955) Владимир Набоков, неоднократно упоминая о "нимфолепсии" (безумии, насланном нимфами) и "нимфолептах" ("мы, нимфолепты, давно бы сошли с ума…"). Известно, что эпилепсию называли "священной" болезнью.
В Библии душевное здоровье представлено как благословение, как божий дар: "Ибо человеку, который добр перед лицем Его, Он дает мудрость, и знание и радость" (Еккл. II, 26). С другой стороны, Апостол Павел в "Первом послании к Коринфянам" отказывается от ветхозаветного взгляда на человеческую мудрость, которой якобы изначально присуще добро, и считает высшей мудростью безумие во Христе (4): "ибо написано: погублю мудрость мудрецов, а разум разумных отвергну (Исаии 29, 14). Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?" (1 Кор. I, 20-21) и еще: "никто не обольщай самого себя. Кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их" (1 Кор. III, 18-19).
В 1921 г. в знаменитой статье "Я боюсь" Евгений Замятин писал: "настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благоразумные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс - тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло" (5).
Великую русскую литературу не только творили настоящие "безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики", в ней чрезвычайно много "безумных" героев. Это связано с глубинной антирациональностью русской культуры, во все времена избегавшей обожествления разума, характерного для культуры западной. В "Братьях Карамазовых" Иван Федорович - пример воплощенного рационализма: разум ведет к атеизму, преступлению, безумию, погибели.
Крепко укоренилось в русской литературе презрение к буржуазному здравомыслию, неприятие филистерства. Достоевский в "Записках из подполья" и Лев Шестов в комментарии к повести с гневом обрушиваются на здравый смысл, на "дважды два четыре", на то, что Шестов называет "всемство". В книге "На весах Иова" Шестов повествует о том, как ангел смерти, пришедший к умирающему, которому удается выжить, уходя, оставляет ему в дар еще два глаза, которыми он сможет увидеть то, что другим видеть не дано (6). По мнению Шестова, этим даром обладал Достоевский. Развивая его мысль, можно сказать, что этот дар получили многие художники, обладавшие, подобно Булгакову, вторым - нематериальным, духовным зрением.
В литературе с психическими страданиями нередко связано представление об истине. Где она, истина? В чем она? Знаменитый евангельский вопрос, звучащий на картине Н.Н. Ге "Что есть истина?" (1890), культовом произведении русского искусства, часто задается в русской литературе. Громко звучит он и в "Мастере и Маргарите". Считается, что русский роман XIX в. ищет ответы на два основные вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?". Полагаю, не будет натяжкой добавить к ним третий вопрос: "Что есть истина?". Русская литература отвечает, что истина не в разуме, а в ином измерении - будь то помешательство или опьянение.
В пространстве русской культуры именно литература часто обращалась к теме психического расстройства (7), присутствующей как на историко-биографическом, так и на идейно-политическом уровне.
В ней было много "безумных" героев, особенно в эпоху романтизма. В этом время распространился миф о Торквато Тассо - гениальном сумасшедшем поэте.
В ней были писатели, знакомые с душевной болезнью по собственному опыту. Вспомним Константина Батюшкова, Всеволода Гаршина, Глеба Успенского.
Наконец, была еще одна категория: писатели и мыслители, которых объявляли сумасшедшими и с которыми так и обращались. Обусловлено это было идейными или политическими причинами: от Петра Чаадаева до Владимира Максимова и Варлама Шаламова, который прожил восемнадцать лет в лагерях и скончался в 1982 г. в психоневрологическом доме инвалидов. Бродский также в 1963 г. побывал в сумасшедшем доме на Пряжке, в Ленинграде.
Обширен мартиролог русской литературы и культуры, в нем имена тех, кто заплатил за свои убеждения заключением, всеобщим осуждением, годами трудовых лагерей, лечением в психиатрической больнице, горьким одиночеством. Есть в нем и женские имена: вспомним графиню Евдокию Ростопчину, вспомним недавно ушедшую Анну Политковскую.
В русской культуре психическое расстройство ассоциируется с двумя цветами: черным (черная тоска, черная меланхолия, черные мысли) и желтым. Желтый также обозначает отступление от общепринятых норм. Петр Великий заставлял тех, кто отказывался брить бороду, носить отличительный знак желтого цвета. Сумасшедший дом по-русски называется "желтый дом". В дореволюционной России "желтобилетницами" называли проституток в публичных домах. Вспомним желтую кофту Маяковского - провокационную, эпатирующую, говорящую о презрении ко всяческим условностям. При встрече с Мастером Маргарита одета в черное, в руках у нее желтые цветы, символ отчаяния и внутреннего одиночества.
Много написано о теме безумия в русской литературе, меланхолия же обделена вниманием исследователей, ее "русскую" историю еще предстоит написать. А ведь если задуматься, понятие меланхолии может помочь, как это было на протяжении двух тысячелетий, по-новому взглянуть на известных писателей и на знаменитых литературных героев.
Любопытный пример русской меланхолии - хандры - стихотворение Блока "Незнакомка" (1906), в котором голос лирического героя сливается с голосом автора. Блок рисует картину страдания, одиночества, видений, в которых проскальзывает истина. Истина же - в опьянении, в бредовой галлюцинации ("я знаю: истина в вине"). Постичь ее дано тому, кто, подобно многим булгаковским героям, пересечет пространство меланхолии.
Сам Булгаков был "великим меланхоликом" - это загадочное определение Пушкин дал неизвестному писателю, может, Гоголю, может, Вяземскому, а, может, самому себе (8).
Еще в сентябре 1923 г., в дневнике, конфискованном в последствии ОГПУ, Булгаков скажет о своем состоянии: "Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, [...] у меня бывают взрывы уверенности и силы" (9). Когда в марте 1930 г. он писал знаменитое письмо к правительству СССР, у него уже была депрессия. Он говорит о "черных и мистических красках" своих произведений, о "яде", "которым пропитано" его перо, о том, что ожидает одного - "нищеты, улицы и гибели" (10). То, что в тридцатые годы Булгаков был охвачен "унынием" и "тоской", широко известно, подробно останавливаться на этом мы не станем.
С самого начала в творчестве Булгакова присутствуют герои, которых он называет душевнобольные. Персонаж художника, частый гость на страницах булгаковских произведений, отличается особой ранимостью и душевной хрупкостью. Как отмечалось, булгаковские художники наделены своеобразными чертами: они неспособны бороться, нередко раздавлены властью, уязвимы и беззащитны (11). Мастер - самый яркий персонаж художника в произведениях Булгакова, обладающий острым "вторым" зрением, способный достичь истинного знания и решительно осудить самый страшный порок - трусость, эмблематический архетип которой - пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Порок этот преследовал и самого Булгакова: вот почему он в своих произведениях так часто возвращается к теме трусости, наверное, это как-то связано с фактами его биографии или историческими событиями (12).
Как отмечали исследователи, булгаковский герой имеет ярко выраженный автобиографический характер. По первоначальному замыслу его звали Фауст, "поэт", затем Мастер в "черной шапочке с вышитой на ней желтым шелком буквой "М"" (как у самого Булгакова, который писал в шапочке). "M" - первая буква имени Михаил и Маргарита, символически связанное с перевернутым "M"-"W" Воланда-Сатаны, в котором Андрей Синявский увидел отражение "мистической" связи между писателем и вождем, Сталиным (13).
Многие герои "Мастера и Маргариты" отмечены темной печатью меланхолии. Прежде всего, Мастер, кроме него, - Маргарита, Пилат, Иван Бездомный после встречи с Воландом. По ходу развития действия меланхоличных персонажей часто принимают за сумасшедших. Связано это с тем, что простой советский человек не мог проникнуть в метафизическое измерение, кроме того, это напоминало о трагической реальности общественно-политической жизни России. Со времен Чаадаева в России власть отвергала и считала патологией все "иное", всякое отступление от норм, признанных в обществе и в политике. Система нередко объявляла таких людей сумасшедшими, изолировала "диссидентов" - тех, кто не желал подчиняться общим правилам.
В "Мастере и Маргарите" рассказ ведется от лица обычного, простого человека, для которого Мастер - бедный больной. Герой, объявленный "душевнобольным" и запертый в настоящем сумасшедшем доме, узнает Сатану и вспоминает ключевой момент человеческой истории - встречу Христа и Пилата, когда впервые был совершен смертный грех тоталитарного общества, объединяющий римскую империю и империи, пришедшие ей на смену. Социальный и политический смысл того, что Мастер и его автор неоднократно (14) осуждают порок трусости, усиливают присутствующие в романе элементы юродства, безумия, свободного от общества и несущего правду.
У Булгакова психиатрическая больница оказывается местом, куда ссылают и где собираются герои, вступающие в контакт со сверхъестественным, с истиной, - герои, которых другие не понимают и которым не верят. В поэтике Булгакова театр также является местом, где может восторжествовать истина, где срывают маски со всякого притворства, - местом, где жива свобода. Подобная смена ценностей, поставленных с ног на голову, напоминает слова ведьм из шекспировского "Макбета": "зло станет правдой, правда злом" (15). Мир наоборот - старый прием, хорошо известный сатире и обличительной гражданской поэзии, знаком русской литературе с восемнадцатого века. Его использовал Сумароков в "Хоре ко превратному свету", он нередко встречается в фольклоре, в перевернутом карнавальном мире.
В "Мастере и Маргарите" "безумие" - знак "ненормальности" того, кто в эпоху торжества исторического материализма, сталкивается с трансцендентальным. Впервые мы встречаемся с главным героем в психиатрической больнице (главе "Явление героя"). Точка зрения рассказчика совпадает со взглядом человека с улицы, толпы, не желающей и не способной понять. Поэтому шестая глава называется "Шизофрения, как и было сказано"; отсюда определение "душевнобольной", данное Мастеру в эпилоге (16). В романе "переворачивается" латинское выражение "quos deus perdere vult, dementiat" (кого бог хочет погубить, того он делает безумным): "безумными" становятся только герои, которым открывается трансцендентальное измерение. "Безумие" может быть настоящим криком боли, как у Фриды, убившей своего ребенка.
Герой, созданный Мастером, - Иешуа Га-Ноцри, открывает истину столь неслыханную, что его принимают за безумца. В "Мастере и Маргарите", этом апокрифическом Евангелии двадцатого века, Иешуа называют философом и сумасшедшим. Сначала Пилат обрывает его: "перестань притворяться сумасшедшим" (17); затем именует его "душевнобольным" (18), "безумным преступником" (19), "юным бродячим юродивым" (20) и, наконец, "безумцем" (21). Чтобы спасти Иешуа от Каифы, прокуратор говорит о нем: "явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей" (22).
Сам же Пилат страдает от меланхолии: свидетельство тому - "непонятная тоска" (23) охватившая его после беседы с Иешуа, к которой рассказчик вернется через несколько строк ("тоска осталась необъясненной" (24). Маргарита, боясь, что никогда больше не увидит Мастера, также впадает в "черную тоску" (25).
С ранимостью Мастера связан не только порок трусости, но и гносеологические возможности искусства: он способен гениально "угадать" историю Страстей Христовых, способен ответить на вопрос Пилата, ответ на который в Евангелии от Иоанна в явном виде отсутствует: "Что есть истина?". Запертый в сумасшедшем доме, сам себя называющий "душевнобольным", Мастер остается теургом. Он вмешивается в историю, становится ее двигателем, объявляет Пилату об освобождении и о том, что Христос простил ему его грех.
Если взглянуть на "Мастера и Маргариту" в свете меланхолии, окажется, что произведение это уникально. Меланхоличный писатель Булгаков нарушает идейные и литературные нормы своего времени и создает персонаж меланхоличного художника, Мастера, также нарушающего литературные условности. Его объявляют сумасшедшим, а он, в свою очередь, создает литературный персонаж, Иешуа, который также нарушает идейные и политические нормы и которого объявляют безумным.
Ранимые, со сломанной психикой, изгнанные из литературного истеблишмента, охваченные "черной меланхолией" писатель и его герой произносят в "Мастере и Маргарите" неслыханную по своей силе обвинительную речь против трусости всех времен. Перед ними раскрывается эсхатологическое измерение, бессмертие, где решаются человеческие судьбы.
От меланхолии Мастер излечится только в трансцендентальном измерении, в царствии небесном, где он освободится, утратив память: "память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя" (26). Нечто подобное случилось в "Анне Карениной", когда со смертью Анны затухает беспокойный огонек свечи, огонь жизни героини.
"Мастер и Маргарита" - не только шедевр мировой литературы, но и убедительное доказательство терапевтического воздействия писательского труда. В своем романе Булгаков создает утешительный мир, "замещающий" настоящий. Он строит его в неспокойное время: от первой пятилетки до начала Великой Отечественной войны, все годы сталинского террора. С помощью своих меланхоличных персонажей меланхоличный художник научится жить с меланхолией, приручит этого демона, и выстоит, несмотря на страх и бесконечные лишения, возможно, в самые темные времена, которые доводилось переживать русской культуре и русской истории.
Перевод с итальянского Анны Ямпольской
Примечания:
© R. Guiliani
© A. Iampolskaia
|