| From Editor |
| Archive |
| TSQ No 70 |
| Authors |
| Editorial Board |
| Consultants |
| Associated Projects |
| Submission Guidelines |
| Links |
|
|
| Zahar Davydov |
TSQ on FACEBOOK |
| From Editor |
| Archive |
| TSQ No 70 |
| Authors |
| Editorial Board |
| Consultants |
| Associated Projects |
| Submission Guidelines |
| Links |
|
|
| Zahar Davydov |
TSQ on FACEBOOK |
 |
University of Toronto · Academic Electronic Journal in Slavic Studies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальные сроки в дальнейшем несколько сдвинулись, но в целом был реализован именно этот план. С этим, составленным в Париже планом, видимо, уже на следующий день Рапп с Гумилевым выехали в Ля Куртин. Надо сказать, что разброд в войсках царил не только во Франции, но и на Русском фронте. Как раз 4 сентября в Париже была получена телеграмма из Ставки о положении на фронтах летом 1917 года [344]: «Телеграмма от 22.8/4.9 1917 г. «<…> В июне было наступление в России на юго-западном фронте (Броды — Станиславов), с 16 июня. 11 и 7 Армии атаковали в направлении <…> на Львов. 16 июля — прорыв противником юго-западного фронта. <…> Наступление, начатое в середине июня (Галиция и Буковина), к 1-м числам июля замерло, главным образом по причинам морального порядка. 6 июля Австро-Германия начала свое наступление в Галиции (на Тарнополь) и прорвала фронт 11 Армии. «Наши войска, обнаружив полную небоеспособность, массами уходили с позиций». К 18 июля они очистили Галицию от наших войск. С 15 июля — удар по 8 армии, отходившей между Днестром и Прутом. К 21 июля 8-я Армия очистила Буковину, оставив Черновцы, а 1-я Армия уже располагалась на территории Румынии. 19 августа немцы начали операцию в Рижском районе. 21 июля мы оставили Ригу, утром взорвали верфи Усть-Двинска. Быстрый успех противника, несмотря на то, что план его давно был известен и меры по сосредоточению были приняты, следует объяснить исключительно потерей нашей армией боеспособности и стойкости по известным вам причинам». Причины всем были известны, а бороться с ними было одинаково сложно как в России, так и во Франции. Именно здесь, в Ля Куртин, в сентябре 1917-го года состоялась генеральная репетиция того, что охватило всю Россию через год — Гражданской войны. Напомню также, что события в Ля Куртин происходили совершенно синхронно с так называемым «Корниловским мятежом», направленным на недопущение прихода к власти большевиков [345]. Еще в Париже Гумилевым была принята телефонограмма от генерала Война-Панченко (в архиве сохранился его автограф записи этой телефонограммы) [346]: «Телефонограмма Генералу Занкевичу. В 6 ч. 20 м. передал Кочубей, принял Гумилев. Генерал Дюпор сообщил мне, что сегодня утром им сделано распоряжение о том, что перевозка 4-х батальонов и 2-х пулеметных рот из Курно в Мас д’Артит началась не позже сегодняшнего вечера, и он просит Вам доложить, что по его расчету все эшелоны будут выгружены в четверг днем (это — 6 сентября по н. ст.). Из Петрограда нет ничего. Курьер выехал сегодня с очередными бумагами. Генерал Война-Панченко». Речь в телефонограмме шла о переброске из лагеря Курно части войск «лояльной» 3-й бригады, в помощь артиллерийской бригаде командующего всей операцией генерала Беляева. О назначении двух пулеметных рот сказано в приказе по войскам №61 от 24.8/6.9 1917 года [347]: «<…> Назначаются 2 пулеметные роты для приведения в покорность солдат лагеря Ля Куртин. Роты будут переведены в Обюссон, в распоряжение генерал-майора Беляева». В тот же день, 6 сентября, по войскам был объявлен ультимативный приказ, определивший дальнейшее развитие событий [348]: «Приказ по русским войскам во Франции №62 от 24 августа/6 сентября 1917 г. Париж. Приказываю солдатам лагеря Ля Куртин сдать Французским властям оружие и, изъявив полную покорность, безусловно подчиниться моим распоряжениям. Все солдаты Ля Куртин, не подчинившиеся указанным выше требованиям к 10 ч. утра сего 28.8/10.9, согласно приказу Временного Правительства, считаются изменниками Родины и Революции — лишаются: а) права участия в выборах в Учредительное Собрание; б) семейные лишаются пайка; в) всех улучшений и преимуществ, которые будут дарованы Учредительным Собранием. Находящиеся в Ля Куртин войсковые чины, привлеченные следственной комиссией в качестве обвиняемых, которые добровольно подчинятся указанным выше требованиям, будут судиться Отрядным судом. Все же, принужденные к повиновению силой оружия, а также все, оказавшие какое-либо активное сопротивление исполнению выше перечисленного распоряжения, будут преданы Военно-Революционному суду. С 28 августа (10 сентября) я прекращаю отпуск продовольствия солдатам Ля Куртин. В случае дальнейшего неповиновения солдат Ля Куртин, с 10 ч. утра 29 августа/11 сентября я начну действовать против них оружием. Подлинник подписали: Представитель Временного Правительства Генерал-майор Занкевич и Комиссар Временного Правительства и Совета Солдатских и рабочих депутатов Евг. Рапп». На следующий день, уже из Ля Куртин, Рапп отправил в Париж телеграмму [349]: «Телеграмма Раппа Занкевичу из Ля Куртин (La Courtine) от 25.8/7.9 1917. Ход операции на один день запаздывает вследствие запаздывания приезда делегации из Курно». 8-го сентября в лагерь прибыла депутация артиллерийской бригады, о чем свидетельствует еще один автограф Гумилева [350]: «8 сентября н. ст. Депутации 2-й Особой Артиллерийской бригады. Сим уполномочиваю депутацию 2-й Особой Артиллерийской Бригады в составе 6-ти офицеров и 30 солдат вести переговоры с солдатами лагеря Ля Куртин в пределах выработанных условий и сроков с целью склонить названных солдат к повиновению Временному правительству и к исполнению всех распоряжений представителя Временного правительства Генерал-майора Занкевича и моих. Подпись: Комиссар Евг. Рапп. С подлинным верно: Прапорщик Гумилев». Одновременно, обращаясь к председателю депутации, в написанной Гумилевым записке Рапп уточняет [351]: «Доверительно. Подпоручику Гагарину, председателю депутации 2-й Особой артиллерийской бригады. План работ депутации. Отправка депутатов в лагерь Ля Куртин. Депутация поддерживает все время связь с Комиссаром и высшим командным составом, от которых в случае непредвиденных обстоятельств получает указания и разъяснения. Депутация делает полный доклад о результатах своей работы. В исключительных случаях действие переговоров депутации может быть продолжено до вечера 11 сентября. Комиссар Е. Рапп. С подлинным верно: Прапорщик Гумилев». Переговоры ни к чему не привели, а 9 сентября в расположение лагеря Ля Куртин прибыл из Парижа генерал Занкевич для того, чтобы лично принять участие в восстановлении порядка в лагере. Этим числом датированы записанные Гумилевым две его телефонограммы [352]: «Телефонограмма Генерала Занкевича генералу Комби. Генерал Б<еляев> послал план действий №1. Резолюция генерала Занкевича. С планов расположения войск согласен, но полагаю, что для сдачи оружия лучше не стягивать всех солдат в одну группу. Лучше собрать их в четыре группы по полкам, подготовив немедленное окружение наших и французских войск, имея в виду, что по сдаче оружия последуют аресты. 298. Генерал Занкевич». «Телефонограмма №2 Генерал Занкевич генералу Комби. Утром я приезжал в район лагеря Ля Куртин. Ведение операции для усмирения лагеря Ля Куртин. Прошу Вас не отказать в отдаче по соглашению с генералом Беляевым необходимых предварительных распоряжений для осуществления принятого нами плана действий в намеченное время. 1913 Занкевич». Лагерь Ля Куртин расположен на окраине городка Ля Куртин. Весь прибывавший офицерский состав размещался в городской гостинице «Терминюс», там же жили и офицеры 1-й бригады. Здание гостиницы было сожжено во время войны в 1944-м году.

Лагерь и городок Ля Куртин. Вверху - гостиница "Терминюс", где останавливались офицеры.
В этот же день, 9 сентября, Занкевичем была получена телеграмма из Петрограда, которая могла бы существенно изменить ситуацию [353]: «Телеграмма Генералу Занкевичу от Генерала Потапова. Военный министр приказал вывезти войска из Франции в Россию. Благоволите войти в сношение с Французским Правительством относительно тоннажа для их перевозки. О последующем благоволите телеграфировать. За Нач. Гл. Штаба Потапов. 36877». Как следует из приведенного ниже рапорта Гумилева, приказ этот был доведен до непокорных солдат лагеря Ля Куртин. Одновременно Занкевичем был объявлен следующий приказ [354]: «Приказ №64. Получен приказ Временного Правительства о возвращении войск в Россию. Исполнение его потребует много времени». Как видно из полученной телеграммы, Временное Правительство отказалось от планов дальнейшего использования размещенных во Франции войск, и тем самым оно удовлетворяло главное требование бунтующих солдат — возвращение на Родину. Однако даже этот, казалось столь весомый аргумент, — не произвел на них никакого впечатления. Разложение зашло слишком далеко, болезнь уже не поддавалась «консервативному лечению», требовалось — «хирургическое вмешательство». Да и как выяснилось позже, реализовать этот приказ в условиях войны не было никакой возможности. На текущий ход событий в Ля Куртин приказ из Петрограда, увы, никак не повлиял, не подействовал на восставших отрезвляюще. В последующие дни наступило некоторое затишье, срок ультиматума был продлен до утра 16 сентября. Эта отсрочка была по-разному воспринята противостоящими сторонами. В мятежном лагере решили, «что у начальства нового нет власти той, какая раньше у царя была. Оно способно лишь грозить, да уговаривать без толку» [355]. В войсках же усиленно готовились к операции по усмирению. В последней попытке договориться с мятежным лагерем участвовал Гумилев. Выше я цитировал книгу Д.У. Лисовенко «Их хотели лишить Родины», но оговорился, что пользоваться ею как документом бессмысленно. Но это касается различных идеологических оценок, надуманных цифр жертв и прочего. Хронология и последовательность событий дана им достаточно точно. Вот как он описывает предшествовавший началу обстрела день, 15 сентября [356]: «В 16 часов состоялась встреча членов Куртинского Совета с военным комиссаром. Рапп на этот раз не решился приехать в лагерь. Он прислал офицера с извещением о том, что он, представитель Временного правительства, ожидает руководителей 1-й бригады на границе лагеря и местечка ля-Куртин. Председатель Совета Глоба и члены Совета Смирнов, Ткаченко и автор этих строк в сопровождении офицера отправились на место встречи, указанное Раппом, где он их и ожидал. — Господин комиссар, — обратился к Раппу Глоба, — члены Куртинского Совета по вашему приглашению прибыли. Будем очень рады, если услышим от вас новое предложение, приемлемое и для вас и для нас». Далее следует многословный рассказ Лисовенко о речи Раппа и о вручении последнего ультиматума представителей Временного правительства. Это же подтверждает и Малиновский [357]: «Встречался с отрядным комитетом и комиссар Рапп. Он передал очередной ультиматум Временного правительства. В нем — прежние требования, ни малейшего намека на какие бы то ни было уступки... Теперь ультиматум устанавливал точный срок, по истечении которого, если лагерь не сдастся, будет открыт огонь, — 16 сентября...» Об ультиматуме было сказано выше, а нас больше интересуют здесь свидетельства о посещении лагеря накануне штурма офицером «при Раппе». Этим офицером мог быть только Николай Гумилев.

В лагере Ля Куртин. Старые открытки.
В архиве сохранилось не так много разрозненных документов, описывающих дальнейший ход событий, несколько следующих дней, когда восстание было подавлено силой. Информативно интересными выглядят записи, типа дневника боевых действий, со стороны 2-й Особой Артиллерийской бригады генерала Беляева, командовавшего всей военной операцией по подавлению восстания [358]. В них лаконично перечисляются основные события за весь этот трагический период. Они будут приведены ниже, к ним полезно обращаться для проверки других источников. Но начальству в Петрограде требовался подробный отчет, и военный министр А.И. Терещенко, после того, как все завершилось, обратился к Занкевичу, запросив у него, «ввиду предполагаемого опубликования официального сообщения о волнениях в наших войсках во Франции и неполноты сведений по этому вопросу <…> срочно телеграфировать краткий хронологический обзор означенных беспорядков, принятых против мятежников мер и достигнутых результатов» [359]. Такой документ был подготовлен и отправлен в столицу. Он представляет особый интерес: первоначальный вариант его был составлен непосредственным участником всех событий — Николаем Гумилевым. В архиве сохранился написанный его рукой черновик этого документа [360]. Записи Гумилева иногда чередуются с фрагментами, вписанными другой рукой, видимо, Занкевича или Раппа. Подготовленное по этому черновику официальное послание вышло за подписью генерала Занкевича. Сохранился и перепечатанный на машинке, слегка отредактированный и расширенный вариант этого документа, с рукописными вставками, возможно, рукой Гумилева, с некоторыми разночтениями [361]. Хотя документ этот ранее публиковался [362], приведем его здесь полностью, с исправлением всех ошибок и восстановлением ряда существенных пропусков из машинописного экземпляра. В документе дано не только описание событий в Ля Куртин, но и делается попытка анализа тех причин, которые к ним привели. Отдельные несущественные стилистические исправления указываться не будут, ведь это — не художественное произведение, а сухой рабочий документ. Так как он предназначался для отправки в Россию, все даты в оригинале приведены по старому стилю. Для удобства и во избежание путаницы ниже они заменены датами по новому стилю, как во всем остальном тексте. Вот его полный текст: «С получением известий о произошедшей революции в Париже возник ряд русских газет самого крайнего направления [363]. Газеты, а также отдельные лица из эмиграции [364], получив свободный доступ в солдатскую массу, повели в ней большевистскую ленинско-махаевскую пропаганду [365], давая даже зачастую неверную информацию, почерпнутую из отрывочных телеграмм французских газет. При отсутствии официальных известий и указаний все это вызвало брожение среди солдат. Последнее выразилось в желании немедленного возвращения в Россию и огульной враждебности к офицерам [366]. По поручению военного министра Керенского эмигрант Рапп 31 мая выехал к войскам, где обошел отдельные части, вводя в них новые организации в согласии с приказом 213 [367]. Однако брожение не прекращалось. Им руководил 1-й полк, исполнительный комитет которого [368] начал выпускать бюллетени ленинского с оттенком махаевского направления. 1 июля по желанию солдат войска были собраны из различных деревень в лагерь Ля Куртин. Здесь начались митинги, на которых первый полк и его вожаки стремились захватить главную роль. Только что созданный отрядный комитет, составленный из наиболее развитых и сознательных солдат [369], парировал насколько мог разрушительную работу 1-го полка, успокаивая брожение и призывая солдат к нормальной жизни на основе ныне введенных в армию демократических начал. Опасаясь возрастающего влияния отрядного комитета, руководители 1-го полка в ночь с 6 на 7 июля собрали митинг, на котором кроме 1-го полка присутствовал почти весь 2-й и небольшие части 5-го и 6-го полков. На этом митинге отрядный комитет был объявлен низложенным, хотя он был избран всего две недели тому назад. Одновременно с этим приказание начальника дивизии о выходе на занятия не было исполнено солдатами 1-й бригады. Воззвание, выпущенное ими, поясняло, что заниматься не имеет смысла, так как решено больше не воевать. Тем временем враждебные отношения между первой и второй бригадой [370] начали угрожать острым конфликтом. Сами солдаты второй бригады настойчиво просили отделить их от мятежной первой, грозя в противном случае самовольно покинуть лагерь. Поэтому генералом Занкевичем, прибывшим в лагерь вместе с уполномоченным Военного Министра гражданином Раппом, по соглашению с последним отдано приказание [371], чтобы солдаты, безусловно подчиняющиеся Временному правительству, покинули лагерь Ля Куртин, захватив с собою все снаряжение. 8 июля приказание это было исполнено, и в лагере остались солдаты, подчиняющиеся Временному правительству «лишь условно» [372]. Крайне враждебное отношение этих солдат к офицерам, дошедшее до насилий над ними, принудило генерала Занкевича удалить офицеров из Ля Куртин, оставив лишь несколько человек для обеспечения хозяйственной части. После этого по инициативе уполномоченного Военного министра гражданина Раппа к солдатам лагеря Ля Куртин неоднократно выезжали с ним вместе видные политические эмигранты, чтобы повлиять на солдат. Однако все эти попытки остались безуспешными. Назначенный комиссаром гражданин Рапп издал приказ, в котором настаивал на немедленном безусловном подчинении Временному правительству; и 4 августа комиссар Рапп выехал в Ля Куртин в сопровождении проезжавших через Париж делегатов Исполнительного комитета Русанова, Гольденберга, Эрлиха и Смирнова с целью сделать новую попытку повлиять на мятежников. Однако и эти попытки не привели ни к каким результатам, а делегаты С<овета> С<олдатских> Р<абочих> Д<епутатов> были встречены явно враждебно [373]. Столь же безрезультатной была поездка в Ля Куртин временно находившегося во Франции Комиссара Временного Правительства Сватикова. Получив от Временного Правительства разъяснение, что русские войска во Франции не предполагается возвращать в Россию, а также категорическое требование привести к повиновению мятежных солдат, не останавливаясь перед применением вооруженной силы, генерал Занкевич выехал вместе с комиссаром на место, и издав приказ, где объявил об этих распоряжениях Временного Правительства, потребовал от мятежных солдат сложения оружия, и в знак повиновения выйти в походном порядке в местечко Клерово. Однако требование это не было выполнено во всей полноте: вначале вышло всего около 500 человек, среди которых было арестовано 22 солдата, а затем через 24 часа еще около 6000 человек; остальные (около 2000 человек) были преднамеренно оставлены для сохранения оружия, которое сдать они не пожелали. На отдельное тогда же генерала Занкевича приказание сдать оружие по возвращении в лагерь мятежники ответили согласием, однако это приказание исполнено ими не было. Между тем оставление оружия в руках дезорганизованной толпы, среди которой несомненно скрывались провокационные элементы, представлялось явно опасным. Сложение оружия являлось основным условием для приведения этой толпы в порядок. При таких обстоятельствах и ввиду некоторой неустойчивости состояния духа части войск, оставшихся верными Временному Правительству, вследствие чего явилось сомнение в возможности применения их в качестве вооруженной силы для приведения к порядку мятежников, а также принимая во внимание, что употребление для этой цели французских войск являлось крайне нежелательным по причинам политического характера, и даже неосуществимым, решено было прибегнуть к давлению длительного характера: мятежники были переведены на уменьшенное довольствие, денежное довольствие было прекращено, выход из лагеря в соседний городок Куртин был загражден французскими постами и т. д. Меры эти вызвали подавленность духа мятежников в массе, в то же время благодаря этому усилили влияние на нее вожаков, стремящихся спрятаться за массу и растворить в ней свою ответственность. В то же время мятежные солдаты стали позволять себе насилие даже над чинами французских войск: так ими были арестованы и продержаны 6 часов французский офицер с двумя унтер-офицерами, которые по приказанию французского коменданта расклеивали в лагере телеграмму Главнокомандующего. 22 августа генерал Занкевич ездил в лагерь Ля Куртин, чтобы в последний раз попытаться убедить мятежных солдат сложить оружие; однако на его приказ вызвать представителей от рот Комитет лагеря ответил отказом исполнить это приказание. Получив сведения о проезде через Францию 2-й Артиллерийской Особой бригады, находившейся в отличном порядке, генерал Занкевич по соглашению с Комиссаром Раппом решили воспользоваться этой частью для приведения силой оружия мятежных солдат к покорности. Командиру 2-ой Особой артиллерийской бригады генерал-майору Беляеву было поручено сформирование и командование сводным отрядом, составленным из частей вышеупомянутой артиллерийской бригады и 1-ой Особой пехотной дивизии. 9 сентября солдатам лагеря Ля Куртин было объявлено распоряжение Временного Правительства об отозвании наших войск из Франции в Россию, однако и после этого объявления мятежники упорно отказывались сдать оружие [374]. По просьбе артиллеристов из их состава была послана к мятежным солдатам выборная депутация, которая и вернулась через несколько дней, придя к убеждению о бесполезности переговоров. Также отрицательный результат дали уговоры мятежников выборными солдатами 1-й Особой пехотной дивизии. 14-го сентября [375] была прекращена доставка пищевых продуктов в бунтующий лагерь. Однако эта мера могла иметь только моральный характер, так как в распоряжении бунтовщиков имелись значительные запасы продовольствия. Войска заняли назначенные позиции. Боевой состав отряда был 2500 штыков, 32 пулемета, 6 орудий. За линией расположения малочисленных наших войск в полутора километрах стала линия французских войск для тесной блокады лагеря Ля Куртин. В тот же день подполковник Балбашевский передал членам комитета лагеря Ля Куртин и в толпу мятежных солдат ультимативный приказ [376] генерала Занкевича о сложении оружия бунтовщиками, с угрозой открыть артиллерийский огонь в случае не согласия исполнить это приказание к 10 ч. утра 16-го сентября. 16-го сентября был открыт по лагерю редкий артиллерийский огонь, всего 18 снарядов, и мятежники были оповещены, что на следующий день огонь станет интенсивным ввиду того, что в ночь с 16-е на 17-е сентября сдалось только 160 человек. 17-го сентября вновь начался артиллерийский обстрел лагеря, и в 11 1/2 часов утра мятежники выкинули два белых флага и начали выходить из лагеря без оружия. К вечеру вышедших оказалось около 8000 человек. Они были приняты французскими войсками. В этот день артиллерийская стрельба не производилась. Оставшиеся в лагере человек 100-150 вели сильный пулеметный огонь. Вечером в лагерь был отправлен врач с четырьмя фельдшерами для оказания медицинской помощи раненым. 18-го сентября с целью ликвидирования дела был открыт интенсивный огонь по лагерю, и наши солдаты стали продвигаться. Мятежники упорно отвечали стрельбой из пулеметов. К 9 часам 19-го сентября лагерь был занят целиком. Всего зарегистрировано вышедших из лагеря 8515 солдат. Потери наших частей: 1 убитый, 5 раненых. Мятежников: 8 убитых, 44 раненых. Среди французских войск были лишь две случайные жертвы — 1 убитый, 1 раненый. Оба почтальоны, сбившиеся с дороги и попавшие в полосу попадания пуль мятежных солдат. Таким образом Куртинский мятеж был ликвидирован нашими же войсками без какого-либо активного участия французских войск. По обезоруживании среди мятежников было произведено 81 арестований. По выделению арестованных из остальной массы мятежников были сформированы Особые безоружные маршевые роты, из коих 2 составлены из особо беспокойных элементов, выделены и отправлены одна и другая; остальные роты оставлены в лагере Ля Куртин для выяснения виновности и степени их ответственности распоряжением Представителя Временного Правительства и Военного комиссара в сформированную Особую следственную комиссию».

Лагерь Ля Куртин после подавления восстания. В центре - арестованный руководитель восстания унтер-офицер Глоба. Архив Андрея Корлякова из альбома РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ВО ФРАНЦИИ И В САЛОНИКАХ, 1916-1919 - авторы-составители Андрей Корляков и Жерар Горохов, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2003.
Так развивались события в лагере Ля Куртин в изложении Гумилева. Думаю, что никакого искажения фактов в этом документе нет. Безусловно, вынужденный обстрел своих же соотечественников, их гибель — это трагедия, которую при сложившихся обстоятельствах избежать вряд ли было возможно. Репетиция Гражданской войны состоялась. Но при ликвидации Куртинского мятежа еще думали о возможных потерях. Когда писал свое сочинение Лисовенко, он руководствовался устоявшимся советским принципом — чем больше назвать цифру убитых, тем будет «лучше» [377]. И по его заключению в Ля Куртин было убито (!!!) 3000 человек! Маршал Малиновский называет хотя и завышенную (как полагалось) цифру, но не сравненную с Лисовенко — около двухсот человек [378]. О том, что Гумилев приводит совершенно точные цифры потерь, говорит их полное совпадение с данными, почерпнутыми из французских архивов. Зачем французам «обелять» русских? Вот какие сведения, взятые им из французских архивов, приводит в своей книге генерал Данилов — взгляд «со стороны» [379]: «Для характеристики дальнейших событий, ниже приводится подлинное содержание телеграмм французского генерала Combe, командовавшего 12-м Лиможским районом, которыми он уведомлял генеральный штаб о ходе действий русского отряда по усмирению Куртинцев. <…> 16-го сентября: в 10 часов 4 орудийных выстрела, выпущенных по русским мятежникам. <…> В результате четырех выстрелов из 75 мм. орудий по русским оказалось до 20-ти раненых. Стрельба была возобновлена в 14 часов. Очень редкие артиллерийские выстрелы будут производиться вплоть до ночи. <…> 17-го Сентября: Ночь очень деятельная. Пулеметный огонь верными войсками. Два делегата прибыли в штаб русского отряда. Заявляют о большом количестве раненых. Сдалось 200 человек. <…> 19-го Сентября: Русские мятежники окружены. <…> При первом же применении силы, почти вся масса мятежников сдалась без условий, но оставшаяся горсть упорствующих подверглась обстрелу, в результате которого оказалось 8 человек убитых и 44 раненых». Как видим — полное совпадение, еще раз убеждаемся в том, что Гумилев стремился дать подлинные данные и в официальном документе. Для того чтобы окончательно в этом убедиться, ниже приведены выписки из журнала боевых действий 2-й Особой артиллерийской бригады генерала Беляева. Эти документы всегда составляются по «горячим следам», и, как неоднократно приходилось убеждаться ранее, всегда дают наиболее точную, не отредактированную для «высокого начальства» информацию. Приведенные записи охватывают период с 8-го по 19 сентября 1917 года [380]: «8 сентября: От 2-й Особой артиллерийской бригады была послана депутация — 6 офицеров и 30 солдат. Пробыли в лагере до 12 сентября. 13 сентября: Сосредоточение на 13 сентября: Clairavaux, Le Mas d’Artige, et Teniers. Занкевич и Рапп послали еще одну депутацию от 5-го и 6-го полков. 14 сентября: В 15 ч. — занять позиции (2500 штыков, 32 пулемета, 6 орудий). В 15 ч. — подполковником Балбашевским, с русским комендантом деревни Ля Куртин, вручен ультиматум. 15 сентября: Последняя попытка унтер-офицера Родина. 16 сентября: К 10 ч. утра вышло только 160 человек. После этого Беляев, Занкевич и Рапп решили действовать. В 10 ч. утра — 4 шрапнели. Всего за день выпущено 12 шрапнелей и 2 гранаты. Родин еще раз ездил в лагерь. 17 сентября: В 10 ч. утра лагерь был сильно обстрелян. (28 шрапнелей и 4 гранаты). В 11 1/2 часа мятежники выкинули 2 белых флага. Огонь сразу прекратили. Угроза — выйти до 14 ч., иначе — обстрел. Массовый выход в 15 ч., много нетрезвых. Заняли юго-восточную часть лагеря — кавалерийские казармы. Осталось около 200-300 человек, которые начали стрелять. Вечером в лагерь отправился врач Зильберштейн с 4-мя фельдшерами. 18 сентября: Вернулись утром 18 сентября — 4 убитых и 39 раненых (12 — тяжелых), их вывели. В 11 ч. утра — сильный обстрел (по северной части). До 12 ч. — 100 снарядов (50 шрапнелей + 50 гранат). В 2 ч. дня заняли офицерское собрание. Опять огонь. Всего — 488 снарядов (шрапнель) и 79 гранат. 19 сентября: С 15 ч. 18 сентября по утро 19 сентября сдалось 53 мятежника, включая унтер-офицера Глобу. В 9 ч. утра лагерь заняли целиком (захвачено 6 солдат). Всего вышло 8515 солдат. Среди других немногочисленных документов, непосредственно описывающих ход операции, удалось обнаружить два донесения Раппа [381]: «Телеграмма от Раппа от 3/16 сентября 1917 г. Сегодня в 10 ч. утра произведены первые выстрелы, которые попали в деревню». «Телеграмма от Раппа от 4/17 сентября 1917 г. Положение не переменилось. За вчерашний день бунтовщики ранили 10 солдат, желавших выбежать из лагеря». Так что не все раненые — дело рук «приспешников» Временного Правительства. Это, кстати, подтверждает в своей книге и Малиновский (но не Лисовенко) [382]: «Группа куртинцев с вещевыми мешками потянулась в сторону шоссейной дороги на Клерово — пошли сдаваться. Жорка Юрков смотрел на эту процессию и бессильно скрежетал зубами. В отчаянии он дал несколько очередей по своим. Те бросились врассыпную. Несколько убитых и раненых остались лежать на плацу перед офицерским собранием. — Ты с ума сошел! — крикнул Гринько. — Зачем ты обстрелял своих? — Пусть не сдаются! При первых разрывах сыграли в труса. А говорили — насмерть, — с перекошенным от злости лицом огрызнулся Юрков. — Пойми, дурная голова, в семье не без урода. Пусть сдаются, нам без трусов будет легче. А бить их нельзя, они еще станут бойцами за наше дело. — Как же, жди, будут! — Юрков повернул пулемет в сторону полигона, откуда была отбита атака курновцев. Андрюша Хольнов, Женька Богдан, Петр Фролов и другие молча соблюдали «нейтралитет», но чувствовалось, что они не особенно осуждают Жорку: так, мол, им и надо; только треплются на собрании, а чуть что — сдаваться...» Итак, 19 сентября с Куртинским делом было покончено. Этим числом датирован еще один рукописный автограф Гумилева — «Запись телефонограммы Занкевича командиру 2-й Особой артиллерийской бригады Беляеву» [383]: «Прошу Вас передать офицерам и солдатам Вашей бригады мою благодарность за образцовый порядок и дух революционной дисциплины, который они проявили. Поведение Вашей бригады убедило меня еще один раз в том, что введенные в войсках демократические начала не исключают возможности образования образцовой воинской части, спаянной основами новой сознательной дисциплины». И на обороте листа: «Командиру 1-й особой артиллерийской бригады генералу Беляеву. Милостивый Государь, многоуважаемый Михаил Николаевич. Считаю непременным долгом от лица Временного Правительства принести Вам искреннюю благодарность за необыкновенную энергию и предусмотрительность, с которой Вы выполнили возложенную на Вас тяжелейшую задачу, одновременно с этим… (далее — обрыв)».

19 сентября 1917-го года - солдаты покидают лагерь Ля Куртин. Архив Андрея Корлякова из альбома РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ВО ФРАНЦИИ И В САЛОНИКАХ, 1916-1919 - авторы-составители Андрей Корляков и Жерар Горохов, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2003.
Любопытно, что этим же числом датирован документ, о существовании которого Гумилев вряд ли когда-либо узнал, так как подготовлен и объявлен он был за тысячи километров от Парижа, в России [384]: «Отношение помощника дежурного генерала Главного штаба подполковника Жвадского начальнику 5-й кавалерийской дивизии о порядке исключения Н.С. Гумилева из списков 5-го гусарского Александрийского полка от 6/19 сентября 1917 г. №157201. По военным обстоятельствам. Действующая армия. Начальнику 5-й кавалерийской дивизии. Состоявший в 5-м гусарском Александрийском полку прапорщик Гумилев (Николай), назначенный ныне в распоряжение начальника Штаба Петроградского военного округа, как произведенный не из юнкеров военного училища или студенческой школы прапорщиков, в названный полк приказом по Армии и флоту переведен не был. Ввиду сего прапорщика Гумилева надлежит исключить из списков 5-го гусарского Александрийского полка приказом по таковому. За помощника дежурного генерала, полковник Жвадский. За начальника отделения титулярный советник — подпись неразборчива». На основании этого отношения 21 сентября 1917 года был объявлен приказ №281 по Гусарскому полку об исключении Николая Гумилева из списков полка. Гумилев с Раппом оставались в районе Ля Куртин еще несколько дней, так как Рапп был включен в Особую следственную комиссию. Выведенные из лагеря Ля Куртин войска поначалу были размещены в окрестных селах [385]: к западу от лагеря — в деревне St-Denis (Сен-Дени); к северо-западу — по шоссе в Felletin (Фельтен); к северу — по дороге в Beissat (Бейсат) у деревни La Deigne (Ла День); к востоку — по дороге севернее озера, которое выходит на шоссе из Ля Куртин в St-Oradou (Сен Ораду). В архиве есть карта со схемой размещения войск. Вскоре все прошедшие проверку роты были на время возвращены в лагерь Ля Куртин, но уже без оружия. Выше был описан выданный Гумилеву 14 августа пропуск для передвижения по внутренней зоне Франции. На этом пропуске, как было сказано, проставлено две печати. Первая печать — печать выдавшей пропуск префектуры полиции. Вторая печать, в правом нижнем углу, проставлена комендантом лагеря ля Куртин. Это является еще одним документальным подтверждением пребывания Гумилева в лагере. 22 сентября был объявлен приказ Занкевича [386]: «Приказ по русским войскам во Франции №76 от 9/22 сентября 1917 г. По части интендантской. От имени Временного Правительства приношу мою глубокую благодарность частям 1-й Особой пехотной дивизии и 2-й Особой артиллерийской бригады, честно выполнившим свой тяжелый долг перед Родиной приведением к покорности мятежников лагеря Ля Куртин. Занкевич». Составленный на основе подготовленного Гумилевым черновика и других документов подробный рапорт по Куртинскому делу был направлен Занкевичем Военному Министру 1/14 октября 1917 г. [387] Рассказ о событиях в Ля Куртин мне хочется завершить воспоминаниями одного из очевидцев событий, опубликованными в эмигрантской прессе. Рассказ Константина Райна так и называется — «Ля Куртин» [388]: «В те дни тяжелые бои утихли на французском фронте и на земле Шампани, где кончилось большое наступление Нивеля, кресты могил усеяли французские поля. Перед Невиль и Сапиньоль, Курси, Луавр и Бермикур в разрытой взрывами коричневой земле легло костьми немало воинов России, которых царь прислал на помощь Франции в шестнадцатом году. Всего лишь год тому назад французы, восторженно их встретили, как никого они еще ни разу не встречали со времен, пожалуй, Жанны д'Арк. Той героической весной французская земля дрожала от ударов немецкого тарана. Из-под Вердена безостановочно катили поезда, а в них стонали искалеченные люди. Вся Франция, казалось, истекала кровью. Вот почему, при виде батальонов широкоплечих русских великанов, которые под звуки военной музыки, вдруг зашагали неожиданно по улицам Марселя и Парижа, вся Франция содрогнулась от крика: «On les aura! On les aura!» Весною семнадцатого года, перед самым наступлением Нивеля, вдруг из России пришла весть: случилась «Великая Бескровная и армия уже свободною пойдет к победному концу». А в шестнадцатый день апреля сам генерал Нивель, главнокомандующий армией французской весь фронт поднял на штурм: «Courage, confiance et vive France». Русские бригады в нем приняли участие и отличились. Но, понеся огромные потери, были направлены командованием в ближайший тыл на пополненье. И вот тогда наши бригады стали навещать довольно часто земляки из Парижа (ведь армия теперь стала «свободной»). Увы, но эти посещенья нам обошлись дороже всех потерь на фронте. Недели через три, в одном из батальонов, когда кончилась вечерняя молитва, из строя вышли самовольно человек пятнадцать солдат и неуверенной походкой подойдя к месту, где стоял их командир, несколько мгновений нерешительно потоптались, а потом один из них вдруг крикнул: «Скидывай орлы!». Тут все принялись бросать под ноги батальонному стальные орлы, что были на французских касках у солдат, и начали кричать, охрипшими от перепоя голосами: «Долой Империю! Да здравствуют советы!» Судьбе было угодно, чтобы это был батальон, геройски отличившийся во время наступления: он взял штыковым ударом бастион Курси и вместе с ним того же имени селенье, где было забрано семь сотен пленных немцев. Так началось крушенье русских войск во Франции. В июне все особые полки бригад, и Первой Лохвицкого, и Третьей Марушевского, приказом были сведены в одну дивизию, которая направлена была в далекий тыл — в Куртинский лагерь, что расположен был недалеко от города Лиможа. И там довольно скоро русские войска образовали две непримиримых группы. Тысяч восемь, ядром которых были люди с фабрик, провозгласили собственный Совет, который постановил: «Мы проданы царем французскому буржую — за пушки и снаряды. Мы посланы сюда своею кровью поливать шампанские поля и виноградники. Но революция дала нам свободу и право заявить: везите нас домой в Россию. А воевать — довольно с нас. Довольно подпирали мы буржуев, а с ними вместе офицеров и попов!» Другая группа — тысяч семь, все больше из крестьян и староверов, оставшись верной воинскому долгу, со всеми офицерами покинули бунтовщиков и в нескольких верстах разбили свой лагерь. Солдаты эти говорили так: «Ох, дураков у нас немало на Руси. Все это больше мелкота людская — сажееды с фабрик — народ нетвердый ни башкою, ни душой. Так им без всякого труда парижский большевик мозги на сторону свернул. Одна беда, что у начальства нового ни смелости, ни ума не достает — нам приказать бы — озорникам по ряжке вдарить, слегка покровянить партреты. Ей-ей бы сразу все пришло в порядок. А то ведь грех какой, да и позор во Франции, да и на всю Россию!» Увы! печальной памяти тогдашние правители России, когда касалось «перегиба справа» указали один лишь способ: или убедить словами, или только пригрозить, не применяя впрочем никаких суровых мер. Хозяева французы, искренне не зная, что можно предпринять в таком досадном и несчастном деле, глубокомысленно молчали. В Куртине вожаки заговорили с отменной наглостью: «видал-миндал, товарищи солдаты, что у начальства нового нет власти той, какая раньше у царя была. Оно способно лишь грозить, да уговаривать без толку. И коли мы от своего не отойдем, так нас скоро повезут с почетом всех назад в Россию. И может стать, что на корабль, как мы уж запросили, посадят либо Жоффра, а то и самого Нивеля». И, утешая так себя такой завидной долей, вся эта вольница, в Куртине сорвав погоны с плеч, да сковыряв, орлов российских с касок, да русские медали и кресты с французскими «croix de guerre» сваливши в яму, как ненадобный хлам, зажила жизнью солдата-анархиста. Скакали на конях, их там было с тысячу, привезенных с фронта. Играли в карты: в поддавки иль в дурака. Много пили: ром, коньяк, а то «пинар», частенько засыпая у дверей харчевни. И пели часто, порою под гармонь, а то под балалайку или гитару. Да с бабами крутили любовь, не считая денег. У большинства из них за год немало накопилось денег (на царской службе каждый получил не менее пятидесяти франков в месяц). К тому же вожаки им роздали не малый куш, за недопитое вино, которое до революции им разрешалось пить весьма умеренно и то лишь по воскресным дням. И так прошел июнь, июль и август без всяких изменений. Французы все еще хотели верить престижу Керенского, да и к тому же ведь эти русские куртинцы еще недавно с отвагой, за Францию, на фронте умирали! И только в сентябре получен был приказ, который ждали все с июня: «Восстановить хоть силою порядок в Ля Куртине». Тогда к Ля Куртин подошли и окружили лагерь русские лояльные войска: предназначенная артиллерия, для русского отряда на Балканах, да верная пехота — тысячи три, — начальником которой был полковник Готуа. Командовал отрядом генерал Беляев. И был послан ультиматум куртинцам, на этот раз уже довольно ясный!: «Назавтра утром — ровно к десяти — всем подлежит с оружием в руках оставить лагерь и, по одной из трех дорог, указанных в приказе, направиться к заставам, где подлежит оружие сдать и покориться закону российской армии. Всех непокорных данному приказу ждет в лагере суровая кара: расстрел немедленный из пушек!» Но получивши этот ультиматум, вожди бунтовщиков лишь усмехнулись: «Черта с два! Опять нам золотой погон грозит своим приказом... и как ему еще нудить не надоело!»... Наутро, чуть забрезжил свет, в лагерь прибежал взволнованный французский падре Пер Ларилон. Он, со слезами на глазах, старался убедить смутьянов, немедленно же подчиниться власти. Вожаки Куртина ему ответили: «Пер Ларилон! не бойтесь и не волнуйтесь понапрасну! Посмотрим, кто осмелится по нам стрелять из пушек? По нам, получившим свободу, русским солдатам! Начальство русское? Да вы смеетесь! Чтоб эти болтуны, способные лишь языком чесать решились на что-нибудь серьезное. Вы говорите, что у них расставлены пушки! Пер Ларилон, какой же вы чудак! Да это ведь из дерева стволы, чтоб нас перепугать! Да только нас теперь не напугаешь!» И так сердобольный падре, хороший добрый человек из лагеря ушел ни с чем. Когда взошло высоко солнце и осветило белые казармы Ля Куртина, на площадь выходить стали люди, и выходили без особой спешки. Кто голову чесал, а кто кушак подтягивал лениво. Но, бросив взгляд в ту сторону, где, среди зелени, виднелись орудия, вдруг задавал вопрос соседу: «А что, Митюха, может стать, что и взаправду бахнут вдруг по нас?» «Пустое дело» — отвечал Митюха — «ведь этим временным коптителям небесным — не дадена такая власть, как дадена была царю! И коли нас теперь пугают, то это чтоб в Россию не везти!» А к десяти часам пред куртинской вольницей явился оркестр в полном составе и несколько минут до срока, когда ультиматум истекал, грянул сыгранно и дружно рабочий марш. Закончивши его, все музыканты замолчали, похаркали, да посморкались, подули в трубы и, пошутив, по адресу буржуя, решили вдарить что-нибудь веселое да озорное! И тут, как бы в ответ на ультиматум, нахально зазвенели трубы и затрещал задорно барабан — веселую народную песенку: «Эх, понапрасну Ванька ходишь, да понапрасну ножки бьешь»... На наблюдательном пункте, что был сооружен на небольшом холме, под ветвями деревьев, в эти минуты, стояла молча группа русских офицеров и в тот момент, когда с площадки лагерной неслась со свистом залихватским песня, со стороны деревни стали бить отчетливо часы; все замерли и в тот момент, когда послышался удар десятый и последний башенных часов, наш батарейный командир, махнув рукой отрывисто, но внятно произнес жуткую команду — «огонь». И сразу же раздался выстрел. «О, Господи, спаси Россию и наших русских дураков», — сказал стоящим рядом с ним, нам незнакомый офицер, смотревший в бинокль, когда над головами музыкантов взорвалась шрапнель! Это был Николай Степаныч Гумилев... [389] Как говорил наш фейерверкер в этот день: «Ведь ентот первый пушечный удар всем нашим сажеедам — мозги на место вправил! И ихний пыл — построить мир без Бога — немедля паром вышел, как самоварный дым»! И сразу принялись куртинцы оставлять лагерь и, по указанным дорогам, угрюмо, но решительно, отправились с повинной. Одни молчали, а другие ругали непристойными словами всех вожаков, что с панталыку сбили их. Лишь только в здании, где находилось офицерское собрание, Совет Солдатский с верными людьми — их было человек сто двадцать — засели, заперев все двери и принялись палить из пулеметов и винтовок. И так держались трое суток, потом сдались. По протоколу министерства итоги были таковы: Среди бунтовщиков убитых 9, да раненых с полсотни. Лояльные войска потерю понесли в одном солдате, которого там в тот же день похоронили с честью. Еще был шальной пулей убит один случайно подвернувшийся француз. Никто из повинившихся куртинцев нигде и никакого наказания не понес. Только группа непокорных, что оказала сопротивление, была французам сдана на руки для отправления в тюрьму в Бордо. И этим с Ля Куртином было покончено». К. Райн в своем рассказе упоминает о распеваемых солдатами песенках. Образец такого народного творчества приводит в своей книге Лисовенко:
Я привел ее здесь, так в архиве среди бумаг, относящихся к событиям в Ля Куртин, случайно обнаружилась машинописная копия другой «Песни куртинцев». Автор ее — не указан, но он явно не из числа тех, кто бунтовал в лагере. Видно, что написана она по «горячим следам», но кем? Не берусь этого утверждать, но, как мне кажется, к ней мог приложить руку и наш герой. Чуть позже будут представлены два шуточных стихотворных экспромта Гумилева, относящихся к его службе во Франции, и они, по настроению и по ритму, чем-то перекликаются с этой песенкой [390]:
В заключение рассказа о событиях в лагере Ля Куртин хочу упомянуть о требующей проверки атрибуции одной фотографии, впервые опубликованной в альбоме, посвященном «Экспедиционному корпусу» [391]. В книге сказано, что на фотографии изображен Николай Гумилев, и сделана она в расположенном на юге Франции лагере Фрежюс в Сен-Рафаэле (Camp Fréjus, à Saint-Raphaël). Это был промежуточный лагерь, использовавшийся при переброске войск из Марселя на Салоникский фронт. Николай Гумилев попасть туда никак не мог. Однако, как выяснилось из беседы с авторами альбома, на самом деле не известно точно — где был сделан этот снимок. Как мне было сказано, впервые Гумилева на нем, по внешнему сходству, атрибутировал Лев Мнухин. Офицер на снимке, действительно, немного похож на Гумилева, однако утверждать, что это он, я бы не рискнул. До сих пор ни одной достоверной фотографии Гумилева этого периода обнаружить не удалось, хотя, безусловно, они были, хотя бы фотографии на упоминавшихся пропусках для проезда по территории Франции. К сожалению, в РГВИА пропуск с фотографией обнаружить не удалось. Сейчас предпринимаются попытки найти такие фотографии или документы с ними во французских военных архивах. Так как, скорее всего, эта не верно атрибутированная фотография периодически появляется в различных изданиях, телевизионных передачах, получая достаточно широкое распространение как фотопортрет Гумилева во Франции, привожу ее ниже, чтобы было понятно, о чем идет речь.

Фотография из альбома; в центре офицер, который, скорее всего, ошибочно атрибутирован как Николай Гумилев. Архив Андрея Корлякова из альбома РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ВО ФРАНЦИИ И В САЛОНИКАХ, 1916-1919 - авторы-составители Андрей Корляков и Жерар Горохов, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2003.
Гумилев вернулся в Париж не позже 25 сентября. Об этом говорит упоминаемое в записях Лукницкого несохранившееся письмо матери от 12/25 сентября из Парижа, с пометкой Лукницкого, что «только что вернулся из двухнедельной командировки в центр Франции» [392]. В «Трудах и днях» он использовал эту информацию [393]: «1917. Осень. В Париже состоит адъютантом комиссара Временного Правительства. Получает 800 франков жалованья в месяц. Работы по службе много, но протекает она в хороших условиях. Живет на ..., 59. Постоянно встречается с Н.С. Гончаровой и Ларионовым. В своих письмах отмечает встречи с Аничковым, Мещерским, Минским и встречу с Трубниковым. Несколько писем жене и матери. Зовет их в Париж. Письма. 1917. Первая половина сентября. В течение двух недель — в командировке на фронте. Около 11-12 сентября вернулся в Париж. Письма. Примечание. М.Л. Лозинский сообщает, что Н.Г. по возвращении в Россию говорил ему, что был в Шампани. Может быть, это и было «двухнедельной командировкой» (?)». Видно, что Лукницкий использовал информацию из приведенного выше письма Ахматовой и дату письма матери. Любопытно примечание про Лозинского и про Шампань. В Шампани русские бригады сражались весной 1917-го года, там находились многочисленные захоронения русских воинов. Ля Куртин относится к другому департаменту — Крез, и вряд ли эрудит Лозинский мог здесь что-то перепутать. Так что возможно, что Гумилев и побывал на местах боев русских войск. Но никаких документальных свидетельств об этом нет. Позже, в 1930-е годы, силами русских эмигрантов и ветеранов войны, в Шампани, в Сент-Илер-Ле-Гран (Saint-Hilaire-le-Grand), было создано мемориальное русское кладбище с церковью, построенной по проекту архитектора А.А. Бенуа, церковь была освящена 16 мая 1937 года. На этом кладбище покоятся останки 915 русских солдат, погибших на французской земле. Вполне вероятно, что Рапп с Гумилевым могли посетить эти места, чтобы понять, как можно увековечить их память. Думаю, в задачи Военного комиссара входили и такие действия.

Мемориальное кладбище погибших во Франции наших соотечественник и церковь в Сент-Илер-Ле-Гран.
Не сложно расшифровать фразу Лукницкого — «живет на ..., 59». Там Гумилев не жил, но проводил почти все свое служебное время. На улице Пьера Шаррона, 59 (59, Pierre-Charron) размещался Комиссариат, место службы Гумилева у Военного комиссара Е.И. Раппа. Это недалеко от Елисейских Полей и Триумфальной арки. Любопытно, что эти апартаменты перешли по наследству к Советской России и СССР. А после 1991 года — «наследникам» СССР. В 2002 год там размещалось Белорусское представительство, а сейчас флаг и табличка при входе говорят, что его заняло представительство Казахстана.

Комиссариат Раппа, Париж, 59, Pierre-Charron - здесь служил Гумилев.
А жил Гумилев после возвращения из Ля Куртин, как вспоминал Ларионов — «внизу в сквере, под станцией метро Passy, у некоего г. Цитрон». По описанию понять, где он жил, сложно, но если выйти из поезда метро на станции «Passy», то становится понятно, как можно жить «в сквере, под станцией метро». Станция эта — наружная, располагается на эстакаде, а под эстакадой сквер. Не так давно в сквере этом стоял жилой дом, где жил адвокат А.Л. Цитрон. У него в квартире или в том же доме осенью 1917 года поселился Николай Гумилев. К сожалению, дом этот не сохранился, на его месте разместились вновь построенные культурные армянские учреждения и библиотека.

Станция метро Passy, сквер "Альбони", где жил Гумилев с осени 1917-го по январь 1918-го года.
Отсюда было недалеко как до места службы, так и до улицы Декамп, до «Синей звезды». Этими маршрутами Гумилев пользовался чаще всего. Однако заметим, что, встречаясь с Еленой Дюбуше, Гумилев не забывал и о своих петроградских приятельницах. Известно, что сразу после возвращения из Ля Куртин, 27 сентября, он написал письмо Анне Энгельгардт [394], но само письмо не сохранилось. После возвращения из Ля Куртин началась рутинная служба офицера для поручений при Комиссаре Временного Правительства Е. Раппе. К сожалению, правительство это оказалось — чересчур «временным». Поэтому рутинная служба продолжалась недолго, меньше двух месяцев. СЛУЖБА В КОМИССАРИАТЕ ОСЕНЬЮ 1917 ГОДА Пока Гумилев и Рапп были в Ля Куртин, не сидел без дела и третий сотрудник Раппа — писарь Евграфов. 20 сентября в русских военных учреждениях было развешано объявление [395]: «Общее собрание солдат, занимающихся в русских военных учреждениях в г. Париже в присутствии гг. офицеров постановило пригласить всех русских военнослужащих в г. Париже на общее собрание для организации общего военного комитета. С разрешения вр. и. д. Начальника Тылового Управления русских войск во Франции, собрание имеет быть в субботу 22-го сентября нового стиля в 8 1/4 часа вечера в помещении Тылового Управления русских войск во Франции, на которое просьба присутствовать всех русских военнослужащих. Председатель собрания А. Евграфов. 7/20 сентября 1917 г. Париж». Через несколько дней Евграфов подал заявление в командировавший его Отрядный Комитет [396]: «Заявление писаря Раппа Евграфова от 13/26 сентября 1917 г. <…> Я получил желательное для меня назначение в писари к Военному Комиссару Раппу, каковое назначение состоялось по выбору и утверждению Отрядного Комитета. Я приступил к выполнению своих прямых обязанностей у Военного Комиссара, каковые далеко не являются чем-либо легким и представляющим удовольствие, а связаны с трудом и весьма огромного содержания, так как я не получаю ничего, кроме что — солдатского жалованья <…>». Комитет русских военнослужащих г. Парижа вскоре был создан, и его первое общее собрание комитета состоялось 3 ноября 1917 года [397]. Александр Евграфов занял в нем видное положение, и жалованье ему вскоре повысили. Сразу по возвращении в Париж Раппу, а с ним и Гумилеву, пришлось заниматься исполнением приказа Керенского о возвращении русских войск из Франции в Россию. 23 сентября Занкевич отправил в Лондон телеграмму [398]: «Телеграмма от 10/23 сентября 1917 г. №990. Военному Агенту в Англии. Получил приказ <об> отправке в Россию войск, находящихся во Франции в числе 250 офицеров и 16000 солдат. Впоследствии к этому надо прибавить около 3000 инвалидов и больных. Полагаю необходимым начать отправку на пароходах «Мельбурн», «Царь», «Царица» и «Двинск», везущих на север Шотландии южных славян и подкрепления для Салоникской дивизии. Первый пароход вышел из Архангельска 2 сентября. Прошу срочно переговорить с Военным Министром и Министром Пароходства для отправки наших войск и организации перевозки их из Франции до избранного порта. По сведениям Морского Агента указанные пароходы могут поднять одновременно до 5000 солдат. Поверенный в делах со своей стороны телеграфировал в Посольство в Лондоне. Занкевич». Как видно из этой телеграммы, командование Русскими войсками во Франции делало все возможное, чтобы исполнить полученный приказ. Желающие выехать в Россию офицеры отправлялись самостоятельно. Еще в начале сентября из Стокгольма была получена телеграмма о порядке их проезда через Скандинавские страны [399]: «Телеграмма из Стокгольма от 20.08/2.09, от Кандаурова. Вх. 1722. Сообщаю, что офицеры, едущие в Россию <…> через Скандинавию, не могут рассчитывать на пособия, но могут спокойно везти с собой, вне всякой вализы, все свое военное платье, но отнюдь не оружие». Хотя Занкевич и Рапп были не согласны с принятым Временным Правительством решением, они не были намерены препятствовать возвращению войск в Россию. На состоявшемся 7 октября заседании Отрядного Комитета было заявлено [400]: «Заседание Отрядного Комитета в присутствии Комиссара Временного Правительства Г. Раппа. 23 сентября (7 октября) 1917 года. Комиссар Временного Правительства приехал в Отряд, чтобы ознакомить Отряд, а в данный момент Отрядный Комитет, с нынешним тяжелым положением, основанным на документальных данных относительно отправки Русского Отряда в Россию, данными как историческими, до приказа, так и последующими, после приказа. Комиссар Рапп заявил, прежде всего, что он, а также и генерал Занкевич считали и продолжают считать ошибкой Временного Правительства отзыв Русского Отряда из Франции, особенно в данный момент, во время такой морской блокады, и принимают во внимание, что сохранение союзных отношений нашей молодой Русской Республики с Францией является органически необходимым. Тем не менее, этот приказ был вызван, по предположению Комиссара, Французским Правительством, после того как они видели все явления жизни нашего Отряда. Однако до сих пор положение об отправке нашего Отряда в Россию так же неопределенно из-за отсутствия тоннажа. Был запрос Франции, Англии, Америки и Японии: возможно, через месяц, выделение — на 5000 человек. Комиссар понимает, что отправка Отряда займет 5-6 месяцев, о чем он сообщил Временному Правительству, с просьбой пересмотреть последний приказ. Что же касается Сектора, то Французское Правительство категорически отказало в нем до тех пор, пока в отряде будут комитеты. И идея командного состава перед отправкой стать части Отряда хоть на месяц на сектор, для поднятия общественного мнения, как Франции, так и русских в нашем Отряде — идея эта едва ли также получит осуществление. <…> Рассмотрен вопрос и о добровольцах во Французскую армию, надо знать количество солдат и офицеров. <…> На многочисленные вопросы со стороны собрания, что же нам делать в это время, чем заполнить такой огромный досуг солдат, Комиссар ответить затруднился и между прочим предложил, если будут желающие, устроить их на корабельные судовые французские работы». Поначалу для отправки войск нашлось 3 корабля в Англии (в Шотландии), однако вскоре англичане в категорической форме отказались пропустить русские войска через свою территорию по железной дороге через Англию (с юга на север) в Шотландию, хотя отправка кораблей в то время могла быть осуществлена только оттуда. Решение так и не было найдено. Последняя попытка отправить хоть часть войск (на русском корабле) была предпринята в начале ноября — обратите внимание на дату телеграммы (о событиях в России было еще ничего не известно) [401]: «Телеграмма из Лондона от 8 ноября 1917 г. (вх. №1 от 1/14 ноября). Военно-морскому Агенту во Франции В.И. (Владимир Иванович) Дмитриеву. О предоставлении парохода «Курск» восточно-азиатского общества (путь на Мурманск). Возможны затруднения. Прежде всего, Британское Министерство судоходства официально заявило, что предоставить какой-либо эскорт для сопровождения парохода оно совершенно не в состоянии. Затем, я очень опасаюсь, что перевозка войск по железной дороге из Мурманска внутрь страны может очень задержать вывоз оттуда грузов, что особенно нежелательно в виду крайней недостаточности в Мурманске складочных помещений. Наконец не могу не отметить также и тех затруднений, которые могут возникнуть с плохо дисциплинированными солдатами в Мурманске, где нет ни достаточных жилых помещений, ни запасов продовольствия и надлежащей охраны». 22 ноября из Петрограда была направлена телеграмма во Францию и в Архангельск [402]: «Телеграмма Главнокомандующего в Архангельск от 9-го ноября ст. ст. 1917 г. за №1310. Военно-морскому Агенту во Франции. Вследствие закрытия навигации на Архангельск и совершенной неприспособленности Мурманского порта для перевозки больших людских масс, прошу совершенно приостановить присылку эмигрантов, а также не производить перевозку воинских частей, подлежащих возврату в Россию. Подтверждение изложенного Правительством последует, вероятно, немедленно по ликвидации кризиса власти. №1310. Главнач Сомов». Чуть позже поступила еще одна телеграмма из России: «Перевозка солдат на Мурманск Петроградом не разрешена». Заметим, что эта телеграмма поступила уже от большевистской власти в Петрограде; это ответ Лисовенко на его риторический вопрос в написанной им книге — «Их хотели лишить Родины». Надо отметить, что в первые месяцы после революции у власти в Мурманске были большевики. Затем Мурманск был занят союзническими (в отечественной литературе традиционно пишут — оккупационными) английскими войсками, однако англичане не чинили никаких препятствий проезду через Мурманск в Петроград русских военнослужащих [403]. Наиболее близкий для нас пример — возвращение в Россию в апреле 1918-го года Николая Гумилева! Наконец, 19 ноября 1917-го года в Париж поступила телеграмма №15807 из США [404] с отказом американцев в отправке в Россию части судов с продовольствием и войсками. Все возможности были исчерпаны. А сама Россия после 7 ноября 1917-го года совершенно забыла о судьбе русских солдат во Франции. При работе в архиве с документами за период после победы большевиков не удалось обнаружить ни одного документа, хоть как-то говорящего о беспокойстве новой власти за судьбы простых русских солдат, воевавших за честь России во Франции. Все они теперь либо работали на французских заводах и в сельском хозяйстве, либо были помещены в военные лагеря на севере Африки. Заметим, что не насильно, туда французы были вынуждены отправить только тех, кто отказался работать во Франции. К сожалению, таких оказалось большинство. Положение их было там, конечно, исключительно тяжелым, к ним относились как к военнопленным. Но обвинить в этом исключительно французские военные власти, на собственной шкуре, в Ля Куртин, прочувствовавших, что такое — «русский бунт», я бы не решился. Телеграммы из Петрограда вскоре начали поступать, но это были сплошь громкие лозунги с призывами к миру, подписанные, в основном, Львом Троцким. Ниже будут приведены примеры нескольких таких телеграмм. Не хотелось разбивать вопрос о том, как пытались Занкевич с Раппом решить проблему отправки войск в Россию, поэтому пришлось забежать слегка вперед. Вернемся в конец сентября 1917 года, чтобы понять, чем еще занимался Военный Комиссариат, какие дела проходили через руки Гумилева. Дурной пример заразителен, после Ля Куртин возникли проблемы в пока остававшемся спокойным и «лояльным» лагере Курно. В Отрядный Комитет лагеря 25-го сентября поступило уведомление от коменданта лагеря Курно [405]: «18 Округ. Лагерь Курно. №913. Полковник Финсагрив, Комендант лагеря Курно. Господину Генералу Командиру 1-й дивизии. Имею честь уведомить Вас, что я получил несколько рекламаций от землевладельцев, а также от промышленников, живущих в окрестностях лагеря, которые жалуются, что Ваши солдаты циркулируют во всех концах и во всякое время дня и ночи. Ломают банки для бензина, воруют фрукты, овощи, кур, яйца и вообще все, что им попадается, а также уничтожают бесполезно все то, что они не могут унести. Кроме того, делают более серьезные вещи, как, например, входят в дома, пугают женщин и детей, ломают двери, которые им не открывают и одним словом, ведут себя в стране друзей хуже, чем бы они вели себя в неприятельской стране. Я понимаю, что жители, быть может, это преувеличивают, но тем не менее в этих жалобах есть большая доля правды, и что продолжение подобного хулиганства может серьезно повлиять на мнение о русских войсках, которое, мы все так желаем, чтобы оно было на должной высоте. Покорнейше прошу вас принять все меры, чтобы мирные жители могли жить у себя в спокойствии и безопасности, как днем, так и ночью, чтобы они не рисковали плодами своих работ и ресурсами, которые необходимы для них и их семейств». На документ наложена весьма своеобразная резолюция: «Отрядный комитет с прискорбием публикует это письмо и надеется, что солдаты русского отряда, находящиеся в лагере Курно, сумеют поддержать (sic!) некоторых из своих товарищей, которые своим поведением позорят весь отряд». Сумели «поддержать»? Через Гумилева шла вся переписка с Отрядным Комитетом лагеря Курно, и 26 сентября он направил туда записку [406]: «Прошу адресованные бумаги на имя Военного комиссара посылать: 59, rue Pierre Charron. Прапорщик Гумилев (подпись)». Думаю, что в октябре и ноябре Раппу с Гумилевым приходилось бывать в этом лагере, возможно, и в других местах. По крайней мере, об этом говорят очередные запросы на получения пропусков для Раппа и Гумилева. В конце сентября на собственном бланке Гумилевым было подано прошение [407]: «Офицер для поручений при Комиссаре Временного Правительства и Исп. Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов при русских войсках во Франции. 59, rue Pierre Charron, Париж, 28 сентября 1917 г. №61. В Управление Военного Агента во Франции. Согласно распоряжения Комиссара прошу Вас ходатайствовать перед Французским Правительством о выдаче Комиссару и мне Sauf-conduit или Cartes rose (пропуск или водительские права) на все время войны. При сем прилагаю Sauf-Conduit, срок которому истек. Приложение: упомянутое. Прапорщик Гумилев (роспись)». В углу штемпель в квадратной рамке: «Военный Агент во Франции. Получено 16/29 сентября 1917 г. Вх. №3524. Отдел — Агент». Сразу же Военным Агентом было подано соответствующее прошение Военному Министру, аналогичное тем, о которых было рассказано выше. Документ на французском языке [408] запрашивал у Министра продление пропусков для Военного комиссара Евгения Раппа и офицера для поручений Николая Гумилева, для перемещения по всей территории Франции, где размещены русские войска, если возможно, на все время ведения войны. Думаю, что пропуска эти были получены. Но по иронии судьбы как раз этими «бессрочными» пропусками как Раппу, так и Гумилеву пользоваться пришлось очень не долго. Вскоре отпала необходимость ездить в Русские бригады, так как они были расформированы, как и вся Русская миссия в Париже. Но в конце сентября никто этого предполагать еще не мог. Однако с поведением солдат в Курно они должны были разобраться. Обнаруженные документы, относящиеся к службе Гумилева, носят самый различный характер. Так, 25 сентября он отчитывался в потраченных на командировку суммах и возвратил деньги. В приказе по Тыловому Управлению №34 от 12/25 сентября 1917 г. по части инспекторской указывается (в виде таблицы) [409]: «§12. ПРИХОД», и далее четыре колонки; 1) «Откуда получено» — Прапорщик Гумилев; 2) «Сумма» — 2000 франков; 3) «Какое назначение» — На погашение док. 230 и 288; 4) «Куда занести» — прочерк. Через несколько дней в приказе по Тыловому Управлению объявлено [410]: «Приказ №37 от 1 октября 1917 г., Париж. §10. По части интендантской. Выписать из сумм Главного Управления Генерального Штаба и выдать под расписку прапорщику Гумилеву 3130 фр. 05 сантимов полевые порционные и суточные по 1 октября согласно расчету. 316. Карханин». Гумилев впервые получил суточные, «считая таковые с 24-го июля с.г. (нов. ст.), т.е. со времени фактического нахождения в распоряжении г. Комиссара». Все расчеты с Гумилевым за командировку в Ля Куртин были завершены. Два любопытных документа приходятся на следующий день, 27 сентября 1917 года. Один из них говорит о характере отношения Раппа к ведению дел в подразделениях русского военного управления, и, в какой-то мере, о его непростом характере и о том, что работать с ним было не просто. Как известно из характера их взаимных отношений, Гумилев смог приспособиться к требуемому им режиму. Это важно знать, так как по многочисленным публикациям можно подумать, что, работая у Раппа, Гумилев не столько служил, сколько развлекался, ходил по театрам, друзьям, на свидания. В этот день Рапп подал докладную Занкевичу [411]: (на бланке Раппа) «27 сентября 1917 г. №57. Вх. №919 15/28 сентября 1917 г. Представителю Временного Правительства при Французской армии во Франции Генерал-майору Занкевичу. Считаю своей обязанностью обратить Ваше внимание на порядок и время занятий в Тыловом Управлении. В то время как в других учреждениях (Заготовительная комиссия, Управление Военного Агента и Вашей Канцелярии) работа продолжается до 7 час. вечера, Тыловое Управление, открывая свои занятия в 9-10 ч. утра, прекращает их к 4 часам дня, с перерывом на завтрак. Мало того, с отменной аккуратностью оно празднует не только все воскресенья, но и все отмеченные календарем праздники. Такой своеобразный порядок в военное время, долженствующее вызывать максимум напряжения сил, является чрезвычайным соблазном в глазах русских военнослужащих и посмешищем в глазах французов. Одно из двух: либо это вредит ходу работ, либо штат служащих явно преувеличен, и в последнем случае я по долгу моих обязанностей должен обратить на это внимание Временного Правительства. Не откажите, Господин Генерал, уведомить меня о Вашем решении по этому вопросу и ваших распоряжениях. Е. Рапп». На документе проставлена резолюция Занкевича, от руки: «Требую от своих подчиненных не известного числа часов присутствия, а известной работы. Начальник отдела Тылового Управления не ограничивается работой в присутственной части, занимается по вечерам у себя на дому. Для Тылового Управления присутственные часы с 9 до 17 часов по будням, а в праздничные дни с 9 до 13 ч. 15.9/28.9 — Занкевич». Но исключительно интересен для нас другой, поэтический «документ», исходящий от самого Гумилева. Причину его появления следует искать в том, что в Русской миссии во Франции постоянно шли реорганизации, переназначения офицеров, отправка некоторых из них в Салоники, в действующую армию. Из Салоник регулярно поступали письма о нехватке офицеров. Так в сентябре, пока Гумилев с Раппом были в лагере Ля Куртин, пришел очередной запрос из Петрограда, отношение начальника мобилизационного отдела ГУГШ полковника Саттерупа Военному агенту во Франции А.А. Игнатьеву об офицерах, командированных на Салоникский фронт [412]: «Командующий второй особой дивизией телеграммами 942 и 985 сообщает, что командированные ГУГШ офицеры на пополнение дивизии задерживаются в пути без его согласия распоряжением военных агентов и Представителя во Франции. Генерал Тарабеев, указывая, что дивизия имеет некомплект в 131 офицера, просит всех офицеров, назначенных дивизию и задержанных пути, направить по назначению, так как из числа отправленных 32 офицера до сего времени не прибыли. Прошу телеграфировать, кто именно из офицеров, следовавших в Салоники, оставлен во Франции, так как в ГУГШ поступило ходатайство об оставлении Франции только одного прапорщика Гумилева. 369761 Саттеруп. 33020 Юдин. Верно, подполковник Благовещенский». Капитан Мещерский по поручению Военного агента ответил [413]: «Из офицеров, отправляющихся в Салоники, мною были задержаны подпоручик Анников и Тимрот, о чем мною было извещено Главное управление Генерального штаба <…> В настоящее время означенные обер-офицеры отправлены к месту своего служения». Телеграмма №29 [414] №1817 от 16/29 сентября 1917 г. свидетельствовала, что подпоручик Тимрот еще оставался в Париже, но был откомандирован в Тыловое Управление для отправки во 2-ю Особую дивизию. Не хватало в Салониках и простых солдат, о чем говорит телеграмма [415]: «Вх. 2062 от 2/15 октября 1917 г. Из Салоник (бета 421). Прошу копию передать Рюссариер. Дивизия имеет значительный не комплект. Получение укомплектования из России затруднительно и крайне не желательно, ибо вполне возможно получение разновременных превратно понятыми свободами элементов. Прошу сообщить, в какой мере могли бы быть привлечены к пополнению дивизии интернированные во Францию уроженцы Боки-Которской и прочие представители Славянских народностей, находящихся во Франции и могущих быть применены во вторую Особую дивизию добровольцами. В случае осуществимости желательно возможно скорое получение хотя бы первой партии. Полагаю, что одним из соблазнительных данных являются высокие оклады жалованья наших солдат. 57 франков рядовой и 85 — франков унтер-офицер. Прошу ответ. Начдив 2-й Особой Полковник Доршпрунг. 1397 Артамонов». Видимо, такие переговоры периодически велись и с Гумилевым, о чем свидетельствует составленный им шутливый стихотворный рапорт, впервые опубликованный К. Парчевским в 1924 году в парижской газете «Звено» [416]. Парчевский пишет: «Февральская революция застала Н. Гумилева в Париже в качестве прапорщика Гусарского Александрийского полка, входившего в состав отправленных русским командованием во Францию для операций на Западном фронте военных частей. Летом 1917 года Гумилев был назначен офицером для поручений при комиссаре русского корпуса во Франции. С осени началось разложение русских частей во Франции, и было решено их расформировать. К этому периоду относится первое письмо из любезно предоставленных нам полковником Б. стихотворных посланий покойного поэта к своему ближайшему начальнику, г-ну Б. Послание представляет собой рапорт, написанный на бланке с обозначением: «Офицер для поручений при комиссаре, прапорщик 5-го Гусарского Александрийского полка Гумилев. 14/27 сентября 1917. Париж».
Во всех публикациях сказано, что этот шуточный рапорт Гумилев подал Раппу. Однако Парчевский называет другое имя — полковника Б. Безусловно, рапорт был подан полковнику Бобрикову, исполнявшему в Париже обязанности Представителя Временного Правительства при Французской Главной Квартире. Именно Бобриков ведал назначением русских офицеров в различные французские воинские подразделения, в том числе и в авиационные школы. Выше он упоминался в связи с объездом русских лагерей в июле, совместно с Раппом и Сватиковым. Напомним о том, что и первоначальное назначение Гумилева в распоряжение генерала Занкевича от 23 июля было подписано Бобриковым. Бобриков, совместно с Занкевичем, Раппом и Беляевым, руководил подавлением восстания в Ля Куртин. Об этом много пишут в своих книгах Лисовенко и Малиновский, естественно, в уничижительном тоне, издеваясь над тем, что Бобриков 5 сентября 1917 года был принят французским президентом Пуанкаре в Елисейском дворце, где президент вручил ему орден «Почетного легиона». Тональность приведенного стихотворного рапорта и, в особенности следующего, поданного в начале 1918 года, говорит о том, что между ними сложились приятельские отношения. Хотя, в данном случае, «рок хранил» Гумилева, и его оставили при Военном Комиссаре Раппе, слава Богу, Бобриков стихи эти не порвал. Между тем «атаки» на Гумилева не прекратились и в начале октября, когда из Петрограда была получена очередная директива [417]: «Вх. №1986. 23 сент./6 окт. 1917 г. Из Петрограда (клером). Находящегося во Франции штабс-капитана Кикинадзе прошу безотлагательно отправить к месту назначения; также оставление Прапорщика Гумилева в распоряжении комиссара РАППА Мобилизационный Отдел признает нежелательным и вновь просит о скорейшем направлении всех следующих в Особые дивизии в свои части. 40154 Муассер». На документе резолюция: «Копию Комиссару Раппу. 8/25 Пор<учик> Степанов». Точка с назначением Гумилева окончательно была поставлена только 20 октября, меньше чем за три недели до того, как в столице империи грянул гром [418]: «№1390. 7/20 октября 1917 г. Генералу Занкевичу, копию комиссару Раппу от начальника политического Управления Военного министерства Шер (клером). Отправлено 7/20 X 1917. Получено 13/25 X 1917. 489, 841, 1076. Прапорщика Гумилева утверждаю <в> должности офицера для поручений при Комиссаре. Штат комиссариата русских войск во Франции включен в общий штат армейских комиссариатов, который в скором времени будет утвержден. Согласно этого штата Комиссару положено содержание в размере 9000 руб. в год из полкового оклада. Прошу Вашего распоряжения удовлетворять Комиссара Раппа содержанием со дня его назначения на должность Комиссара 1390. Начальник отделения Военного министерства Шер. Верно: князь Кочубей». На телеграмме резолюции : «Копии посл<аны> №1. Канцелярия. Копии: 1) Начальнику Тылового управления; 2) Комиссару; 3) Военному министру. 3<анкевич>». Больше вопрос о назначении Гумилева из Петрограда не поднимался. Но еще до конца года пришлось решать проблемы иного рода — что делать с офицерами из распадающейся Русской миссии. А пока — новые текущие вопросы, которые надо решать. 29 сентября объявлен приказ по Русским войскам №86 [419]: «<…> §2. Для рассмотрения поступающих ко мне претензий по убыткам, понесенным французскими учреждениями и частными жителями при усмирении волнения в Ля Куртин, назначаю комиссию в составе: председателя — комиссара Временного Правительства Г-на Раппа и членов — полковника Салмина, подполковника Симинского и штабс-капитана Федорова. Занкевич». Убытки были значительными, и в эту бухгалтерию пришлось вникать офицеру для поручений Николаю Гумилеву. В течение октября в Отрядном Комитете лагеря Курно неоднократно рассматривались вопросы, связанные с событиями в Ля Куртин. Так, в докладе Отрядного съезда [420] 2 октября были проанализированы причины, приведшие к сентябрьским событиям. Главной причиной было названо, как и говорилось выше, неудачное формирование бригад: «соединение бригад привело к конфликтам, главным смутьяном был 1-й полк». Был сделан неожиданный вывод — меры по вооруженному подавлению мятежа было приняты слишком поздно, и виновниками в этом были названы Занкевич и Рапп. В заключение доклада было сказано, что в отряде «накапливается брожение за возврат в Россию». В дальнейшем расхождения между Военным Комиссаром и Отрядным Комитетом 3-й бригады в лагере Курно все расширялись. 6 октября Отрядный Комитет направил Раппу запрос в связи с посланным 11 августа секретным, приведенным выше письмом №313 о провокационной роли Игнатьева, так как его не устроил полученный от Военного комиссара ответ. В письме, в частности, сказано [421]: «Письмо от 23 сентября 1917 г. (ст. ст.) (6 октября). №329. На отношение Ваше от 25-го сентября с. г. за №49, Отрядный Комитет имеет сообщить нижеследующее: 1) Данные, легшие в основу секретного отношения Комитета за №313, обсуждены при закрытых дверях, а потому, значит, широкому оглашению или распространению они не подвергались. 2) Не посягая на Ваше отношение к Временному Правительству и Совету Рабочих и Крестьянских Депутатов, Комитет полагал, что природа вещей диктует ему необходимость координировать свои действия с Военным Комиссаром. <…> Отрядный Комитет Русских войск во Франции доводит до Вашего сведения, Г-н Комиссар, о том, что, не слагая с себя ответственности за грядущие события, Отрядный Комитет, тем не менее, в будущем своем ответе перед Русской Государственной Властью не скрывает коренных расхождений, которые существуют между Вами, Г-н Комиссар, и Русским Отрядом во Франции. Председатель Джинория». Уже через два дня, 8 октября последовал ответ Раппа [422]: «№49. 25 сентября 1917 г. (ст. ст.) (ответ на послание от 23.9/6.10 1917 г. за №329). Председателю Отрядного Комитета Русских войск во Франции Прапорщику Джинория. 23 сент. 1917. Вх. №228. Мною получена среди других «секретных» бумага Отрядного Комитета №313. По этому поводу считаю нужным обратить Ваше внимание на следующее: 1) Комиссар, назначенный Временным Правительством и Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, обязан отчитываться только перед учреждениями, которым вместе с тем и предоставлено право запроса. 2) Обращаясь к существу дела и не говоря уже о том, что оно весьма далеко выходя за пределы компетенций Отрядного Комитета и составляя одну из главных и доверительных задач Комиссара, нельзя не признать, что по самой природе своей оно является чрезвычайно доверительным и секретным, и уже, конечно, не подлежит широкому оглашению и обсуждению. 3) Упоминание определенных лиц в постановлении, документе широко распространяющемся, является не только неосторожностью, но, несомненно, может повредить и целям, которые преследует Отрядный Комитет. Е. Рапп». С 15-го по 19-е октября в Курно состоялся Отрядный Съезд [423], на котором присутствовал Рапп, произнесший на его открытии пламенную речь революционера-ветерана, в которой, в частности, сказал [424]: «<…> Есть недостатки. С деловой точки зрения комитет обвиняют в многословии при малом деле. Многословие понятно. Веками Россия молчала, получив право говорить, заговорила много и получилось преувеличение. Это проходящее. Потребность выговориться пройдет и повсюду пойдет работа. Возражают еще, что комитеты по принципу стали в оппозицию власти и власти новой — Революционной. Это так, но зла здесь нет. Правда оппозиция, после бездействия мысли при старом режиме, заходит далеко, но это преходяще. Непременное условие парламента — это оппозиция, и в Англии она, например, почетна. Безусловно, не надо увлекаться оппозицией как принципом, нужно ее совместить с реальной работой. Значение организации как сейчас, так и в будущем громадно. Организация — это школа для будущих граждан. Война кончится — Россия — никогда; за войну солдатские массы приучатся к самосознанию, и потом организациями пренебрегать нельзя, а нужно их, безусловно, поддерживать. Я как старый революционер, уже сдающийся, быть может, в архив, приветствую Вас, молодых, как новое свободное и яркое солнце нашей свободной страны и свободной армии!» 16 октября на съезде было оглашено письмо Раппа [425], в котором он извещает Съезд о своем внезапном отъезде по делам службы в Париж, и в котором он приветствует Съезд и желает ему плодотворной работы. Однако в конечном итоге Председателем Съезда была принята резолюция: «Комиссар Рапп шел в корне врозь всегда с Отрядом и Отрядным Комитетом. Отрядный Комитет как орган никогда не имел поддержки у Комиссара, и Отрядный Комитет пришел к заключению, что Е.И. Рапп не отвечает своему назначению, он не знает жизни своего Отряда. Не знает этой жизни и генерал Занкевич, и в нашем развале есть доля их вины». Любопытный, хотя несколько уводящий нас в сторону документ прошел через канцелярию Комиссариата 12 октября 1917 года [426]: «Вх. 2042 от 29.9/12.10 1917. Из Понтерлье (шифром). 26 сентября (ст. ст.) отбыл из Парижа для следования в Россию бежавший из Германского плена Подпоручик Гвардии Семеновского полка ТУХАЧЕВСКИЙ. Кроме купленных здесь необходимых вещей означенному офицеру выдано пособие в размере 600 франков. 986 Голован» [427]. Так что не исключена встреча Николая Гумилева и с будущим Маршалом, закончившим свою жизнь так же, как и наш герой. Однако не весь октябрь Гумилев был постоянно при Раппе. Как и ранее в России его несколько раз временно освобождали от прохождения службы по состоянию здоровья, и он попадал в госпитали, так и здесь, в Париже, в начале октября он вынужден был обратиться к местному медицинскому персоналу. В приказе по Тыловому управлению русских войск во Франции. №38 было объявлено [428]: «5 октября 1917 г. г. Париж. По части инспекторской. <…> §3. Объявляю при сем копию акта за №982 врачебно-эвакуационной комиссии о результатах медицинского освидетельствования поименованных в этом акте воинских чинов. Акт №982. Врачебно-эвакуационная комиссия в заседании 19 сентября/2 октября 1917 г. в помещении Тылового Управления постановила: 1) Офицер для поручений при комиссаре Временного Правительства при русских войсках во Франции прапорщик Гумилев должен представить анализ мочи; 2) <…> Подписано с приложением казенной печати 19 сентября. Председатель врачебно-эвакуационной комиссии доктор медицины А. Рубакин, члены доктора Ландау, Ярковский. Гумилев исполнил это «приказание», и в результате 14 октября последовало продолжение [429]: «Приказ №42 от 1/14 октября 1917. Париж. <…> §2. Объявляю при сем акт №1033 врачебно-эвакуационной комиссии о результате медицинского освидетельствования поименованных в этом акте воинских чинов. Акт №1033. Врачебно-эвакуационная комиссия на заседании 26 сентября/9 октября 1917 г. в помещении Тылового Управления русских войск во Франции постановила: 1) Офицер для поручений при комиссаре Временного Правительства прапорщик Гумилев направляется в госпиталь Мишле для исследования. <…> Подписан 26 сентября 1917 г. (9 октября). Подписали: Председатель комиссии доктор медицины Э. Ландау, члены: доктора Я. Ярковский, Д. Клейман и депутат с военной стороны подпоручик Перников». Госпиталь Мишле располагался в парижском предместье Ванв (Vanves). Здесь сейчас располагается лечебница Seguin Michèle, 18, Place de la République, Vanves. Рядом, на площади, стоит старинная церковь Сен-Реми (Eglise Saint-Rémy).

Ванв, площадь Репюблик, госпиталь Мишле (справа, на левом снимке) и церковь Сен-Реми. Больные и раненые в парке госпиталя Мишле. Архив Андрея Корлякова из альбома РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ВО ФРАНЦИИ И В САЛОНИКАХ, 1916-1919 - авторы-составители Андрей Корляков и Жерар Горохов, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2003.
На этот раз Гумилев задержался в госпитале ненадолго, и уже 26 октября был объявлен приказ [430]: «Приказ №47. 26 октября 1917 г. <…> §2. Объявляю при сем копию акта за №1122. Акт №1122. Врачебно-эвакуационная комиссия на заседании 10/23 октября 1917 г. в помещении Тылового Управления русских войск во Франции постановила: <…> 4) Офицер для поручений при комиссаре Временного Правительства прапорщик Гумилев признан к строевой службе годным». И уже следующим днем, 24-го октября, датирован автограф Гумилева в канцелярии Раппа. Это ответ на полученную из Петрограда 15 октября телеграмму [431]: «Вх. №1096, №88051. Генералу Занкевича от Юдина. Отпр. 29.9/12.10 — 11 ч. 30 м. Получ. 2/15.10 — 10 ч. Для комиссара Раппа. Телеграмма №74 не могла быть расшифрована ни в шифровальном отделе ГУГШ, ни в Ставке, ни в Министерстве Иностранных Дел. Благоволите шифровать ее ключом, имеющимся в Огенкваре. Потапов». В написанном Гумилевым тексте ответной телеграммы сказано [432]: «Petrograde Ministre-Président Kerenski. Телеграмму №99 зашифровываю ключом №5, полученным мною от комиссара Сватикова и находящимся в Министерстве Юстиции и Внутренних Дел. 1319. Военный Комиссар Рапп. 24 октября». Так что, работая у Раппа, Гумилев ознакомился и с работой шифровальщика, это необходимо будет вспомнить, когда Гумилев в январе 1918 года окажется в Англии и будет несколько месяцев работать в Шифровальном отделе Русской военной миссии в Лондоне. О «культурной» стороне жизни Гумилева этого периода известно очень мало, однако из публикации письма антиквара Туссана (Toussaint) Михаилу Ларионову от 25 октября 1917 года видно, что его увлечение восточной живописью не иссякло, и коллекция продолжала пополняться [433]: «Я хотел бы сообщить, для Вашего друга, прапорщика Гумилева, что я готов ему показать несколько новых китайских полотен. Если Вы в данный момент свободны, заезжайте с ним». К сожалению, ничего неизвестно о судьбе гумилевской коллекции. В этой же публикации приводится письмо вдовы Ларионова из архива Струве: «О картинах, книгах и т.д., оставленных Гумилевым, я ничего не знаю. Мне говорили, что он собирал коллекцию эротического характера. Если таковые или другие были переданы Ми<хаилу> Фед<оровичу>, они находились, вероятно, в ателье, которое мне пришлось в срочном порядке освободить. Я <…> спасала лишь вещи Ларионова и Гончаровой». 29 октября Гумилев самостоятельно подготовил документ, явно связанный с его пребыванием в госпитале — это его заявление на собственном бланке дивизионному интенданту 1-й Особой пехотной дивизии [434]: «Офицер для поручений при Комиссаре Временного Правительства. Париж. 16/29 октября 1917 г. №105. Дивизионному интенданту 1-й Особой пехотной дивизии. Больные солдаты госпиталя №45 Hôtel Dieu в 1t Malo имеют большую нужду в сахаре, который им выдается в недостаточном количестве. Поэтому Военный Комиссар поручил мне просить Вас отправить на имя доктора этого лазарета M-lle Goldberg (мадмуазель Гольдберг) посылку в 30 кило сахара для раздачи его солдатам. Прапорщик Гумилев (подпись от руки)». На бланке, в правом верхнем углу — печать управления дивизионного интенданта: «Управление Дивизионного Интенданта 1-й Особой пехотной дивизии. Получено 21 октября/3 ноября 1917 г. Вх. №3216». Помета: «К делу». На обороте: «Начальнику Тылового Управления Русских войск во Франции. На зависящее распоряжение. И.д. Дивизионного Интенданта 1-й Особой пехотной дивизии Подполковник (подпись неразборчива). Делопроизводитель (подпись неразборчива). 24 окт./6 ноября 1917 г. №4397». Здесь же резолюция: «Хоз. Ком. С. Мало. Донести, сколько сахару получают наши больные, сколько французские. 9.11 (подпись неразборчива). Рядом квадратная печать: «Тыловое Управление Русских войск во Франции. Получено 12/11 — 1917. Вх. №4449. Отд. хоз. 1107». Недостаток сахара Гумилев, видимо, почувствовал в госпитале на себе самом. Известно, что сладкое, сладкий чай он очень любил. Ирина Одоевцева вспоминала [435]: «Гумилев очень любил сладкое. Он мог «ликвидировать» полфунта изюма или банку меда за один вечер, весь месячный академический паек. <…> — Самовар! — блаженно вздыхает он. — <…> С детства люблю глядеться в него — так чудовищно и волшебно. <…> — С детства страстно люблю чай. Горячий. Сладкий пресладкий. И еще с вареньем. Он накладывает себе в чашку варенья, сухарики хрустят на его зубах. Он жмурится от удовольствия…» 31 октября Гумилев расписался в ведомости о получении жалованья за октябрь 1917 года. Ведомость [436] эта аналогична описанной выше августовской, и зарплата его не изменилась, 106 руб. 50 коп. за октябрь. Есть его расписка: «Двести восемьдесят четыре франка получил прапорщик Гумилев, октябрь 1917». В августовской ведомости Рапп не значился. Но приказом по русским войскам №117 от 2 ноября 1917 г. было объявлено [437]: «<…> §6. В дополнение приказа моего от 11 июля с.г. №29 Комиссара Временного Правительства Г-на Раппа зачислить на денежное довольствие при Тыловом Управлении, считая оклад такового 750 руб. в месяц. Основание: Телеграмма начальника Политического Отдела Военного Министерства вх. №1390/1212. Занкевич». Поэтому уже в этой ведомости появилась запись: «Комиссару Врем. Прав. Г. Раппу — Жалованья из оклада 750 руб. в месяц с 11 июля по 1 ноября (приказом по русским войскам №29), всего 2750 руб.» В ведомости есть его автограф — «Семь тысяч триста тридцать три франка 30 сантимов получил, Е. Рапп». Как и в прошлый раз у Гумилева почти наименьшее жалованье, меньше только, 32 рубля в месяц, у переводчика Лазарева и журналиста Ляшенко, но им в отличие от Гумилева, полагались значительно превышающие основное жалованье «столовые» и «на представительство». (У Гумилева, без надбавок, было — 61 рубль в месяц; но ему полагались еще и суточные — по 30 франков в день). Помимо расписки за получения жалованья, от этого последнего дня последнего «нормального» месяца 1917-го года сохранилось еще два автографа Гумилева (хотя сами автографы были проставлены позже, 31-го октября документы были только написаны). Они касаются разборки отрядных дел. Выше было приведено несколько документов, говорящих о расхождении Раппа с Отрядным Комитетом ранее «лояльного» отряда в лагере Курно, составленного из 5-го и 6-го Особых пехотных полков. Но не все было столь однозначно, как ни странно (а скорее, это вполне естественно), после «горячего Куртинского душа» уважением к Раппу прониклись солдаты мятежного 1-го Особого пехотного полка, также размещенные в лагере Курно. Уважение это, правда, было проявлено своеобразным способом. В канцелярию Раппа, а точнее, непосредственно Гумилеву, одновременно поступило два доноса. Вот эти документы с автографом Гумилева. Отношение солдат сводной роты 1-го Особого пехотного полка Военному комиссару Временного правительства Е. И. Раппу [438]: «Солдаты Сводной роты 1-го Особого пехотного полка Лагеря Курно. 31 октября 1917. Получено 17.11.1917. №104. Г-ну Комиссару Временного правительства Евгению Раппу. Желая быть преданным Вам, г-н Комиссар, как представителю русской демократии, верному революции России, мы, солдаты 1-й сводной роты 1-го полка, доносим, что наш ротный к<оманди>-р штабс-капитан Маслов, с целью подорвать Ваш авторитет, внося смуту в солдатах, открыто обозвал Вас и Ген<ерала> Занкевича «Сволочами». Считая это недопустимым, просим Вас г. Комиссар самыми суровыми мерами внушить последним, что безвозвратно прошло время глумления над представителями Русской демократии. Солдаты 1-й сводной роты 1-го полка». На документе резолюция: «С подлинным верно: Офицер для поручений при В<оенном> комиссаре Вр<еменного> правительства. Прапорщик Гумилев (подпись)». Аналогичен и второй документ [439]: «Ротный комитет 1-й Сводной роты 1-го полка Лагеря Курно. Октябрь 1917. Получено 17.11.1917. №105. Господину Комиссару Временного правительства Евгению Раппу. Доводим до Вашего сведения господин Комиссар, что на общем собрании 1-го Особого полка от 7-го (20-го) Сентября 1917 г. в своей речи мл. унтер-офицер 1-й сводной пулеметной роты 1-го полка Василий Николаевич Кольчугин, бывший член отрядного комитета, говорил следующее: «Господа, выбирайте добросовестных солдат в отрядный комитет, т. к. предстоит важная и сложная работа. Доверять Комиссару Временного Правительства нельзя. Я открыто заявляю, что комиссар Рапп ярый большевик и ленинец». Капитан Троицкий спросил его, что это так ли. Кольчугин ответил, «что я раз говорю, так значит это так». Из №94 газеты Р.С.Г. («Русский солдат-гражданин во Франции») мы убедились, что Вы потерпели клевету со стороны товарища Кольчугина. Веря в Вашу верность Родине, мы убедительно просим Вас быть беспощадным к клеветникам представителей демократии. Пред. рот. комитета П. Валов. Члены С. Буланов. Секретарь С.П. Вишняков». На документе та же резолюция: «С подлинным верно: Офицер для поручений при В<оенном> комиссаре Вр<еменного> правительства. Прапорщик Гумилев (подпись)». Рапп откликнулся на эти обращения письмом [440]: «Спасибо Вам и военным товарищам за Ваше доверие, без которого мне было бы затруднительно защищать ваши интересы и свободную Россию. От должности я еще не отказался и не могу этого сделать в такую тяжелую минуту. Но действительно ко мне приезжала делегация Отрядного комитета и заявила мне, что отряд мне не верит и что мне придется отказаться. Но сделать этого я не могу, так как я поставлен от Временного Народного Правительства, а оно теперь переживает тяжелые времена и ему каждый должен помогать. <…> Если действительно солдаты не верят, то, конечно, когда затруднения правительства пройдут, то я попрошу, чтобы оно уволило меня. А вам еще раз спасибо». Письмо это было написано 6/19 ноября, уже тогда, когда просить было некого, так как «заявления» от солдат были получены, можно сказать, в другую историческую эпоху, и вряд ли Рапп стал с ними разбираться, они просто были подшиты к «делу» и в таком виде дошли до нас. Перед Русской миссией вскоре встала неразрешимая проблема: какую страну, какую Россию она представляет. В октябре в Петрограде тоже начинали догадываться о том, что излишняя «демократизация армии» может выйти боком. Любопытна полученная Занкевичем телеграмма из Петрограда от генерала Дитерихса [441], который, как и Занкевич, долгое время командовал русскими экспедиционными войсками, но не во Франции, а на Салоникском фронте, куда был направлен Гумилев [442]: «Телеграмма от Генерала Дитерихса Занкевичу. Вх. №1180 (исх. №7339). Отпр. 9/22 октября. Получ. 11/24 октября 1917 г. О мероприятиях по поднятию боеспособности армии. 1) Реорганизация и увольнение старших сроков службы. 2) Возвращение дезертиров (к 15 ноября). 3) Поднятие дисциплины — убрать партийную (любую) агитацию в войсках; подготовить выборы в Учредительное Собрание (под руководством комиссаров); приказано подчиняться начальству, как представителям правительственной власти; отдавать честь. Новое положение о комиссарах и комитетах — служат лишь для того, чтобы следить за войсковой дисциплиной. 4) Поднять тактическую подготовку войск. 5) Подготовить укомплектование. 6) Обеспечить продовольствие и транспорт. 7) Материальное положение. Срок выполнения — к 1 мая 1918 г. Передать, в том числе, всем Военным Комиссарам». Меры эти явно запоздали. И хотя телеграмма до Раппа дошла, реализовать «мероприятия по поднятию боеспособности армии» было уже невозможно, как во Франции, так и в России. Обзорные документы этого периода не внушали особого беспокойства [443]. На осень крупных операций на Западном фронте не планировалось. Собиралась выйти из войны Австрия, и союзники хотели, чтобы Россия усилила давление на своем юго-западном фронте. В России были неудачи на Рижском фронте, что вызвало волнение среди союзников. Но больше всего пугало продолжившееся в ноябре брожение в войсках. 5 ноября Занкевич подал Раппу записку [444]: «23.10/5.11 1917. №1466. Военному комиссару. На основании телеграммы №77184/2229 прошу Вас собрать под Вашим председательством комиссию из членов: генерал-майора Никоненко, одного представителя от Тылового Управления и представителя от Военного Агента для строгого согласования деятельности и устава Комитета Русских Военнослужащих г. Парижа с требованиями приказа №213. Генерал-майор Занкевич». Имеется в виду приказ №213 по Армии и флоту «О комитетах и дисциплинарных судах» от 27 апреля 1917 года, о котором упоминал и Гумилев в отчете о Куртинском восстании. Предполагаю, что Занкевич собирался ознакомить собравшихся с директивами, полученными от Дитерихса, так как опасался деятельности вновь созданного Комитета Русских Военнослужащих г. Парижа, первое общее собрание которого, как было сказано выше, состоялось 3 ноября. Последний документ, вышедший из канцелярии Раппа до событий в России, — направленное Военному Агенту Игнатьеву ходатайство о прикомандировании к нему лейтенанта французской службы В.Я. Мартынова [445]: «… В настоящее время лейтенант Мартынов прикомандирован Вами к редакции Солдатской газеты, где он занят лишь до полудня. <…> При наличности лично моей канцелярии (один офицер и один писарь) я лишен фактической возможности выполнять как следует многосложную работу, которой я завален по моей должности. Спрошенный мной лейтенант Мартынов выразил свое согласие и готовность быть отданным в мое распоряжение. Е. Рапп». Игнатьев расписался в получении этого документа — 25 октября/7 ноября 1917 года. Учитывая сложившиеся отношения между Раппом и Игнатьевым, последний отказал комиссару в его просьбе, так как вскоре Владимир Мартынов, подпоручик 10-й группы 81-го полка тяжелой артиллерии французской армии, политический эмигрант с 1907 года (предполагаю, старый приятель Раппа по эмиграции), был назначен переводчиком в русскую армию [446]. Вскоре, правда, Занкевич предоставит Раппу еще одного помощника. Но сейчас мне хочется обратить внимание на дату получения этого ходатайства. Оказалось чрезвычайно интересным посмотреть на событие, перевернувшее жизнь в России — со стороны. Ниже я приведу ряд документов, показывающих как, в каком виде доходила до Парижа информация об октябрьском перевороте, и как на нее реагировали оторванные от Родины соотечественники. Одним из них был Николай Гумилев. «ОКТЯБРЬСКИЙ» ПЕРЕВОРОТ — ВЗГЛЯД ИЗ ПАРИЖА Первое, что обращает на себя внимание, когда просматриваешь дела [447], датированные 7 ноября 1917 года, это полное отсутствие каких-либо значимых событий — обычная текучка. Из Петрограда регулярно поступали сводки о положении дел на различных фронтах и в России. Все эти сводки получал как Представитель Временного Правительства генерал Занкевич, так и Военный Комиссар Рапп. Так как в мою задачу ни в коей мере не входило описание всех событий войны, эти документы, как правило, не цитировались. Но документ, отправленный из Петрограда 25 октября/7 ноября, необходимо привести полностью, ведь он говорит о том, что сумятица в мозгах происходила не только у малообразованных солдат, но и в самых верхах. Итак, телеграмма из Петрограда [448]: «Вх. 1389, №7889. Генералу Занкевичу от генерала Дидерихса. из Ставки. Отпр. 25.10/7.11 1917 г. Получено — 28.10/10.11. Личной ориентировки: за время с 17-го по 24-ое октября на суше, всех фронтах ничего существенного, везде перестрелка и поиски разведчиков. На фронте Приморского направления разведывательные части выбили турок из первой линии, местами достигли третьей, захвачено много оружия и снабжения. Балтийское море без перемен. На Черном море 18-го октября два наших миноносца обнаружили в бухте 1 неприятельский миноносец и 3 парохода. Миноносец нами потоплен, а пароходы сожжены. Истекшую неделю не прекращались попытки неприятеля братания на всех фронтах. Братавшиеся разгонялись огнем. Для содействия Итальянцам в течение 3-х недель на Южном и Румынском фронтах будут произведены в широком масштабе демонстративные действия. В частности, на Южном фронте будет приступлено к закладке исходных для атаки траншей, интенсивная воздушная разведка, артиллерийская пристрелка для означения атаки и мелкие наступательные операции наиболее прочными частями. На Румынском фронте и на фронте 9-й и части 8-й армий будет произведен ряд подготовительных атак демонстративного характера и поиски мелких партий, воздушная разведка, пристрелка к предполагаемым местам атаки и газовые атаки. На фронте Румынской армии кроме того предполагается атака одного из участков позиции противника. Дитерихс 7889. Копии: №1 — Советнику Посольства; №2 — Полковнику Графу Игнатьеву; №3 — Полковнику Пац-Помарнацкому; №4 — Капитану Галяшкину; №5 — Оставить в канцелярии генерала Занкевича; №6 — Начальнику штаба генерала Фоша (письмом). Верно: прапорщик Кочубей». В этот же день объявляет ничем не примечательный приказ по войскам Занкевич [449]: «Приказ по русским войскам №122 от 25.10/7.11 1917 г. По части инспекторской. §1. И.д. Старшего коменданта русских войск на юге Франции Подполковник Тавасшерна подлежит откомандированию в распоряжение Начальника 1-ой Особой пехотной дивизии для назначения на службу в один из полков этой дивизии. Для временного исполнения означенной должности допускается подполковник 234-го пехотного Богучарского полка Тарковский. §2. Находящиеся на излечении в госпитале «Bella nue» в г. Канне 2-го маршевого батальона 2-й Особой пехотной дивизии: поручик Добровольский, подпоручик Михайлов и прапорщик Коренец, и 8-го Особого пехотного полка прапорщик Рыбаков позволили себе 9-го октября сего года в 10-м часу вечера самовольно отлучиться из названного госпиталя, в каковом отсутствии и находились около 2-х часов. За означенный проступок объявляю названным офицерам выговор. §3. Рядовой 1-го Особого пехотного полка Филипп Ласов, награжденный мною приказом по русским войскам во Франции от 18-го сентября (1 октября) сего года за №88 Георгиевской медалью 4-й степени, как имеющий уже, по поступившему ныне донесению, таковую медаль, награждается взамен Георгиевской медалью 3-й степени. Означенную медаль выдать рядовому Ласову на №146160. §4. Рядовой 4-го Особого пехотного полка Степан Имшенецкий прикомандировывается к госпиталю №49, находящегося в Монполье, как санитар. Представитель Временного Правительства Генерал-майор Занкевич». Издает очередной приказ ставший в сентябре генерал-майором Военный Агент А.А. Игнатьев [450]: «Приказ №116 от 25.10/7.11 1917. Париж. §1. Представителей Лондонской Комиссии Всероссийского Земского Союза и Всероссийского Союза Городов Алексея Павловича Рождественского и Николая Александровича Ласкина считать с 19.10/1.11 прибывшими во Францию по осуществлению закупки медикаментов и инструментов для вышеуказанных организаций. Генерал-майор Игнатьев». Выше приводились документы за эти дни, обсуждавшие возможность отправки русских войск после приказа Керенского, необходимость увеличения количества выдаваемого больным в госпиталях сахара (по запросу Гумилева), 7 ноября в лагере Курно заседал и Отрядный Комитет [451], разбирая текущие склоки. Шла обычная повседневная работа, и в течение трех последующих дней ни одной тревожной вести из России в Париж так и не поступило. И только 10 ноября во все подразделения была разослана телефонограмма [452]: «Телефонограмма. В Тыловое Управление русских войск во Франции. В канцелярию Представителя Временного Правительства. В канцелярию Комиссара Временного Правительства. Во все отделения Тылового управления. В канцелярию Военного Агента во Франции. В Авиационную Комиссию Тихонравову. В Авиационную Комиссию Быстрицкому. В Артиллерийскую Заготовительную комиссию. В Осведомительное бюро. Морскому Военному Агенту. В редакцию газеты «Русский солдат-гражданин во Франции». В виду создавшегося в последние дни положения в России желательно было бы выяснить ту позицию, которую займут военнослужащие города Парижа по отношению к событиям, происходящим в России. Также желательно знать и, в случае необходимости, иметь тесный контакт с русскими войсками и военными учреждениями, находящимися во Франции, для установления взаимной солидарности. Для этой цели военнослужащие Парижа приглашаются в ….. час. 10 ноября, rue 59, Pierre Charron, на чрезвычайное заседание в субботу 10.11 в 8 часов вечера». Местом проведения этого первого заседания была выбрана канцелярия Военного комиссара Раппа. Безусловно, и Гумилев на нем присутствовал. Собрание единодушно приняло резолюцию, и на следующий день была послана телеграмма Керенскому [453]: «Телеграмма, исх. 57 от 30.10/12.11 1917 г. Главнокомандующему Керенскому. Собрание русских военнослужащих. Москва (Россия через Бомбей). Собрание русских военнослужащих Военных учреждений города Парижа, созванное в чрезвычайном порядке ввиду происходящих в России событий ПОСТАНОВИЛО: ВЫРАЗИТЬ СВОЕ ПОЛНОЕ отрицательное отношение к большевистским тенденциям, выступлениям и переворотам, вызывающим пагубную междоусобицу, грозящую самим завоеваниям революции. Собрание ожидает, что захват сторонниками большевиков тех или иных государственных учреждений не знаменует еще того, что народ в своем большинстве признает эту группу выразителем его воли. Собрание считает, что лишь то правительство, которое поставит одной из своих целей беспощадную борьбу с германским империализмом, способно вывести Россию на новый свободный и широкий путь. 57. Представитель Временного Правительства Генерал Занкевич» Аналогичная телеграмма, исх. №58, была отправлена Начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего. 12 ноября состоялось собрание солдат и офицеров лагеря в Курно, и оттуда Керенскому тоже была направлена телеграмма [454]: «Телеграмма, исх. 56 от 30 октября/12 ноября 1917 г. Москва (Россия) через Бомбей. Главнокомандующему Керенскому. Мы, Русские солдаты и офицеры во Франции, оторванные от Родины, доказавшие свою верность Революционной России уже в апрельских боях в Шампани, шлем Вам, Великий Вождь демократии, в тяжелый последний момент Вашей борьбы с большевистскими советами и контрреволюционными силами свой братский привет. Все наши силы, кровь и жизнь до последнего за свободную нашу Родину и за Вас. Боритесь за правое великое дело спасения любимой отчизны. По первому Вашему приказу везде, где угодно, со светлой радостью исполним наш долг спасения свободной Родины в страшной борьбе демократии с германским самодержавием. Мы верим в поражение опасных для Родины большевиков и темных сил контрреволюции, наносящих удар в спину растерзанной России. Вы, — единственный залог нашего спасения, будьте тверды и беспощадны с врагами России. Мы до последнего вздоха с Вами. Председатель Отрядного Комитета Русских войск во Франции Джинория. Составлено при Представителе Русского Временного Правительства полковнике Бобрикове». Думаю, что только этих полученных из Парижа телеграмм было вполне достаточно, чтобы впоследствии большевики могли с «чистой совестью» подписать смертный приговор всякому, возвратившемуся в Россию из Франции солдату, а уж тем более — офицеру. Кстати, об этом есть у А. Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ», во второй главе 1-й книги — «История нашей канализации» [455]: «Уже в 1919 году была понята и вся подозрительность наших русских возвращающихся из заграницы (зачем? с каким заданием?) — и так сажались приезжавшие офицеры экспедиционного (во Франции) русского корпуса». Исходя из этого, становится понятным, почему с приходом большевиков к власти сразу же прекратились дальнейшие переговоры о возможности возвращения русских войск из Франции (и Салоник) — домой. 13 ноября во Французской Главной Квартире была получена первая телеграмма от Льва Троцкого о победе над Керенским [456]: «Телеграмма получена 31.10/13.11. Передана: Передана: №1 — в Посольство; №2 — Военному Агенту; 3 — Военному Комиссару; №4 — в Канцелярию. 1. Рабочие и солдатские депутаты, в ожесточенном бою под Царским Селом революционной армией на голову разбили контрреволюционные войска Керенского и Корнилова. Именем Революционного Правительства приказываю всем верным полкам Революции дать отпор врагам революции, демократии, принять все меры к захвату Керенского и также недопущению подобных авантюр, грозящих завоеваниям революции и также торжеству пролетариата. Да здравствует революционная армия. Главвоенком войск против Керенского полковник Муравьев. <…> №23. В ночь с 12 на 13 ноября 1917 г. Войдет в историю попытка Керенского двинуть контрреволюционные войска на столицу революции. Попытка получила решительный отпор. Керенский отступал, а мы наступали. Солдаты, матросы, рабочие Петрограда показали, что умеют воевать с оружием в руках, утверждать волю и власть демократии. Буржуазия собиралась изолировать армию революции. Керенский пытался сломить ее силой. То и другое потерпело великое крушение. Великая идея господства рабочей и крестьянской демократии сплотила ряды армии и сохранила ее волю. Вся страна отныне убедится, что Советская власть не преходящее явление, а несокрушимый факт господства рабочих, солдат и крестьян. Отпор Керенского есть отпор помещиков, буржуазии и Корнилову. Отпор Керенского есть утверждение права народа на мир, свободную жизнь, землю, хлеб, власть. Пулковский отряд своим доблестным ударом закрепил дело рабочей и крестьянской революции — возврата к прошлому нет. Впереди еще борьба, препятствия и жертвы, но путь открыт и победа обеспечена. Революционная Россия с Советской властью вправе гордиться своим Пулковским отрядом, действовавшим под командованием полковника Вальдена. Вечная память славным борцам революционным солдатам и верным народу офицерам. Да здравствует революционный народ социалистической России. Именем Совета народных комиссаров Л. Троцкий». Радиотелеграмма получена 31.10/13.11 1917 г. во Французской Главной Квартире. Резолюция: «Русскому Военному Комиссару препровождаю для личного сведения». Реакция в Париже в ноябре на приходящие из Петрограда революционные лозунги была достаточно вялой. 15 ноября была утверждена структура управления подразделениями, подчиненными Русскому Представителю при Французских армиях генерал-майору Занкевичу [457]. Существенных изменений она не претерпела. По-прежнему в эту структуру входили: 1-я Особая пехотная дивизия, включающая 1, 2, 5 и 6 Особые пехотные полки, размещенные в лагере Курно; 2-я Особая пехотная дивизия, включающая 3, 4, 7 и 8 Особые пехотные полки, остающиеся на Салоникском фронте; Тыловое управление полковника Карханина в Париже; Судная часть генерал-майора Николаева в Париже; отдельные чины для связи со Штабом французских армий и с Французской Главной Квартирой (среди них — полковник Бобриков). Обращает на себя внимание то, что Военной Агент А.А. Игнатьев не включен в эту структуру, хотя при назначении Занкевича он был поставлен в подчиненное ему положение. Видимо, его личные связи в Петрограде сработали (о чем говорит присвоение ему в сентябре звания генерал-майора), и он добился независимости, которая вскоре вышла боком и дорого (в буквальном, денежном смысле этого слова) обошлась для всей русской миссии. В ноябре продолжали решаться наболевшие, поднятые ранее вопросы. Опять Занкевич просит Раппа разобраться с приказом «О комитетах и дисциплинарных судах» [458]: «2/15 ноября 1917. №1575. Милостивый Государь Евгений Иванович. В дополнение к №1466 прошу собрать Вашу комиссию разработать вопрос о согласовании организационной деятельности Отрядного Комитета с положениями приказов №213 и 271. Уважающий Вас Занкевич». 16 ноября в Курно состоялось заседание Отрядного Комитета, впервые обсудившее события в России [459]. Всеми они были восприняты крайне негативно. 17 ноября появилась единственная публикация Николая Гумилева в газете «Русский солдат-гражданин во Франции», в излюбленном жанре — разборка книги стихов. Гумилев написал рецензию на вышедшую в Париже книгу стихов унтер-офицера Никандра Алексеева «Венок павшим». Никандр Алексеев [460] воевал в составе 1-й бригады в Шампани, потом служил старшим писарем в русской миссии в Париже, как и работавший у Раппа А. Евграфов. Его имя часто упоминается в документах — в ведомостях на получение жалованья, в списках состава миссии [461]. Своей первой книге Никандр Алексеев предпослал предисловие, на которое, как мне кажется, не мог не обратить внимания Гумилев, что определило тональность его рецензии. Хотя, возможно, что предисловие было написано уже под влиянием разговоров с Гумилевым; об этом говорит упоминание учителя Гумилева Валерия Брюсова в самом начале предисловия: «Я вполне разделяю мнение современного русского поэта Валерия Брюсова, что самому автору трудно составить сборник избранных стихотворений, особенно, если книга по необходимости должна быть небольшой. Как мать любит своих детей красивых и некрасивых, так поэт любит все написанные им стихи, и более совершенные, и не удавшиеся ему. С каждым стихотворением связан целый мир воспоминаний, каждое кажется живым существом, которое чувствует обиду, если его не включили в число избранных. При составлении этого сборника я руководствовался выбором стихов, написанных мною во время войны, под впечатлением различных настроений и переживаний, многие из которых, казалось, прямого отношения к событиям не имеют и написаны не на военные темы. Этого я и хотел. Здесь есть настроения и тоскливые. И грустные, и радостные. Из всей сложности и многообразия жизни, из цветов самых разнородных чувствований и еле уловимых движений сердца и души я хотел бы сплести «Венок Павшим» на поле брани за Родину, за Революцию и за человеческую свободу вообще или за иные высокие идеалы Красоты... Эта книга одинаково может быть читаема, как русскими, французами, англичанами, так немцами и австрийцами, ибо в ней нет ни одного слова слепой ненависти к отдельным нациям, ибо у большинства людей есть Родина, которую они естественно не могут не любить, как нельзя не любить родной матери, которая может быть была и груба и била и колотила и таскала за волосы, когда мы были детьми... Не можем не любить потому, что мы часть ее тела... Итак, я плету «Венок павшим» и кидаю его на свет, к солнцу... Может быть и ты, мой читатель найдешь в нем часть своей собственной, нерассказанной души... Сентябрь 1917 г. Париж. Никандр Алексеев».
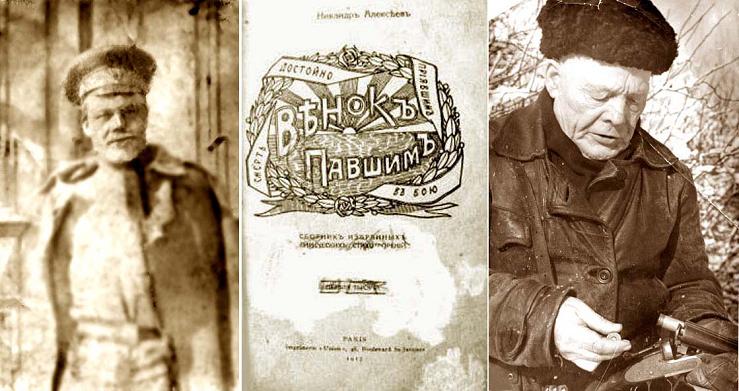
Никандр Алексеев, унтер-офицер во Франции, и спустя десятилетия в России, на охоте. Его книга "Венок павшим".
Очень возможно, что Гумилев помог молодому автору составить этот сборник стихов. Гумилев и Алексеев знали друг друга, это подтверждает и его внучка, М.Н. Алексеева. В своих записях о вечере, посвященном памяти деда, она пишет: «Я принесла показать несколько уникальных книг, которые сейчас можно считать библиографическими раритетами. Это сборник Николая Гумилева с рукописными пометками, выполненными рукой деда» [462]. Рецензия Гумилева короткая, но любопытная, приведем ее полностью [463]. Венок павшим. Сборник стихов Никандра Алексеева. (Склад издания — 17, Rue Cujas (улица Кюжас, 17), Paris. Цена 2 франка) «Не получаем мы книг из России. А литература самое национальное из творчества. Музыка, живопись, научные открытия — все это для всего мира, какое-то эсперанто. Здесь, на чужбине, только литература может острую боль разлуки превратить в сладкую тоску. И вот появился первый образчик творчества русского военного отряда во Франции, этого нового своеобразного народа. Не будем придираться к недостаткам книги, неправильностям стихосложения, неловкости многих выражений, банальности мыслей... Ее качества более значительны. Неустанная мысль о родине, чисто русская мечтательность и певучесть стиха делают эту книгу дорогой и близкой. Как поэт Алексеев не отличается остротой переживаний. Они у него тотчас же превращаются в образы, которыми он сам страстно любуется, а иногда заставляет любоваться и других. Вот, например, отрывок из стихотворения «Северная осень»: ...Луна, взойдя, повисла на осине, Затон реки и заводь серебря, И вот покой, раскрыв глаза в долине, Шагает через прясло сентября. На берегу стоит Царевна-Осень, Один... четыре... шесть и восемь. Ведет царевна счет, — и падают листы... Но у Алексеева есть иногда и сила, как показывает одно из лучших стихотворений сборника «Родине». ...Редеет глушь... Я слышу новый зов: Заводский свист пронзительных гудков... Поэту можно посоветовать не злоупотреблять словами с иностранными корнями «карьера», «эфирный», «бомонд» и раз навсегда отказаться от совершенно нелепых вставных французских фраз [464]». Как удалось выяснить у внучки Никандра Алексеева Марины Алексеевой, ее дед, прожив еще несколько лет в Париже, вернулся в Россию, где стал советским поэтом и писателем. В Париже, в 1919-1920-х гг., уже после отъезда Гумилева, им было выпущено еще две книги стихов: «Ты-ны-ны» и «Ветровые песни». О том, что между ними сложились достаточно близкие отношения, говорит посвященное Гумилеву стихотворение, вошедшее в сборник «Ты-ны-ны» [465]. Во избежание недоразумений отмечу, что название сборника не дань футуризму (типа «дыр бул щыл» А. Крученых), а попытка звукописи, подражания гармошке, из первого стихотворения сборника «Родимая»: «На открытые ладони // Плещет дождик с вышины. // Чу! Играют на гармони // Заунывно ты-ны-ны...»
Первым делом Никандра Алексеева в России стала организация Пушкинского заповедника в Михайловском, располагавшемся недалеко от его родного села. Можно предположить, что память о Гумилеве он пронес через всю жизнь. Об этом говорят сохранившийся в семье сборник Гумилева «Шатер», 1922-го года издания, сборник переводов Н. Гумилева 1914-го года, «Эмали и камеи» Теофиля Готье, вместе с французским оригиналом. По нему Никандр Алексеев предпринял попытку, вслед за Гумилевым, отталкиваясь от него и как бы с ним полемизируя, заново перевести весь сборник стихов Т. Готье. Черновики переведенных им стихов, составивших полный сборник «Эмалей и камей», сохранились в семейном архиве, они никогда не публиковались [466]. Стихотворение Никандра Алексеева включил Е. Евтушенко в подготовленную им антологию «Строфы века». Никандр Алексеев прожил достойную жизнь, и его имя должно сохраниться в истории отечественной литературы и культуры [467]. Однако вернемся в ноябрьский Париж 1917-го года. Гумилев начинает свою рецензию фразой: «Не получаем мы книг из России…» Странное совпадение — как раз в эти же дни из России до Парижа добрались по почте давно уже посланные книги для солдат во Франции. Список полученных книг весьма специфичен, и вряд ли большинство из них могло, как сказал Гумилев в рецензии, «острую боль разлуки превратить в сладкую тоску» [468]: 1) Солдатская библиотека — 460 экз.; 2) Гоголь. «Повести и рассказы» — 17 экз.; 3) Ф.Ф. Кокошкин. «Учредительное собрание» — 50 экз.; 4) Ф.Ф. Кокошкин. «Республика» — 50 экз.; 5) Подпоручик Крылатов. «Молодая Россия» — 50 экз.; 6) Герасимов. «Новый Строй и Права Свободного Гражданина» — 10 экз.; 7) Косоносов. «Должны победить» — 50 экз.; 8) Анд. Крылов. «Речи» — 35 экз.; 9) Подпоручик Крылатов. «Задачи Народной Армии» — 100 экз. На основе поступавших во Францию документов можно сделать вывод, что в первые дни после переворота новая власть вообще забыла, что идет война, требующая твердого руководства, управления и координации действий. Отсутствовала даже элементарная телеграфная связь со Ставкой. Только 18 ноября из Лондона в Париж пришла телеграмма [469]: «Сообщение с Петроградом в обоих направлениях Via Northern восстановлено». И в тот же день было получена первая после переворота информация из Ставки [470]: «5/18 ноября. 12 ч. дня. Из Ставки срочно. Приказом от 1/(14) ноября ввиду неизвестного для меня места пребывания ГЛАВКОВЕРХА вступил во временное исполнение должности ГЛАВКОВЕРХА. Тогда же отдал приказ остановить дальнейшую отправку войск на Петроград. В настоящее время производятся только оперативные перевозки. О вышеизложенном объявляю для ориентировки всех начальствующих лиц, комитетов и комиссара. 4/17 ноября. №8133. Духонин [471]». На фоне этой сумятицы неожиданно смотрится поступившая в Париж еще одна телеграмма от новой власти [472]: «Вх. №2293 от 6/19 ноября 1917 г. Из Петрограда (шифром). Генерал-майор Добржанский командируется ИТАЛИЮ для приема заказанных ГВТУ [473] АВТОМОБИЛЕЙ. Благоволите оказать возможное содействие его приезду и провозу означенного имущества. 468 Голеевский. 77208 Юдин». 20 ноября Военный Агент Игнатьев подтвердил получение этой телеграммы и восстановление связи с Петроградом [474]: «Исх. 2129 от 7/20 ноября 1917 г. Анаксагор Петроград (шифром). Начальнику Генерального Штаба и Главзагран. После перерыва телеграфных сношений с 27 нашего октября вчера начал получать телеграммы наши с №77208 Юдин. Ввиду совершившихся событий, о коих никаких официальных сведений не имею, испрашиваю указания, могу ли возобновить отправку телеграмм всеми прежде действовавшими шифрами и в том числе и самыми секретными. Ожидаю самого срочного ответа. Париж. Вторник. Пок. 469. 2129 Игнатьев». Но обмен этими двумя телеграммами, подшитыми к архивному делу, можно рассматривать скорее как — агонию. Как видно из архивного дела, до этого происходил ежедневный обмен телеграммами с Петроградом, после 27 октября (ст. ст.), как указывает Игнатьев, был перерыв, вплоть до получения приведенной телеграммы об автомобилях. Более ни одной телеграммы из Петрограда в Париж по военным каналам не доходило в течение нескольких месяцев. В рассмотренном деле лист 93 — телеграмма об автомобилях от 19 ноября, а лист 94 — уже телеграмма, относящаяся к марту 1918 года! Это красноречиво подтверждает тот факт, что власть в России переменилась радикально, и остающиеся во Франции Русские войска интересовать ее перестали. При этом отдельные пламенные призывы Троцкого до Парижа доходили, но не по военным каналам связи. Хотя возникла полная изоляция Русской военной миссии от пославшей ее России, она продолжала действовать, ведь во Франции оставалось более 16000 российских граждан, солдат и офицеров, которые, как минимум, нуждались в куске хлеба. А даже это обеспечить вскоре стало весьма затруднительно, так как прекратились любые поставки и денежные переводы от верховной власти. И по-прежнему главными действующими лицами, обеспечивающими необходимое управление бездействующими войсками, оставались Занкевич и Рапп. Но отношения между Раппом и Отрядным Комитетом постоянно ухудшались, и 20 ноября Занкевич обратился к нему с письмом [475]: «Раппу от Занкевича. 7/20 ноября 1917 г. №1608. Париж. Милостивый Государь Евгений Иванович. За последние две недели Отрядный Комитет неоднократно докладывал мне, что доверие к Вам в Отряде подорвано и что дальнейшая Ваша работа в Отряде пользы принести не может. В виду исключительной остроты переживаемого момента, когда особенно необходим демократический авторитет в войсках, а связи с Правительством у нас нет, — я вижу один только выход из создавшегося тягостного положения, — выбор Вами в качестве Вашего помощника особо доверенного и пользующегося авторитетом в Отряде лица, на которого вы можете возложить работу в войсках. Генерал-майор Занкевич». Последовал немедленный ответ Раппа [476]: «Париж. 7/20 ноября 1917. Вх. 1 от 8/21.11.1917. Михаил Ипполитович. Вследствие наших переговоров и в ответ на Ваше письмо от 7/20 ноября с. г. за №1608 нахожусь вынужденным сообщить Вам: 1) Как лицо, которому поручена Временным Правительством и Исп. Комитетом. Совета Раб. и Солд. Депутатов специальная миссия, связанная с особыми полномочиями и с особым доверием Временного Правительства, я не считаю себя вправе, без ведома и согласия этого последнего, сложить с себя ни юридически, ни фактически указанные полномочия и ответственность, и притом не зависимо от того, какого мнения держится Отрядный Комитет относительно моей деятельности. 2) Если факт упоминаемого Вами недоверия, существование которого Вами, по-видимому, признается, подтвердится, то, конечно, при первой же фактической возможности, я донесу о нем Правительству, назначившему меня, прося его разрешить этот вопрос. 3) Если бы выяснилось определенно, что Правительство это фактически не существует, а заменено новым, политическая программа которого мною не разделяется, то я сложу с себя обязанности и буду просить Вас тогда объявить об этом в приказе по войскам. 4) Наконец, что касается выбора моего помощника, то, хотя юридически такое право мне и не предоставлялось, однако, ввиду исключительности времени, нами переживаемого, а также чрезвычайного, вам известного обилия моей работы чисто кабинетного характера, я готов осуществить эту меру. Само собой разумеется, что, ввиду сказанного в п.1 настоящего письма, помощник мой будет действовать по моему уполномочию, в согласии со мной и в пределах установленного по нашему взаимному с ним соглашению. Допущение противного могло бы внести двойственность власти и распоряжений, что конечно весьма не желательно. Прошу вас принять настоящее мое письмо как окончательное решение возбуждаемого Вами вопроса, принятое мною по долгу моей совести. Уважающий Вас Евг. Рапп». Думаю, можно не напоминать читателю, что упоминаемое Раппом «обилие работы чисто кабинетного характера» касалось и Николая Гумилева, который был полностью в курсе всех происходивших событий и склок, а не только писал рецензии в газету. 22 ноября из России была получена следующая радиотелеграмма [477]: «4ч. 50 м. утра. <…> Не получив ответа от Духонина до вечера 8/21 ноября, Совет народных комиссаров уполномочил Ленина, Сталина и Крыленко запросить Духонина по прямому проводу о причинах промедления <…> Переговоры велись от 2 до 4 ч. 30 м. утра 9/22 ноября. Духонин делал многочисленные попытки уклониться от объяснения. <…> Когда предписание вступить немедленно в формальные переговоры о перемирии было сделано Духонину, он ответил категорическим отказом подчиниться. Тогда именем Правительства Российской Республики и по поручению Совета народных комиссаров Духонину было заявлено, что он увольняется от должности за неповиновение предписанию Правительства и за поведение, несущее неслыханное бедствие трудящимся массам всех стран и в особенности армии <…> Новым Главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко». Одним из первых распоряжений Главнокомандующего, прапорщика Крыленко, объявленное им в тот же день, 22 ноября, было приведенное выше указание [478] Военно-морскому Агенту во Франции о прекращении «присылки эмигрантов, а также <…> перевозки воинских частей, подлежащих возврату в Россию». 23 ноября из Салоник в Париж прибыл коллега Раппа, Военный комиссар на Македонском фронте. У Занкевича появилась еще одна «головная боль», второй Военный комиссар [479]: «Записка Занкевича от 10/23 ноября 1917 г. Прошу не отказать в распоряжении к отводу одной комнаты для Комиссара Салоникских войск Михайлову. Кроме того, прошу распорядиться к назначению к названному Комиссару одного писаря и одной пишущей машинки. Занкевич». Вскоре Комиссар Михайлов [480] сменил Раппа на уже тогда, фактически, ставшей фиктивной должности Военного комиссара Временного Правительства при русских войсках, и формально занимал эту должность до марта 1918 года, когда был отстранен от всех дел французскими властями. Возможно, Занкевич полагал, что вновь прибывший комиссар поможет навести хоть какой-то порядок в войсках, что вряд ли было возможно. О «разгуле демократии» в лагере Курно говорит протокол заседания Отрядного Комитета [481]: «Выписка из протокола заседания Отрядного Комитета от 10/23 ноября 1917 г., лагерь Курно. Вопрос 1-й. О Комиссии по согласованию деятельности Комитета во Франции с приказами по Военному Ведомству. По 1-му вопросу после прений Отрядный Комитет постановил: Отрядный Комитет отказывается от работ в Комиссии по согласованию деятельности комитетов во Франции с приказами по Военному Ведомству в виду того, что Отрядный Комитет находит совершенно не ясным законное основание для образования названного комитета, а также ввиду состоявшегося принципиального решения Отрядного Комитета о Г. Раппе. Кроме того, Отрядный Комитет находит совершенно недопустимым тон официального извещения об образовании комиссии по согласованию к Председателю Отрядного Комитета: — названный документ начинается словами: «Генерал Занкевич приказал…». Секретарь Отрядного Комитета (подпись неразборчива)». 24 ноября в Париж приходит очередная радиотелеграмма от Троцкого [482]. Обвинив в предательстве Духонина и Союзные державы, призывая всех к миру, он завершает свое пламенное послание словами: «<…> Долой старые Царские договора и дипломатические происки. Да здравствует честная, открытая борьба за всеобщий мир. Именем Совета народных комиссаров — народный комиссар по иностранным делам Л. Троцкий». Ответом на это послание явился приказ по войскам №138 от 13/26 ноября 1917 г., впервые подробно осветивший отношение всей русской миссии к происшедшим в России событиям [483]: «§1. Объявляю для сведения текст нижеследующей декларации: Мы, нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить во всеобщее сведение нижеследующее: I. Мы не признаем за группой лиц, захвативших правительственные учреждения города Петрограда, авторитета правительственной власти, которая опиралась бы на волю Российского народа. II. Мы следуем лишь директивам назначившего нас и нами представляемого Временного Правительства, полномочия коего нам данные остаются незыблемыми. III. Вся деятельность наша будет проходить как и прежде, в тесном согласии с союзниками. Подлинник подписали: Представитель Временного Правительства при Французской Армии генерал-майор Занкевич; Военный Комиссар Временного Правительства во Франции Евгений Рапп; Военный Комиссар Временного Правительства Македонского фронта М. Михайлов; Помощник Военного Комиссара Временного Правительства Македонского фронта О. Розенфельд. Декларация эта сообщена была Послу В.А. Маклакову, который высказал полное свое сочувствие и обещал довести ее до сведения Временного Правительства. Представитель Временного Правительства генерал-майор Занкевич». Очевидно, что при принятии этой резолюции присутствовал и Гумилев. Аналогичная резолюция была принята на общем собрании солдат и офицеров 13/26 ноября 1917 года в городе Монпелье на юге Франции [484]: «<…> Долой самозванцев и предателей! Они не могут успокоить Россию, не дадут ей постоянного хлеба, земли и воли, не дадут настоящей правды, не подготовят страну для созыва желанного Учредительного собрания. Оно одно Всероссийское Учредительное собрание способно разрешить все вопросы и должно быть немедленно собрано социалистическими коалиционными министрами…» В этот же день было получено первое после переворота сообщение из Военного Министерства [485]: «Вх. 2347 от 13/26 ноября 1917 г. Из Петрограда. Осведомляю. 25-го октября произошло выступление большевиков, в результате коего Министры Временного Правительства были арестованы. 29-го октября во временное управление Военным Министерством вступил генерал Маниковский [486], на основании полного невмешательства в его деятельность и при условии, что Военное Министерство, стоя вне политики, немедленно возобновит свои работы, необходимые для обороны государства. 45809. Юдин». Ноябрь подошел к концу, положение русских войск так и останется неопределенным вплоть до окончания Гражданской войны в России. В начале 1920-х годов многие вернутся в Россию, но исключительно — каждый «своим ходом». Никакого организованного возвращения на Родину не будет. Судьбы возвращавшихся складывались по-разному, многих офицеров, как было сказано, записывали в «шпионы». Возвращающихся с Запада солдат тогда, слава Богу, еще не объявляли сразу шпионами, как будет после окончания следующей войны. Принято называть «первой волной эмиграции» тех, кто покинул Россию и перебрался во Францию после окончания Гражданской войны. Это не верно — первая большая русская колония во Франции была заложена в 1917-м году, из тех, кто воевал за честь России и Франции вдали от бросившей их Родины. А пока Русские службы в Париже по инерции продолжали ставшую мало кому нужной деятельность. И каждый по-своему решал, как ему быть дальше. Такое решение вскоре предстояло принять и Николаю Гумилеву. ПАРИЖ В ДЕКАБРЕ 1917-ГО ГОДА Как говорилось ранее, никаких прямых отзывов о работе Гумилева при Раппе обнаружить не удалось. Но один документ, относящийся к 29 ноября 1917 года, крайне любопытен. Заметим, что к этому времени отношения Раппа с различными подразделениями обострились, отряды, за дисциплину в которых он отвечал, отказали ему в доверии, и на этом фоне особенно выделяется подписанный им документ [487]: «Комиссар Временного Правительства и Исполнительного Комитета Сов. Раб. и Солд. деп. при Русских Войсках во Франции. 59, rue Pierre Charron. Париж. 16/29 ноября 1917. №148. Спешно. Старшему коменданту г. Парижа. Прошу Вас освободить от дежурства прапорщика Гумилева, единственного [488] офицера, находящегося в моем распоряжении, как это Вы сделали по отношению к писарю моему Евграфову. В отсутствие прапорщика Гумилева вся работа останавливается (выделено мною). Евг. Рапп (подпись)». Отпечатанный на машинке документ испещрен множеством печатей и резолюций, и к нему приложено еще несколько бумаг. Вопрос решался долго. Вначале стоит квадратная печать: «Старший комендант г. Парижа. 17/30.XI 1917. Вх. №3183». Рядом первая резолюция: «17/30 - XI. Освободить офицера могу лишь с разрешения генерала Занкевича». На обороте документа направление его обратно Раппу: «Получено 30.XI 1917. №130. Комиссару Временного Правительства. Препровождаю согласно резолюции Старшего Коменданта. За Помощника Коменданта Поручик Базилевич. 17/30 ноября 1917 г. №3771». Вскоре подписавший этот документ поручик Базилевич будет передан в распоряжение Военного комиссара Раппа. Рапп наложил на документ резолюцию-направление: «На заключение Ген. Занкевича. Е. Рапп. 30/ХI». И попросил Гумилева подготовить от своего лица еще одну бумагу (на таком же бланке, Комиссара Раппа) [489]: «Штаб-офицеру для поручений при представителе Временного правительства полковнику Бобрикову. Препровождаю согласно резолюции Военного комиссара на заключение Представителя Временного правительства. Приложение: сношение Военного комиссара за №148. Прапорщик Гумилев (подпись от руки)». На этой бумаге — прямоугольный штемпель: «Вх. №1611, 18 ноября/1 декабря 1917». Но подключение знакомого Гумилеву Бобрикова не помогло, и в этот же день появляется третья бумага, от Занкевича Раппу [490]: «1 декабря 1917. №1819 на №148/151. Военному Комиссару. В виду сравнительно небольшого количества дежурных офицеров, а с другой стороны необременительности самого дежурства, связанного с пребыванием в самом бюро, я прошу Вас не отказать не настаивать на данном вопросе. Генерал-майор Занкевич». И наконец, спустя несколько дней, Занкевич, видимо, устно договорившись с Раппом, накладывает на его первое прошение еще одну резолюцию: «Ввиду небольшого числа дежурящих офицеров просить г. Комиссара отказаться от его просьбы. 24.ХI/7.XII. (Подпись Занкевича)». Действительно, в утвержденной 24 ноября инструкции говорилось [491]: «Инструкция. Дежурный по русским военным учреждениям, находится в городе Париже в доме №59 по ул. Пьер Шаррон». По этому же адресу располагался и Комиссариат Раппа. В справке из строевого комитета г. Парижа сказано, что дежурство несут 19 человек [492]. Обнаружился в архиве и документ с утвержденными в ноябре обязанностями дежурных офицеров [493]: «Обязанности дежурного офицера. (Смена дежурных — в 9 ч. утра, в военной форме, без оружия). Наряд на дежурство ведет старший комендант русских войск в г. Париже. Обязанности дежурного офицера. 1. Дежурный офицер подчиняется непосредственно старшему коменданту русских войск в Париже. 2. Дежурный офицер должен неотлучно находиться в канцелярии управления старшего коменданта. 3. Он должен следить за общим порядком во всем здании и правильным получением и распределением всей почты по управлению, находящемуся в д. №59 Пьер Шаррон. 4. Вне присутственных часов, он вскрывает все прибывающие телеграммы, а также прочитывает телефонограммы и, в случае экстренности, уведомляет срочно тех лиц, к делопроизводству коих они относятся. 5. Он принимает лично всю прибывающую корреспонденцию и в присутственные часы, по занесении ее в дежурную книгу установленного образца, немедленно рассылает с дежурным писарем по управлению корреспонденцию, полученную в неприсутственное время, сдает ее при первой же необходимости по принадлежности. С телеграммами и телефонограммами, а также бумагами весьма срочного характера, поступает, как указано в 4-м пункте настоящей инструкции. 6. У него должна находиться книга со всеми адресами и номерами телефонов офицеров и чиновников управления, чтобы, в случае необходимости, можно было их вызвать или уведомить. 7. В случае задержки и доставки кого-либо в комендатуру управления, он должен, если это офицер, сообщить кому-либо из офицеров команды управления, если это солдат, то направить его в сопровождении 2-х конвойных, старшему казармы «Пепиньер». 8. В случае пожара в расположении здания или вблизи его, он немедленно уведомляет об этом всех начальственных лиц, делает распоряжения о немедленном спасении канцелярии и имущества из помещения, которым угрожает опасность, и одновременно извещает пожарную часть. 9. Дежурному офицеру разрешается отлучиться для завтрака с 13 час. до 14 час. и для обеда с 19 час. до 20 1/2 часа. 10. После смены с дежурства, дежурные освобождаются в этот день от занятий». Именно эти обязанности должен был выполнять Гумилев, так как освободить его от дежурства Раппу не удалось. Но эти несколько «бюрократических» документов позволили нам заглянуть в повседневную служебную жизнь офицера для поручений Николая Гумилева в последние месяцы его пребывания в Париже, а также составить некоторое представление о его взаимоотношениях со своим непосредственным начальником Евгением Раппом. Если существование Военного комиссариата в Париже было пока еще как-то оправдано, то поражает факт продолжения в эти дни работы Военного комиссариата при Временном Правительстве в Петрограде. 30 ноября там был объявлен приказ Военного комиссара №62, оказавшийся последним. Не могу отказать себе в удовольствии воспроизвести его [494]: «Приказ №62 по Управлению Военного Комиссара Временного Правительства при Верховном Главнокомандующем. 17 ноября 1917. Ставка. По хозяйственной части. §1. Исключить из описи имущества Управления разбитых, во время переезда Управления с Быховской улицы на Большую Садовую, 5 чайных стаканов. §2. Уплачено по счету №158 магазина Т.Н. Шейнину за пять плевательниц для Управления Пятнадцать рублей 75 копеек. §3. Уплачено по счету №159 Х. Рабиновичу, за иголки для Управления, один рубль. Итого израсходовано 16 р. 75 к. §4. Купленные для Управления ПЯТЬ плевательниц записать в описи имущества Управления. Подлинник подписал Военный Комиссар СТАНКЕВИЧ». Остается только посочувствовать комиссару Станкевичу. Или вот вспомнить Саломею — С.Н. Андроникову-Гальперн [495]: «Жили мы в Крыму, собирались в сентябре вернуться в Петроград. <…> У меня был знакомый, влюбленный в меня адвокат, Гальперн Александр Яковлевич, еврей, интеллигент. Так вот, Гальперн каждый раз писал мне в Крым письма, умоляя не приезжать в голодный Петербург, переждать в Крыму. Переждали. <…> По совету Гальперна я решила отвезти дочку на Кавказ, оставить ее у мамы и одной вернуться в свой революционный город. <…> «Если вы такая сумасшедшая, можете ехать голодать, но ребенка завезите матери» — писал Гальперн. Так я отправилась <…> в Баку. Я никогда больше не увидела Петрограда. Кстати, в Баку мне из Крыма переслали письма, которые Гальперн продолжал писать. Среди них была телеграмма, датированная 24 октября 1917 года: «Можете возвращаться. В столице спокойно. Временное правительство укрепилось». На следующий день мой Гальперн сидел под арестом у большевиков. А я, уже в эмиграции, когда вышла замуж за Гальперна, — его выпустили и дали возможность уехать за границу, — имела повод смеяться над ним: «Хорошо осведомленное правительство! Я считала и считаю, что они получили то, чего заслуживали». Этот последний день месяца, пятница 30 ноября 1917 года, оказался богатым на документы, в которых неожиданно встречается имя Николая Гумилева. По ним можно судить, что периодические сетования Раппа на большой объем работ вполне соответствуют истине. Как следует из приведенных выше документов о дежурстве Гумилева, в доме по улице Пьера Шаррона, 59 размещались, помимо комиссариата Раппа, и другие русские военные учреждения. Там же проходили заседания недавно созданного исполнительного комитета военнослужащих г. Парижа. 30 ноября на заседании комитета рассматривалась жалоба члена комитета полковника Коллонтаева на неправомерные действия подполковника Крупского, служившего в Управлении Военного Агента графа А.А. Игнатьева и назначенного последним для связи с этим комитетом. В сохранившемся заявлении Коллонтаева сказано [496]: «Внеочередное заявление в закрытом заседании. В исполнительный комитет военнослужащих г. Парижа от члена того же Комитета полковника Коллонтаева. Сего числа около 12 ч. дня поручик Владимиров, встретив меня возле Тылового управления, задал мне вопрос: получил ли я повестку на сегодняшнее заседание Исполнительного Комитета [497], а затем прибавил, что адресованная на мое имя повестка попала к подполковнику Крупскому, который принес ее Комиссару Раппу с протестом против вопросов, подлежащих сего числа рассмотрению Исполнительным Комитетом. Ответив, что никакой повестки я не получал, я тотчас же поднялся к Комиссару Рапп и спросил его, каким образом к нему могла попасть адресованная на мое имя повестка. На это Комиссар сначала ответил мне, что он никакой повестки не видел и ничего не знает. Потом, порывшись в одной из папок Канцелярии, нашел повестку, мне адресованную, и сказал, что недоумевает, почему и как она тут очутилась. Затем сделал догадку, что, вероятно, подполковник Крупский принес ее [498], чтобы узнать, утверждена ли эта повестка им, Комиссаром, как это следует «по закону». Вошедший в это время прапорщик Гумилев доложил Комиссару, что действительно подполковник Крупский лично принес адресованную на мое имя повестку и спрашивал, утверждена ли таковая комиссаром. Тогда я заявил Комиссару, что не знаю «закона», на основании коего повестки дня должны быть утверждаемы Комиссаром и что прошу мне таковой указать. На это Комиссар мне сказал, что я плохо знаю приказ по В. В. за №213 [499], а что касается до того, как попала моя повестка к подполковнику Крупскому, то он не знает. Таким же незнанием этого факта отозвался и прапорщик Гумилев. Прошу Исполнительный Комитет не отказать рассмотреть и обследовать все это дело подробно в настоящем же заседании [500]. Подлинник подписал полковник Коллонтаев. Верно: секретарь (подпись неразборчива)». В этот ли день дежурил Гумилев, или в один из следующих, сказать трудно, но очевидно, что скучать ему у Раппа не приходилось. В этот же день сотрудникам русской миссии выдавалось жалованье, но ведомость за ноябрь с его автографом не сохранилась. Судя по сохранившейся ведомости за декабрь, он в ноябре получил, как ему было и положено, 284 франка. Еще в архиве сохранился «Расчет Тылового Управления Русских войск во Франции на выдачу состоящим на денежном довольствии при Управлении офицерам суточных денег и полевых порционных за ноябрь 1917 года» [501]. Далее следует ведомость, в виде широкой таблицы, которую здесь воспроизвести сложно, поэтому приведу ее содержание по «столбцам», для строки, относящейся к Гумилеву. (1) Кому и на каком основании выдают деньги: Состоящий при Комиссаре Временного Правительства Прапорщик Гумилев (приказ №51). (2) Число суток: 30. (3) Суточный оклад: 30. (4) Причитается: 900. (5) Удержано — стоит прочерк. (6) Выдано на руки: 900. (7) Расписка в получении денег: проставлена расписка-автограф — Девятьсот франков получил прапорщик Гумилев. В списке 9 фамилий: у всех суточные по 30 франков, Гумилев идет под №4. Представляет интерес еще одна ведомость о зарплате. Это «Расчет Тылового Управления на выдачу жалованья переписчикам и машинисткам Управления на ноябрь месяц 1917 года» [502]. В этой ведомости значится: «Кому выдать деньги — Переписчице БУШЕ (приказ по управлению №36). Месячный оклад — 350 франков. Сумма — 350 франков. Расписка в получении денег — (стоит автограф) триста пятьдесят франков — ЕДюБуше». Впервые в военных документах встречается имя Елены Карловны Дюбуше, парижской «Синей звезды» Николая Гумилева. Почерк у нее — очень изящный. И именно так она сама писала свое имя — Елена Дю Буше. Сохранился еще один денежный документ, непосредственно касающийся Гумилева и датированный тем же самым днем, 30 ноября. Подготовлен он был в России и до Парижа добрался тогда, когда Гумилев был уже в Лондоне. Причитающиеся по нему деньги он получил уже в Англии. Сам документ приведем здесь, и напомним о нем позже. Появление его связано с начавшейся еще в октябре перепиской о получении добавочного жалованья за Георгиевский крест начальника Тылового управления Карханина с отделом по устройству и службе войск Главного управления Генерального штаба [503]. Подготовлен документ в бывшем полку Гумилева, об отчислении из которого в сентябре 1917-го года он так и не узнал [504]: «В Тыловое Управление Русских войск во Франции. Париж. АТТЕСТАТ №10986. Дан сей от 5-го гусарского Александрийского полка на прапорщика Гумилева, командированного на Салоникский фронт, в том, что по имеющемуся у него Георгиевскому кресту 3-й степени, пожалованному за отличие, оказанное им в делах против неприятеля, он удовлетворен по этому кресту из оклада в год по шестьдесят рублей по первое мая 1917 г. 17/30 ноября 1917 года. Действующая армия. Командир полка Полковник (роспись). Вр. и.д. Помощника по хозяйственной части Полковник (роспись). Вр. и. д. Полкового Адъютанта Штаб-ротмистр (подпись)». В углу аттестата — гербовая печать 5-го Гусарского Алекс. полка. О получении этого документа и наложенных на него резолюциях будет сказано ниже. Декабрь 1917-го года начался с объявления Занкевичем следующего приказа [505]: «Приказ по русским войскам №144 от 18.11/1.12 1917 г. По части инспекторской. §1. В виду переживаемого нашей Родиной острого политического момента, приказываю, как это ни тяжело, всем военнослужащим русским, находящимся во Франции, не посещать увеселительных мест, ресторанов, театры и прочее в военной форме. Вообще советую носить вне службы по возможности статское платье. Желающим разрешаю и на службе быть в статском платье. Занкевич». Так что декабрь начался внешним «расформированием» русских военнослужащих в Париже, а закончился он — официальным закрытием русской военной миссии и большинства ее подразделений, в том числе и комиссариата, где служил Николай Гумилев. Ниже будет приведен ряд документов, описывающих этот тяжелый для всех процесс, в ходе которого постоянно возникали конфликты между его участниками. 1 декабря Рапп подал рапорт Занкевичу, требуя соответствующих санкций за «оскорбление должностного лица при исполнении им своих служебных обязанностей» [506]. Конфликт был связан с его безуспешными попытками наладить хоть какое-то взаимодействие с 1-й Особой дивизией. 3 декабря из пока еще как-то работающей Ставки в Петрограде пришел очередной обзор о политическом и военном положении в России и на фронтах [507]. Предыдущий отчет, отправленный 7 ноября, приведен выше. На этот раз в отчете сообщается о выступлении большевиков, об аресте Временного Правительства, о бегстве Керенского, о его поражении под Гатчиной, о назначении главнокомандующим Духонина, о беспорядках в Москве и расстреле там юнкеров, об образовании Совета Народных Комиссаров под председательством Ленина и неприятии его другими партиями, об отставке Духонина из-за отклонения им ультиматума большевиков и назначении на его место прапорщика Крыленко. О том, что именно в этот день Духонин был убит, сообщить не успели. В канцелярии Раппа работа пока еще продолжалась. 3-м декабря зарегистрирована бумага из канцелярии Занкевича [508]: «Вх. №1736 от 20.11/3.12 1917. Военному Комиссару. По приказанию Представителя Временного Правительства при сим препровождаю Вам на заключение протокол Комитета Русских Военнослужащих в Париже. Просим Вас не отказать вернуть переписку после ознакомления. Полковник Бибиков». Что было в этой переписке — не ясно. Возможно, бумаги, связанные с подготовкой выборов в Учредительное Собрание. На следующий день, 4 декабря, из его канцелярии приходит еще одна бумага Раппу, интересная тем, что в ней обозначен полный состав миссии на начало декабря [509]: «Вх. №1961 от 22.11/4.12 1917 г. Председателю Комиссии по выборам в Учредительное Собрание. В Русской военной миссии, судной части и при Военном Комиссаре Русских войск во Франции следующий воинский состав:
*/ В число 3-х офицеров входит и сам Военный Комиссар. В.и.д. штаб-офицера для поручений Полковник Бобриков». Из этого документа следует, что штат Военного Комиссара возрос до четырех человек: сам Рапп, два офицера — прапорщик Гумилев и поручик Базилевич, писарь Евграфов. 5 декабря Занкевич подписывает важный документ, говорящий об отношении Русской миссии и союзников к возможному заключению перемирия, к которому призывал Троцкий [510]: «22.11/5.12 1917 г. Никакого предложения перемирия Правительством не сделано. Послы при союзниках никаких инструкций не получали. Информация здесь крайне недостаточна. Союзники не теряют надежды, что Россия не позволит измены и сепаратного мира. Поэтому они с ней не разрывают, продолжая помогать ей, и готовы служить всячески, если будут указания, что нужно и необходимо сделать. Они хорошо понимают, что при настоящих условиях трудно рассчитывать на военную помощь России, и будут вести войну без этой помощи. Но необходимо все-таки, чтобы Россия не становилась на сторону врагов, не возвращала им пленных и не давала продовольствия, столь необходимого, чтобы она не прекращала блокаду. Это первое, к чему надо стремиться. Было бы крайне желательно, коли мирным переговорам суждено начаться, чтобы дело было поставлено так, что Германия высказала свои условия общего мира, то есть, чтобы было исполнено обещание Троцкого, что он хлопочет не о сепаратном, а об общем мире. Если есть какая-либо возможность принудить исполнить это обещание, это надо постараться сделать. Правительство здесь тоже занимает выжидательное положение, воздерживается от заявлений и слов. Если бы в России образовалось Правительство, которое было бы признано ей, и которое не вело бы к измене, можно было бы думать, что здешнее Правительство, какова бы ни была политика относительно мира, постаралось бы иметь с ним сношение. Здесь очень интересуются, в какой мере можно надеяться на образование здорового центра на юге России. Занкевич». Брожения в русских частях Франции все нарастало. 7-го декабря получено послание от Отрядного комитета в Иере (Hyères). Это еще одна колония русских солдат на южном побережье Франции, восточнее Марселя, где солдаты проходили курс лечения. И там все недовольны руководством [511]: «Наказ делегатам Иерской команды выздоравливающих солдат в Отрядный комитет русских войск во Франции (принято на собрании в Иере 24 ноября/7 декабря 1917 г.) <…> 2) Генерала Занкевича, Комиссара Раппа и Графа Игнатьева удалить и взять власть Отрядному Комитету». И сюда, до Франции, добрался лозунг — «Вся власть Советам!» В этот же день, ранее прикомандированного к Раппу от 1 бригады писаря, перевели в его штат [512]: «Приказ по русским войскам №146 от 24.11/7.12 1917 г. <…> §4. Младший писарь 1-го маршевого батальона 1-го Особой пехотной дивизии Александр Евграфов переводится в управление Комиссара Временного Правительства при русских войсках во Франции с переименованием в старшего писаря высшего оклада». Но вскоре Рапп будет вынужден покинуть свою должность, причиной чего, помимо его расхождений с отрядом, будет бурная, во многом провокационная деятельность недавно прибывшего в Париж Военного комиссара Салоникского фронта Михайлова. 8 декабря Михайлов подает докладную записку Занкевичу, на бланке Военного Комиссара на Македонском фронте [513]: «Вх. №1692 от 25.11/8.12 1917 г. Приехав сегодня в 10 ч. 30 м. утра в управление, я случайно узнал о том, что сегодня в 10 ч. утра состоится панихида по Верховному Главнокомандующему Генералу Духонину. Крайне сожалею, что не имел возможности присутствовать на панихиде исключительно потому, что совершенно не был поставлен об этом в известность. Примите уверения в совершенном уважении. Михайлов». Думаю, что Гумилев и Рапп на этой панихиде присутствовали. В этот же день воззвания Михайлова попали в приказ по Русским войскам [514]: «Приказ №149 от 25.11/8.12 1917 г. Объявляю приказ Фронтового Военного Комиссара Временного Правительства М.А. Михайлова от 5 декабря 1917 г.» В самом многословном приказе сплошь общие слова — поднять боевой дух, заслушать доклады начальника миссии и Е.И. Раппа, который посетил Ля Куртин, перевести арестованных из лагеря Ля Куртин в Бордо, то есть в лагерь Курно. Здесь важно то, что Михайлов сообщает о недавнем посещении Раппом лагеря Ля Куртин, других документов об этом обнаружить не удалось. Скорее всего, его сопровождал туда и Николай Гумилев. Результатом посещения Раппом лагеря Ля Куртин, видимо, явился «Приказ по русским войскам №150 от 25.11/8.12 1917 г. Солдаты из-под ареста (Ля Куртин) направляются на работы (вне сферы военных действий). Оклады по Тыловому управлению за все время нахождения под следствием (кроме зачинщиков)» [515]. 10 декабря из Тылового управления было направлено сопроводительное письмо №4499 к «Списку офицеров, отправленных на Французский фронт и на Салоникский фронт» [516]. Список включил 79 офицеров, отправленных на Французский фронт, и 54 офицера, отправленных на Салоникский фронт. Среди последних, под №39, записан: «5-го Гусарского Александрийского полка прапорщик ГУМИЛЕВ — При Комиссаре Временного Правительства русских войск во Франции». Разъезды Раппа и, скорее всего, сопровождавшего его Николая Гумилева по лагерям продолжились и в декабре. 13 декабря Рапп посылает Занкевичу телеграмму из лагеря Курно о подготовке выборов в Учредительное собрание [517]. В этот же день отправилась в долгий путь весточка из Петрограда, так и не успевшая застать своего адресата. До Франции добралась она лишь в июне 1918 года, когда Гумилев уже встретился с отправившей ее Анной Энгельгардт. Здесь давать ее письмо не имеет смысла, так как оно ничего не говорит нам о жизни Гумилева в Париже. Оно будет приведено в Приложении 3, вместе с еще двумя не нашедшими своих адресатов письмами, посланными из Парижа в Россию весной 1918 года. Чтобы можно было сравнить — как «парижане» представляли себе жизнь в России и наоборот. Постепенно все управление русскими войсками во Франции переходило к французским органам власти. Занкевич пытался осенью добиться разрешения послать дееспособные части на Салоникский фронт, где продолжала участвовать в боях 2-я Особая пехотная дивизия. Однако приказом по русским войскам №155 [518] от 6/19 декабря 1917 года было объявлено, что «французы отказались ждать созыва Учредительного Собрания. Посылка войск в Салоники — невозможна. Дивизия передается властью на работы — по указанию Французского Правительства». Еще ранее, постановлением от 16-го ноября 1917-го года за № 27576 французского военного министра Клемансо, состоявшего в то же время председателем Совета Министров, было решено, что русские солдаты, находившиеся во Франции, подлежали распределению на 3 категории: желающих записаться добровольцами во французские войска, желающих работать во Франции там, где это требуется и тех, кто не принимает эти условия — все они подлежали отправке в Северную Африку. Это был так называемый «трияж». Одновременно Клемансо постоянно ставил вопрос о возвращении русских контингентов в Россию. В письме к французскому министру иностранных дел от 19-го ноября он указывал, что единственная возможность выполнить это состоит в том, чтобы использовать американские суда, которые высаживают свои войска во Франции. Прибывающим необходимы были помещения, постройка которых, без сомнения, обойдется дороже, чем отправка 16 тысяч человек в Россию. При этом предполагалось освободить для американцев лагеря Ля Куртин и Курно, которые могли дать крышу для размещения 23 тысяч человек. Однако такое решение американцев не устроило, в течение декабря лагеря были освобождены, все русские отряды прошли через «трияж». Большинство из них оказалось в Северной Африке. В течение декабря Занкевич до последней возможности сопротивлялся принятию такого решения. Однако больше ему приходилось заниматься разными разборками, в центре которых, как правило, оказывался Военный Агент граф Игнатьев. Так, 20 декабря им с Раппом пришлось разбираться с жалобой Отрядного Комитета, представителей которого Игнатьев отказался принять только потому, что они пришли к нему вместе с полковником Коллонтаевым [519]; об инциденте между Коллонтаевым и сотрудником Игнатьева Крупским, участником которого оказался Гумилев, было рассказано выше. Хотя Занкевич ранее, 23 августа, распорядился о выплате Гумилеву суточных, и он их, как мы видели, регулярно получал, потребовался дополнительный приказ, который был объявлен 21 декабря [520]: «Приказ по русским войскам №156 от 21 декабря 1917 г. (н.ст.). По части хозяйственной. <…> §2. В дополнение приказов моих №51 и 52. Прапорщика ГУМИЛЕВА и офицеров французской службы Капитана Нарышкина и Подпоручика Извольского считать зачисленными на суточные деньги применительно к ст. 794 кн. XIX С.В.П. и приказа по В.В. 1915 г. №283». В этот же день из Копенгагена было получено послание, касающееся заключения большевиками сепаратного мира [521]: «Вх. от 8/21 декабря 1917 г. (из Копенгагена). Передаю послание в Огенквар [522] телеграммой: «Заключение сепаратного перемирия и неизбежный по видимости сепаратный мир считаю позором для России, всецело ложащимся на правительство народных комиссаров, признать коих мне не позволяет совесть. Тем не менее, буду продолжать свою работу, доколе это будет возможным по местным условиям, прежде всего в интересах самих союзников. Буду также сообщать в Огенквар все имеющее прямое отношение к военным интересам России и заботиться о находящихся здесь воинских чинах. Однако оставляю за собой свободу действий и отчета в них большевистским комиссарам давать не буду. Все находящиеся в моем распоряжении чины разделяют мою точку зрения». 1363. Потоцкий». 23 декабря Рапп отправляет письмо Занкевичу №167 [523], касающееся деятельности комиссара Михайлова. Рапп просит Занкевича привлечь Михайлова к ответственности за провокационные воззвания. 29 декабря и. о. военного прокурора своим рапортом №397 [524] признает эти воззвания соответствующими деяниям ст.362 уполномочия о наказаниях 1885 г. Однако все это уже мало кого волновало. 24 декабря Клемансо подписал положение о русских войсках во Франции, согласно которому командование ими полностью переходило к французам, никакие комитеты не допускались. Фактически русский экспедиционный корпус расформировывался. При этом французское правительство, в виду прекращения высылки из России соответствующих кредитов, брало на свое попечение все расходы по содержанию русских контингентов. Но пока Отрядный Комитет лагеря в Курно, особенно невзлюбивший Раппа, на своем заседании 27 декабря принимает решение отстранить его от должности комиссара. Из протокола заседания [525]: «1) Не только Отрядный Комитет второго созыва, но и Отрядный Комитет первого созыва совершенно в категорической форме высказался за замену комиссара Раппа новым лицом. 2) Второй Отрядный Съезд, обсудив всю деятельность комиссара Раппа в отношении Отряда, в категорической форме высказался против него. <…> 6) В не менее категорической форме, чем Отрядный Комитет, было высказано осуждение деятельности комиссара Раппа всем высшим командным составом во главе с Генералом Занкевичем и Генералом Лохвицким, это имело в ряде заседаний спец. делегаций Отрядного комитета с представителями высшего командного состава». В дополнение к этому протоколу прилагается протокол общего собрания Г.г. офицеров и чиновников 1-й Особой пехотной дивизии от 14/27 декабря 1917 г. [526]: «Общее собрание гг. офицеров и чиновников 1-й Особой пехотной дивизии 14/27 декабря с.г. в присутствии Комиссара Временного Правительства Михайлова единогласно постановило: 1. Выразить порицание через Комиссара Михайлова бывшему комиссару Раппу за его бездеятельность, приведшую к дезорганизации Русского Отряда во Франции. 2. Поставить в известность Представителя Временного Правительства во Франции о недопустимости возвращения Е.И. Раппа на пост Комиссара Отряда. Председатель собрания полковник Рытов». 28 декабря Рапп извещает Занкевича о «прибытии комиссара Михайлова» [527], явочным порядком сместившего Раппа. Следовательно, тогда и закончилась служба Гумилева офицером для поручений при комиссаре Раппе. 29 декабря это было узаконено [528]: «Приказ по русским войскам №162 от 29 декабря 1917 г. (н.ст.). <…> §11. Комиссара Временного Правительства Михайлов, его помощника Розенфельда и состоящего при нем поручика Чуприна зачислить на денежное довольствие при Тыловом Управлении, первого с 21-го октября, второго с 4-го ноября и третьего с 26-го ноября с.г. ст. стиля. Справка. Сношение Комиссара Михайлова, вх. №1683. Основание: Штат Управления Комиссара». При новом комиссаре — свои помощники. Так что накануне Нового Года Гумилев оказался не у дел, и можно предположить, что у него появилось много свободного времени. Поэтому следует обратить внимание на другой приказ, объявленный тоже 29 декабря [529]: «Приказ по Тыловому управлению русских войск во Франции №90, 16/29 декабря 1917 г. г. Париж. По части инспекторской. <…> §4. Объявляю, что M-lle Елена Карловна Дю-Буше уполномочена Американским Обществом Христианской молодежи устраивать елки в госпиталях и командах, расположенных в районе и области. §5. Объявляю для сведения, что в ближайшие дни для устройства елки и раздачи нашим больным и раненым воинам, находящимся в районе XVI и XVII военных округов, отправится мадам Мария Артуровна Рафалович. Начальник управления полковник Карханин». Сопровождал ли он свою «Синюю звезду» — нам неизвестно. Но вполне мог. В связи с упоминанием того, что Елена Карловна Дю-Буше была связана с Американским Обществом Христианской молодежи, привлек к себя внимание один странный «документ», сохранившийся в не полностью разобранном архиве Михаила Ларионова в ГТГ [530]. Вместе с посланными Гумилевым Ларионову записками и открыткой среди бумаг оказался пустой конверт, который поначалу был проигнорирован, так как его было сложно к чему-либо привязать. Вот его описание: В верхнем левом углу конверта напечатан знак (равнобедренный синий треугольник, направленный вершиной вниз) известной международной религиозно-благотворительной организации Y.W.C.A. — Young Women's Christian Association (Женское Молодежная Христианская Организация), имевшей национальные отделения во многих странах мира. Это — «женское отделение» более известной российскому читателю организации YMCA (Young Men's Christian Association — Молодежная Христианская Организация; особенно она известна у нас по издаваемым издательством YMCA-PRESS книгам, многие из которых включены в список использованной в данной публикации литературы; возглавляет это издательство Никита Струве, часто упоминавшийся Глеб Струве приходится ему дядей). На конверте написано всего несколько слов, одно подчеркнуто красными чернилами: «Cummings, het. note» (два последних слова — неразборчивы). Вдоль узкой стороны конверта написано: GUMILEV. Более на конверте (и в конверте) — нет ничего, потому он поначалу не привлек к себе внимания. Относиться к посланным Гумилевым Ларионову письмам и запискам он явно не мог. Но через некоторое время выстроился неожиданный сюжет. Не могу настаивать на его достоверности, но считаю целесообразным его здесь привести. Может быть, дальнейшие изыскания либо подтвердят его, либо опровергнут. Как сказано чуть выше, уполномоченной этой благотворительной организации в Париже от США была Елена Карловна Дю-Буше. А слово «Cummings», скорее всего, указывает на очень известного американского поэта — Эдварда Эстлина Каммингса (Edward Estlin Cummings, October 14, 1894 — September 3, 1962). В эти годы Каммингс только входил в литературу, но уже был близок к тому кругу поэтов, среди которых Гумилев общался в Лондоне в июне, перед приездом в Париж (Эзра Паунд и его окружение). По его биографии выяснилось, что летом 1917 года он, по военно-медицинским делам, пребывал в Париже, как раз тогда, когда там был и Гумилев. В середине сентября его арестовали (ошибочно предъявив обвинение в шпионаже, так как он не выражал явной ненависти к немцам, что, кстати, было свойственно и Гумилеву). Помещен он был в пересыльную тюрьму Dépôt de Triage в Ла Ферте-Масе, Нормандия (La Ferté-Macé, Orne, Normandie). В середине декабря его выпустили благодаря вмешательству влиятельного отца (и, видимо, кого-то в Париже). То есть все это происходило тогда, когда Гумилев постоянно пребывал в Париже. В начале 1918-го года Каммингс вернулся к себе в Америку, а Гумилев уехал в Англию. С большой степенью вероятности можно предположить, что в Париже они встречались, и вполне возможно, что какое-то участие в его освобождении принял Гумилев. Через посредничество Дю-Буше, помогавшей раненым и осужденным (заметим, что арестовали Каммингса как раз тогда, когда было арестовано и помещено в тюрьмы много русских солдат после восстания в Ля Куртин), он мог с ним связаться. Поэтому одинокий конверт, случайно сохранившийся в архиве Михаила Ларионова, может оказаться свидетельством этого. В последний день месяца (и года) Гумилев получил все причитающееся ему жалованье — последние «законно заработанные» им деньги за службу как офицер для поручений при Военном комиссаре Раппе. На этот раз сохранилось три ведомости, в которых он оставил свои автографы. Две были описаны выше, и укажем только, сколько он по ним получил. Третья — специфическая. Итак, первая ведомость [531]: «Расчет Тылового Управления Русских войск во Франции на выдачу офицерам и классным чинам жалованья и добавочных денег за декабрь месяц 1917 г. и столовых и на представительство за январь 1918 года. Приложение: Аттестат за №№1794, 1798, 1832, 4196, 4319, 1473, 2350 и Сношение Военного Агента №515. 31 декабря 1917 г. №1808». Далее идет сама ведомость, в которой он расписался: «Двести восемьдесят четыре франка получил прапорщик Гумилев». Как и ранее, жалованье его составляло 106 руб. 50 коп. «Столовые» и «На представительство» ему не полагались, и поэтому, как и раньше, у него меньше всех. В этой ведомости фигурируют сразу два военных комиссара, Рапп и Михайлов, каждому полагалось по 750 рублей. При Раппе обозначен проработавший у него всего один месяц, временно исполнявший обязанности начальника его канцелярии поручик Базилевич, получивший 400 рублей. Любопытно, что помощники при комиссаре Михайлове получили больше помощников Раппа: поручик Чупринин 139 рублей, а прапорщик Розенфельд — 500 рублей. Сам Михайлов получил почти за три месяца — 1750 рублей. Следующая ведомость с автографом Гумилева [532] — «Расчет Тылового Управления Русских войск во Франции на выдачу состоящим на денежном довольствии при Управлении офицерам суточных денег и полевых порционных за декабрь 1917 года». Далее идет сама ведомость, в которой он расписался: «Девятьсот тридцать франков получил прапорщик Гумилев». В декабре было 31 день, поэтому и получил он больше, чем в ноябре. И, наконец, третья ведомость [533]: «Расчет Тылового Управления Русских войск во Франции по выдаче чиновникам Управления и офицерам, состоящим на денежном довольствии при Управлении, пособия на покупку теплых вещей на зимний период 1917-1918 гг.» Далее идет ведомость в виде таблицы из четырех колонок. В строке, относящейся к Гумилеву, сделаны следующие записи: (1) Основание — Общая запись для всех: «Приказ по Русским войскам №156». (2) Кому выдаются деньги: Выделены отдельные Управления, среди которых значится — «Канцелярия Комиссара Временного Правительства», и в ней числится два человека: Поручику БАЗИЛЕВИЧУ и Прапорщику ГУМИЛЕВУ. (3) Сумма, фр./сан.: 400 франков 00 сантимов. (4) Расписка в получении денег — автограф Гумилева: «Четыреста франков получил прапорщик Гумилев». По этой ведомости каждому полагалось по 400 франков. Всего в эту ведомость включено 37 человек, которым уплачено 14800 франков. Приведем выписки еще из двух ведомостей, представляющих определенный интерес. «Расчет на выдачу жалованья переписчикам и машинисткам за декабрь: Переписчице Буше (приказ по Управлению №79) — 500 фр. Расписка — «Получила пятьсот франков Е-Дю Буше» [534]. У нее — высшее жалованье по этой ведомости. «Расчет жалованья за декабрь: писарь Никандр Алексеев — 148 фр. 66 с.» [535] «Суточные писарям в штате Комиссара [536]: Писари с 16 декабря по 1 января 1918 г.: Никандр Алексеев — 8 х 16 = 128 фр.; Алексей Евграфов — 8 х 16 = 128 фр.». В двух последних приказах 1917-го года сказано [537]: «Приказ по русским войскам №164 от 31 декабря 1917 г. (н.ст.). <…> §3. Объявляю для сведения, что Военный Комиссар при русских войсках на Македонском фронте и его помощник совершили нижеследующие поездки из Парижа. Военный Комиссар Михайлов с 14 по 17 ноября ст. ст. (с 27 по 30 ноября н. ст.) — в Ля Куртин; с 26 ноября по 3 декабря ст. ст. (с 9 по 16 декабря н. ст.) — в Бордо, Курно, Лимож, Ля Куртин; с 8 по 19 декабря ст. ст. (с 21 декабря по 1 января н. ст.) в Бордо и Курно. Помощник его г. Розенфельд — с 18 по 19 декабря ст. ст. (с 31 декабря по 1 января н. ст.) в Тулон». «Приказ по русским войскам №165 от 18/31 декабря 1917 г. <…> §5. И.Д. штаб офицера для поручений при военном комиссаре Временного Правительства при русских войсках на Македонском фронте поручик Чуприн (командированный в Курно с 26.11/9.12 1917 г.) вернулся 13/26 декабря». 1917 год закончился сменой власти не только в столице, но и в военном комиссариате Парижа. В этот же день Занкевич, телеграммой от 18/31 декабря 1917 года объявил по войскам следующее [538]: «1) Начальник Штаба Фраквара от имени Главнокомандующего от 16/29 сего декабря категорически высказался за нежелательность сообщений в ГУГШ Русской Военной Миссии сведений Фраквара хотя бы и разведывательного характера, ввиду того, что нынешнем положении вещей в России Фраквар не видит никакой гарантии в том, что сведения тем или иным путем не попадут в руки противника. Ввиду изложенного, не считаю возможности идти в разрез с высказанным Фракваром категорическим пожеланием. Внутренняя работа Миссии по мере сил и возможности продолжается. 2) Ввиду закрытия кредитов принужден приступить к сокращению штатов наших войск и подведомственных мне учреждений во Франции. Персонал Особой Пехотной дивизии направляется на работы одновременно с переформированием ее по сокращенному штату. О сокращении штатов и использовании дивизии донесу особо по проведении этой схемы. 3) Вопрос об использовании значительного сверхкомплекта офицеров, получающемся вследствие сокращения штатов, составляет предмет особых моих забот. По укомплектовании частей Салоникской дивизии излишние офицеры будут направлены в Россию, а желающим будет облегчен перевод в союзнические армии. 4) Исключительные обстоятельства заставляют меня принимать самостоятельные, нередко выходящие из обычных рамок, решения, о коих своевременно представлю отчет. 1933 Занкевич». Скорее всего, до встречи Нового Года в Русской миссии, из-за различных календарей, еще оставалось почти две недели. Но мы будем все-таки придерживаться нового стиля. В любом случае, можно предположить, что встреча Нового, 1918-го года среди русских в Париже была не очень веселой. Каждый понимал, что его ждут перемены, и навряд ли к лучшему. Первый же приказ Занкевича в Новом году, практически, повторял текст телеграммы [539]: «Приказ по русским войскам №166 от 2 января 1918 г. (н.ст.). Париж. <…> §7. В виду прекращения поступления денежных средств из России на содержание Тылового Управления Русских войск во Франции приказываю Начальнику названного Управления: 1) Уволить с 1-го января (ст. ст.) 1918 г. всех вольноопределяющихся служащих в Тыловом и Комендантском Управлениях, оставив для Тылового Управления одну переписчицу (для исполнения обязанностей телефонистки) и истопника. 2) Откомандировать в свои части от Тылового Управления и Управления Парижского Коменданта прикомандированных солдат, оставив лишь самое необходимое число писарей и уборщиков. Занкевич». В послужном списке Гумилева сказано [540]: «За расформированием управления военного комиссара оставлен на учете старшего коменданта русских войск в Париже. (Приказ по русским войскам №176) — 4 января 1918 н. ст.» Сам приказ был объявлен 12-го января [541]: «Приказ по русским войскам №176 от 12 января 1918 г. (н.ст.). Париж. По части инспекторской. §1. Управление Комиссара Временного Правительства при русских войсках во Франции считать расформированным — с 4-го января нового стиля 1918 года. Находившимся в составе означенного управления: поручику Базилевичу и прапорщику Гумилеву состоять, впредь до устройства их служебного положения, на учете Старшего Коменданта гор. Парижа. Писарь высшего оклада означенного управления Евграфов переводится в 1-й маршевый батальон 1-й Особой пехотной дивизии». Это — последний приказ за 1917 год (по ст. ст.), далее нумерация приказов опять начинается с №1, от 2/15 января 1918 г., но их будет немного. С начала января перед Гумилевым остро встал вопрос об «устройстве его служебного положения». Большинство последовавших после этого документов, так или иначе, будет касаться решения этого вопроса. Самое деятельное участие в его разрешении принял глава Русской миссии генерал М.И. Занкевич. За весь предшествовавший период не было обнаружено почти никаких документов, характеризующих взаимоотношения, сложившиеся между главой Русской миссии генералом Занкевичем и офицером для поручений при Военном комиссаре Раппе прапорщиком Николаем Гумилевым — слишком различное положение в служебной иерархии они занимали. Ситуация резко изменилась, когда Гумилев оказался не у дел. Как я предполагаю, именно в этот период Гумилевым был подан Занкевичу рапорт, так называемая «Записка об Абиссинии», впервые опубликованная Глебом Струве [542]. Раньше говорилось о том, что Гумилев, уезжая во Францию, мечтал из Салоник добраться до Африки [543]. Сейчас, оказавшись не у дел, он явно не собирался возвращаться в большевистскую Россию, стремящуюся заключить сепаратный мир с Германией. Ведь, оставаясь офицером, он не мог не воспринимать это как дезертирство. Во время войны его много раз пытались демобилизовать, но он каждый раз добивался того, чтобы его оставили в действующей армии. Поэтому выход из войны через возвращение в «примирившуюся» с Германией Россию устроить его никак не мог. Ища выход из создавшейся ситуации, Гумилев мог вспомнить об Африке и предложить свои услуги в разрешении вопроса своего трудоустройства через собственную отправку в Абиссинию для набора добровольцев. Ведь во Французской армии воевало много африканцев, и войска испытывали острую нужду в людских ресурсах. Достаточно вспомнить главную причину появления русских войск во Франции. Наверное, при личной встрече с Занкевичем, он высказал ему свои соображения, и Занкевич попросил написать его докладную записку. Приведем ее здесь полностью, как ее опубликовал Глеб Струве [544]. Записка об Абиссинии. (Перевод с французского) Прапорщик 5-го Гусарского Александрийского полка Российской Армии Гумилев. Докладная записка относительно возможной перспективы комплектования контингента добровольцев для Французской Армии в Абиссинии. По своему политическому устройству Абиссиния делится на известное число областей: Тигрэ, Гондар, Шоа, Улиамо, Уоло, Галла Арусси, Галла Коту, Харрар, Данакиль, Сомали и т. д. Население Тигрэ составляет 2 000 000 жителей. Это превосходные воины, но к несчастью очень независимого и буйного нрава. К тому же, многие из них мусульмане и питают мало сочувствия к итальянцам. В Гондаре и Шоа живет население от шести до семи миллионов чистокровных абиссинцев, почти сплошь православных и обладающих следующими качествами: духом дисциплины и подчинения вождям; храбростью и стойкостью в бою (это победители итальянцев); выносливостью и привычкой к лишениям — до такой степени, что человек опережает лошадь на пробеге в 30 километров и что при переходах, длящихся несколько недель, каждый человек несет на себе запас провианта необходимый для его прокормления. Будучи горцами, они способны выносить самый суровый климат. Племена Улиамо и Уоло — это покоренные абиссинцами негры. Из них выходят хорошие воины, но они скорее годятся для обозных и санитарных частей. В эту же категорию можно отнести племя Галла Коту. Племя Галла Арусси обладает теми же качествами, что и абиссинцы, и вдобавок гигантским ростом и атлетическим сложением. Данакильцы, сомалийцы и часть харраритов храбры, ловки и воинственны, но с трудом подчиняются дисциплине. Их можно было бы использовать для образования отрядов разведчиков, чистильщиков окопов и тому подобных заданий. Помимо того, в Абиссинии имеются очень хорошие лошади и мулы. Средняя цена лошади равнялась до войны 25 франкам, а мула — 100 франкам. Всегда можно было бы получить несколько тысяч этих животных для военных надобностей. Политическая обстановка в Абиссинии следующая: страна управляется императором (в данный момент — императрицей, которой помогает знакомый мне князь, рас Тафари, сын раса Маконена) и советом министров. Кроме того, в каждой области имеется почти независимый губернатор и ряд вождей при нем. Чтобы начать набирать вождей с отрядами от 100 до 500 человек, необходимо получить разрешение от центрального и областных правительств. Расходы составят несомненно меньшую сумму, чем в такого же рода экспедициях в других частях Африки, благодаря легкости сообщений и воинственному нраву жителей. Я побывал в Абиссинии три раза и в общей сложности провел в этой стране почти два года. Я прожил три месяца в Харраре, где я бывал у раса (деджача) Тафари, некогда губернатора этого города. Я жил также четыре месяца в столице Абиссинии, Аддис-Абебе, где познакомился со многими министрами и вождями и был представлен ко двору бывшего императора российским поверенным в делах в Абиссинии. Свое последнее путешествие я совершил в качестве руководителя экспедиции, посланной Российской Академией Наук. Не исключено, что в архивах Военного министерства Франции когда-нибудь обнаружится соответствующий документ, поданный Занкевичем. Но, скорее всего, никакого ходу ему дано не было. Французские власти, начиная с известных событий, стали с недоверием относиться ко всему русскому экспедиционному корпусу и всячески препятствовали даже зачислению русских офицеров (тем более — солдат) в качестве добровольцев в свои войска. В тот же день, когда было расформировано управления военного комиссара, 4 января 1918-го года, Занкевич отправил в Лондон телеграмму [545]: «Исх. №1964 от 22.12/4.1 1918 г. Военному Агенту в Лондоне. Не откажите телеграфировать, верно ли, что англичане предлагают перевезти в Россию через Персидский залив наших офицеров, остающихся за штатом за расформированием наших военных миссий в Лондоне. Занкевич 1964». Впервые в документах появилась Персия и Персидский фронт. Большинство последующих документов будет касаться возможной, но так и не состоявшейся отправки туда Николая Гумилева. Хлопоты по отправке Гумилева на Персидский фронт начались, пока он еще оставался в Париже, потом были продолжены в Лондоне, но так ни к чему и не привели [546]. В следующей главе — о последних неделях в Париже. ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ПАРИЖЕ — ЯНВАРЬ 1918-ГО ГОДА 6 января 1918-го года Занкевич объявляет приказ о закрытии комиссариата [547]: «Приказ по русским войскам №170 от 24 дек./6 янв. 1918 г. <…> §3. Объявляю при сем (в приложении) копию сношения за №186, полученного мною от Комиссара Временного Правительства при русских войсках во Франции Е. Раппа. Приложение: копия сношения №186. Занкевич. Комиссар Временного Правительства и Раб. и Солд. депутатов при русских войсках во Франции. 59, Rue Pierre Charron. Париж, января 4 дня 1918 г. Представителю Временного Правительства при Французской армии генералу-майору Занкевичу. Учреждение, наряду с высшим командным составом, военных комиссаров вызвано ведением военных действий в революционное время; оно имело целью одновременно с введением в армию демократических начал, поддержать в ней революционную дисциплину и поднять ее боеспособность при помощи лиц, действующих по особому доверию и по непосредственному преемству Временного Правительства, с которым комиссар должен находиться в постоянной идейной и деловой связи. Затяжной характер политического переворота в России прервал, по отношению ко мне, как эту связь, так и преемство, и тем самым лишил комиссара главной его моральной силы и значения. С другой стороны, в связи с русскими событиями последних дней, а также благодаря специальным условиям, вызванным пребыванием нашего отряда на иностранной территории, войска наши лишены возможности, несмотря на их желание, сохранить характер единой сплоченной боевой организации и принуждены будут, до отправки на Родину, разбиться на отдельные рабочие группы. При таких условиях я полагаю, что дальнейшее существование военного комиссара во Франции является не только затруднительным, но и не оправдывающим своего назначения, отягощая без пользы и без того скудный бюджет. Ввиду сказанного, почитаю долгом гражданина заявить, что я слагаю с себя обязанности комиссара при русских войсках во Франции. Вместе с тем, во избежании разных превратных толкований, прошу Вас не отказать полностью опубликовать в приказах по войскам настоящее мое заявление, с какового момента я и буду считать себя свободным от моих обязанностей. Евг. Рапп». В этот же день Занкевичу был отправлен из Англии ответ на его телеграмму, касающуюся Персии [548]: «Вх. №1935. №1459. Отпр. 24.12/6.1 1918. Получ. 26.12/8.1 1917. Генералу Занкевичу от генерала Ермолова [549] (агентский шифр). 1964. Переговоры по этому вопросу и вообще по использованию наших офицеров при английской армии были мною начаты лично с лордом Дарви уже некоторое время тому назад и еще ведутся. На этих днях я получил только от Английского Генерального Штаба письменное сообщение, что Генерал Бичерахов на Персидском фронте просит о присылке в его распоряжение 26 русских офицеров, желающих, из коих 16 кавалеристов, 8 пехотинцев, 2-х артиллеристов. Доставка желающих будет исполнена попечением английских военных властей. По соглашению с генералом Гермониусом я в настоящее время запрашиваю желающих, и если останутся вакансии, сообщу Вам. Отправка должна состояться 15 нового января, причем офицеры должны быть снабжены теплой одеждой. Мы предполагаем выдать им содержание на четыре месяца и некоторую сумму каждому на подъем, но этот вопрос еще не решен. Ермолов 1459». Накануне получения телеграммы в Русской миссии праздновали Рождество. Приказ №137 [550] об этом был объявлен 5 января. Очевидно, что о полученной из Лондона телеграмме Занкевич в тот же день сообщил Гумилеву, и 8 января Гумилев подает сразу два рапорта представителю Временного Правительства при Французской Главной Квартире полковнику Бобрикову. Первый — официальный [551]: «Прапорщик 5-го Гусарского Александрийского полка Гумилев. 8 января 1918 г. №166. Представителю Временного Правительства. Рапорт. Согласно телеграммы №1459 генерала Ермолова ходатайствую о назначении меня на Персидский фронт. Прапорщик Гумилев». На рапорте проставлен штемпель: «Вход. №1492. 26 Déc. 1917 / 8 Jan. 1918». На рапорте сверху, карандашом, Занкевич наложил резолюцию: «Согласен: 27/XII (7.1). З<анкевич>». Второй рапорт, в стихах, слегка «хулиганский», также подан знакомому нам полковнику Бобрикову, адресату и первого стихотворного рапорта Гумилева [552]:
Несмотря на закрытие комиссариата, «свергнувший» Раппа Военный комиссар Михайлов в течение января развил бурную деятельность, доставившую немало хлопот Занкевичу, а затем, после того, как он сложил с себя полномочия представителя Временного Правительства, сменившему его генералу Лохвицкому. 8 января Михайлов подает Занкевичу составленное им никому уже не нужное, многостраничное «Временное положение о Военном Комиссаре» [553]. Забегая вперед, покажем на документах, как развивал свою деятельность и чем ее закончил вначале конкурент, а затем наследник Раппа. 11 января Михайлов известил Занкевича, что он «вступил в должность» [554]. 13 января он направил Занкевичу письмо [555]: «Вх. №1985 от 2/15 января 1918 г. Пользуюсь случаем спросить Вас еще раз, где находятся дела Парижского комиссара. Я слышал, что часть увезена бывшим комиссаром Е.И. Раппом, вторая же увезена кем-то из писарей, что совершенно недопустимо. В ожидании ответа, прошу принять уверения в совершенном уважении. Михайлов». На письме — резолюция Занкевича от 3/16 января 1918 г.: «Заготовить от меня письмо Г. Раппу с просьбой сдать дела мне. Занкевич». Подготовленное письмо отправлено Раппу 16 января [556]: «Милостивый Государь Евгений Иванович. Прошу Вас не отказать сдать мне все бумаги, вверенные Вам Парижским Комиссариатом. Прошу также сообщить мне, кем из писарей была взята часть переписки. Уважающий Вас Занкевич». Бумаги Раппа так до Михайлова и не дошли. 3 марта 1918-го года известный нам по участию в трудоустройстве Гумилева полковник Соколов обращается к работающему в Русской миссии поручику Клинскому [557]: «Поручику Клинскому. Препровождаю настоящее официальное отношение Комиссара Михайлова и, имея ввиду циркуляр Начальника Французского Штаба при Русской базе за №358, прошу о принятии мер для поставления в известность Комиссара, что всякая официальная деятельность его согласно названного выше циркуляра исключается. Штаб-офицер при военном Губернаторе гор. Парижа Полковник Соколов». 2 марта 1918 г.». Так как Михайлов никак не может успокоиться, 5 марта Соколов подает рапорт [558]: «Штаб-офицер при Парижском Военном Губернаторе. 5 марта 1918 г. №8, г. Париж. РАПОРТ. При Комиссаре Временного Правительства Михайлове состоят: Поручик Чупринин, прапорщик Розенфельд и писарь Афанасьев. Лица эти назначены в распоряжение генерала Занкевича приказом за №174. Распоряжением Французского Правительства за №358 какая бы то ни было деятельность комиссара Михайлова исключается и всякие сношения с ним воспрещены. Ввиду этого воинские русские чины, находящиеся в распоряжении Михайлова, переходят на учет ко мне для дальнейшего их препровождения на основании сношения Французского Военного Министерства от 18 февраля с.г. за №4367-1/11. Так как вышеуказанное распоряжение генерала Занкевича не отменено, а комиссар Михайлов, по-видимому, не поставлен в известность о распоряжении французских властей о прекращении его деятельности, прошу об издании приказа о расформировании штата Военного Комиссара, после чего мною будут приняты соответствующие меры для препровождения воинских чинов, состоящих в распоряжении Комиссара, согласно имеющихся на это распоряжений Французского правительства. Полковник Соколов». Наконец, 15 апреля к Михайлову обращается сменивший Занкевича генерал Лохвицкий [559]: «15 апреля 1918 г. Милостивый Государь Михаил Александрович. Вы уже обращались к предшественнику моему Генералу Занкевичу с просьбой сообщить Вам материалы, касающиеся Русских войск во Франции, на что получили от генерала Занкевича отказ, что лишает и меня возможности выполнить Ваше желание. Сверх того, по принятому в военном ведомстве правилу, никакие документы, а тем более секретные, частным лицам не сообщаются, вы же являетесь во Франции частным лицом. Последнее обстоятельство лишает меня и подчиненных мне военнослужащих возможности вести с Вами официальную переписку, о чем я говорил с Вами лично в присутствии г. Маклакова. Прошу принять уверения в моем совершенном уважении. Н. Лохвицкий». Последнюю отповедь комиссар Михайлов получил от Игнатьева 17/30 апреля 1918 года [560]: «Генерал Лохвицкий известил меня, что он не признает за Вами прав Военного Комиссара в отношении подчиненных ему русских чинов. <…> В п.3 Приказа №7 по Управлению Военного Агента точно перечислены те русские организации и учреждения, кои составляют Русскую Военную Миссию во Франции, причем основанием для включения этих организаций в состав Военной Миссии является непринадлежность их к составу Русских Войск во Франции, что и оговорено п.3 того же приказа. Ввиду сего Военный Комиссариат или Русские Войска во Франции не могут быть включены в состав Военной Миссии». В дальнейшем следы ставшего «частным лицом» комиссара Михайлова теряются, и более мы к нему возвращаться не будем. Можно считать, что Рапп с Гумилевым вовремя покинули комиссариат. Тем временем, Занкевич, после приказа №166 от 2 января 1918 года о «прекращении поступления денежных средств из России», вынужденный экономить средства, в приказе по русским войскам №173 от 10 января 1918 года объявляет об отмене суточных [561]: «Париж. По хозяйственной части. <…> §10. Следующие мои приказы отменяются с 1-го января ст. ст. 1918 г.: №51, §1, о суточных Прапорщику Гумилеву; №85, §4, о суточных офицерам, обучающимся в авиационных школах; №107, §5, о суточных Штабс-капитану Андрееву; №125, §2, о суточных врачу Веберу; №129, §1, о суточных офицерам, находящимся на работах; №145, §2, о суточных деньгах Подпоручику французской службы Мюрату; №145, §8, о суточных офицерам французской службы на работах; №117, §7, о суточных деньгах уполномоченному Красного Креста г. Туманову. Занкевич». Однако в тот же день, по распоряжению Занкевича, с учетом сложившейся ситуации, всем сотрудникам Русской миссии было выплачено жалованье за три месяца вперед. Как ему это удалось, и откуда он изыскал средства, вызвав этим недовольство французских властей, будет сказано чуть позже. В ведомости выдачи жалованья расписано [562]: «1 января 1918. №1924. Расчет с 1 января по 1 апреля и столовых и на представительство с 1 февраля по 1 мая 1918 г. Приложение: Аттестаты №№440, 441 и 442 и расчет на содержание Прапорщику Гумилеву». Далее идет ведомость на выдачу жалованья в виде таблицы, с перечислением всех сотрудников миссии, включая два комиссариата, во главе с Раппом и Михайловым, и всех их сотрудников. В строке Гумилева указано: (1) Кому выдаются деньги: Обер-офицеру для поручений прапорщику Гумилеву. (2) Причитается в месяц в рублях — жалованье, добавочных, столовых и на представительство: 106 р. 50 к. (3) Причитается в месяц суточных, франков: 320. (4) Всего причитается за три месяца: 1812 франков. (5) Удерживается: вначале было проставлено — «Согласно прилагаемого расчета 948 фр. 70 сан., но потом эта фраза была зачеркнута. (6) Подлежит к выдаче: зачеркнуто — 863 франка 30 сан.; проставлено — 1812 франков. (7) Расписка в получении денег: автограф Гумилева — «Тысяча восемьсот двенадцать франков получил прапорщик Гумилев». Для сравнения: Рапп по этой ведомости должен был получить из расчета 750 руб. в месяц, но его строка осталась пустой, и нет его подписи; его второй помощник поручик Базилевич получил 1836 франков; комиссар Михайлов — 6000 франков; его помощники, Розенфельд — 1812 франков, Чупринин — 3156 франков; Занкевич получил, с жалованьем и суточными, — 17839 франков. Полученный Бобриковым от Гумилева рапорт, естественно, официальный, с резолюцией Занкевича, был им в этот же день направлен Раппу [563]: «Канцелярия Представителя Временного Правительства при Французской Армии. 28.12/10.1 1917/18 г. №1994, г. Париж. Военному Комиссару. По приказанию Представителя Временного Правительства препровождается с просьбою направить Начальнику Тылового Управления для отдачи в приказе по Русским войскам во Франции. Приложение: Рапорт Прапорщика Гумилева №166. В.и.д. штаб-офицера для поручений Полк. Бобриков». Самого рапорта при этом документе нет, так как он остался во Франции и был опубликован Глебом Струве, смотрите выше. Получив рапорт со всеми согласующими подписями, генерал Занкевич все в тот же день отправил телеграмму в Лондон [564]: «Исх. №2000. 28/XII — 10/I 1918. Генералу Ермолову. Лондон. Усиленно ходатайствую о зачислении на вакансию, а если таковые уже разобраны, то об исходатайствовании таковой перед Английским Правительством для прапорщика Гумилева 5-го Александрийского Гусарского полка для направления его в качестве кавалериста в Персию в ближайшем будущем. Прапорщик Гумилев отличный офицер, награжден двумя Георгиевскими крестами и с начала войны служит в строю. Знает английский язык. О резолюции телеграфируйте, обеспечив ему проезд в Англию. 2000 Занкевич». Получив телеграмму, генерал Ермолов тут же на нее ответил [565]: «Вх. №1977. №1462. Отпр. 30.12 (12.1) 1918. Получ. 31.12 (13.1) 1918. Генералу Занкевичу от Генерала Ермолова (агент. шифр). 2000. Прапорщик Гумилев может быть командирован с нашими офицерами в Месопотамию в распоряжение генерала Бичерахова. Для сего подлежит его немедленно командировать в Лондон без всякой задержки, так как 16-го или 17-го января нового стиля офицеры уже должны выехать отсюда. Мы удовлетворяем здесь отправляющихся офицеров следующим денежным довольствием: двухмесячный оклад содержания (жалованье и столовые) холостым и четырехмесячным семейным, подъемные деньги обер-офицеру 150 рублей, на приобретение верховой лошади 500 рублей, на приобретение конского снаряжения 175 рублей, на приобретение теплого платья 150 рублей, путевое довольствие — стоимость билета первого класса на пароходе до Багдада 80 франков и суточные на два месяца обер-офицеру по 30 фунтов в сутки. Если прапорщик Гумилев будет Вами командирован, то все указанное выше довольствие он должен получить от Вас, ибо я не имею возможности выдать ему эти деньги. Благоволите немедленно телеграфировать для сообщения английским военным властям, будет ли он командирован. Генерал Ермолов 1462». Одновременно с этой телеграммой из Лондона, в Русской миссии во Франции была получена телеграмма из Петрограда, объявлявшая вне закона ряд российских представителей за границей [566]: «31 декабря/13 января 1917/1918 г. Коллегия военных комиссаров, получив от одного из служащих в ГУГШ чиновника военного времени копию телеграммы генерала Потоцкого с несогласием его со сложившейся в России политической обстановкой, произвела ревизию переписки всех остальных военных представителей за границей (выделено С.Е.), в результате коей объявила приказание по Военному Ведомству о смещении с должностей и преданию военно-революционному трибуналу за противодействие советской власти, кроме генерала Потоцкого, следующих военных агентов и представителей: Яхонтова (Япония), Ермолова (Англия), Майера (Голландия), Бобрикова, Миллера и Энкеля. Одновременно названная комиссия предлагает поименно военным агентам и представителям, по сдаче должности, прибыть в Россию, а прочим, не сочувствующим чисто деловым работникам воспользоваться правом ухода в отставку, предоставляемую всем достигшим 37-летнего возраста». Любопытный список — военно-революционному трибуналу подлежали как генерал Ермолов в Англии, так и друг Гумилева полковник Бобриков во Франции. Наводит на определенные мысли то, что в этом перечне отсутствует главный Военный Агент во Франции граф А.А. Игнатьев. Думаю, что это не случайно — вспомним поступавшие к Раппу донесения, да и его дальнейшую биографию. При осуществленной представителями советской власти «ревизии переписки всех остальных военных представителей за границей» могло быть выявлено немало тех документов, которые, оказавшись впоследствии в РГВИА, были приведены мною выше. Включая негативное отношение находившихся в Париже офицеров к свершившемуся в России большевистскому перевороту. Об этом не следует забывать при поисках причин того, что случилось с Николаем Гумилевым в августе 1921 года. Хотя, как будет далее показано, позже могли появиться и другие основания для этого. В документах за все последующие дни имя Гумилева мелькает постоянно. В его трудоустройстве приняло деятельное участие все высшее руководство Русской миссии. Это даже слегка удивляет, так как одновременно не у дел оказалось множество русских офицеров в Париже. Их имена и ходатайства о переводе в другие подразделения тоже иногда встречаются, но несравненно реже, чем имя Гумилева. К 14 января относится одновременно несколько документов. Ввиду того, что руководство русскими войсками перешло к французским властям, любое перемещение по службе требовало соблюдения определенной процедуры, и в первую очередь, требовалось непременное согласие французского армейского начальства. Связующим звеном здесь был представитель русских войск при французской армии полковник Бобриков. В этот день он подготовил несколько бумаг, связанных с полученной из Лондона телеграммой Ермолова и рапортом Гумилева о назначении его на персидский фронт. Во-первых, это обращение к генералу Занкевичу, фактически, дающее разрешение на проезд его в Англию (документ на французском языке, на бланке) [567]: «Военный представитель Русского Временного Правительства при Французских Армиях. №2031. Париж, 14 января. Адресовано: 59, Rue Pierre Charron. Генералу Занкевичу для господ Военных Агентов в Англии Париже. Имею честь просить у Вас, если возможно, распорядиться отдать необходимые распоряжения относительно Лейтенанта Гумилева для назначения его в состав экспедиционных войск в Персии, чтобы он мог попасть к генералу Ермолову в Лондоне, по возможности, в кратчайшие сроки. Я был бы Вам искренне признателен за содействие мне в откомандировании этого офицера при сложившихся обстоятельствах, прежде чем он окончательно выйдет в отставку. Для генерала Занкевича и для объявления им приказа». Одновременно Бобриков направляет отношение Военному Агенту графу А.А. Игнатьеву [568]: «Представитель Временного Правительства при Французских армиях. 1/14 января 1918 г. №2032, г. Париж. Военному агенту во Франции. Прапорщик Гумилев согласно присланной телеграмме назначен Английским Военным Министерством на Персидский фронт. Согласно приказанию Генерала Занкевича прошу Вас не отказать сделать все надлежащие распоряжения для облегчения проезда прапорщику Гумилеву в Англию. Сношение (копия) Английскому Военному Агенту послана. Приложение: телеграмма и сношение. И. об. Штаб-офицера для поручений Полковник Бобриков». Внизу проставлена квадратная печать: ««Военный Агент во Франции. Получено 2/15 января 1918 г. Вх. №5160. Отдел…». И надпись от руки: «Срочно». В тот же день все бумаги попали к Занкевичу, и он отправляет в Лондон телеграмму [569]: «Исх. №2033. 1/14 января 1918. Генералу Ермолову. Лондон. 1462. Прапорщик Гумилев мною командируется тотчас по получении проездного свидетельства. Занкевич 2033». Последняя запись в опубликованном Глебом Струве «Послужном списке Н.С. Гумилева» относится к этому распоряжению Занкевича [570]: «По собственному желанию командирован в Англию для направления в действующую армию на Месопотамский фронт — 2/15 января 1918». То есть, со вторника, 15-го января 1918-го года, Гумилев уже официально не числится в составе Русской миссии, хотя остается в Париже до конца недели, так как не все документы еще подготовлены. 15-го января полковник Бобриков направляет отношение начальнику Тылового управления русских войск во Франции полковнику Карханину [571]: «Штаб-офицер для поручений при Представителе Временного Правительства при Французских Армиях. 2/15 января 1918 г. №2035, г. Париж. Начальнику Тылового управления Русских войск во Франции. Телеграммой Военного агента Великобритании прапорщик Гумилев назначен в его распоряжение для отправления на Месопотамский фронт. Генерал Занкевич приказал спешно его удовлетворить согласно прилагаемой телеграммы и выдать предписание. Сношение Военному агенту во Франции для облегчения проезда исполнено. Полковник Бобриков (его подпись)». Внизу документа, под подписью Бобрикова, автограф Гумилева: «Подлинник передал Начальнику Тылового управления без номера. 2/15. Гумилев». В этот день, исполняя полученное накануне поручение Занкевича, помощник Военного Агента Крупский обращается во Французское Военное Министерство (документ на французском языке) [572]: «15 января. Господину Председателю Совета Министров Министерства Обороны. (Штаб-квартира Армии, 2-е Бюро). Господин Министр, имею честь настойчиво просить Вашей благосклонности отдать необходимые распоряжения, чтобы лейтенант русской Армии Гумилев мог крайне срочно покинуть французскую территорию в направлении Англии. Этот офицер назначен для присоединения к экспедиционным войскам в Персии и обязан вначале явиться к генералу Ермолову в Лондоне, по возможности, в кратчайшие сроки. Я был бы Вам искренне признателен за отдачу необходимых указаний, чтобы состоялось откомандирование от Русской миссии лейтенанта Гумилева, прежде чем он окончательно уйдет в отставку. Я бы хотел получить быстрый ответ от компетентного управления вашего Министерства для того, чтобы разрешить этому офицеру покинуть французскую территорию. Примите, пожалуйста, Господин Министр, выражение моего глубокого уважения. Подполковник Крупский». В эти дни Занкевич ходатайствуют и о других офицерах Русской миссии. Так, на обороте листа с копией телеграммы Ермолову о Гумилеве от 14 января имеется его пометка о необходимости ходатайства еще за одного офицера, сотрудника Тылового управления, поручика Перникова, знатока автомобильного дела. На следующий день Занкевич отправляет несколько телеграмм в Лондон с ходатайствами за подчиненных ему офицеров: «2/15 января 1918. Генералу Ермолову, Russemilita Londres (Русская военная миссия в Лондоне). Предполагая, что во Франции найдется много желающих офицеров на Месопотамский фронт, прошу сообщить, возможно ли формирование следующей партии, и могу ли объявить очередь желающих» [573]. «Исх. №2034 от 2/15 января 1918 г. Генералу Ермолову Лондон. Ходатайствую усиленно об исходатайствовании кавалерийской вакансии перед Английским Правительством для направления в Месопотамию поручика ПЕРНИКОВА. Поручик Перников имеет 4 степени Георгия и боевые награды до Станислава 2-й степени включительно. По получении ответа, благоволите срочно телеграфировать. Занкевич» [574]. Первым «в очередь» Занкевич поставил Гумилева. Полученный же спустя несколько дней ответ на последнее ходатайство за Перникова говорит, насколько серьезно относились английские власти к переводу офицеров в свои воинские подразделения. Так как с 15-го января Гумилев считался откомандированным в Англию и на Персидский фронт, в этот же день ему был выдан на руки «Аттестат» об удовлетворении его денежным содержанием при Тыловом управлении русских войск во Франции. Один экземпляр этого аттестата Гумилев оставил в Англии, и он был опубликован Глебом Струве [575], другой экземпляр сохранился в РГВИА [576]: «АТТЕСТАТ №1972. Дан сей от Тылового Управления русских войск во Франции Прапорщику ГУМИЛЕВУ в том, что он при сем Управлении удовлетворен: 1) жалованием из усиленного оклада СЕМЬСОТ тридцать два рубля в год по первое число апреля 1918 г.; 2) добавочными деньгами из оклада сто двадцать руб. в год по первое число апреля 1918 г.; 3) 50% надбавкой к жалованью и добавочным по первое число апреля 1918 г.; 4) полевыми порционами из оклада трех руб. в сутки по первое число апреля 1918 г.; 5) особо — суточными деньгами, как семейный из оклада одного руб. в сутки по первое число апреля 1918 г.; 6) пособием на покупку теплых вещей на зимний период 1917-1918 гг. в сумме ста пятидесяти руб., что подписью и приложением казенной печати удостоверяется. 15 января 1918 г. г. Париж. Начальник управления, полковник Карханин. Начальник хозяйственного отделения Полковник (подпись неразборчива)». На оставленном Гумилевым в Лондоне экземпляре «Аттестата» сделана приписка: «Названный в сем аттестате Прапорщик Гумилев при отправлении в Англию удовлетворен при Управлении Старшего Коменданта русских войск гор. Парижа путевым довольствием: стоимостью билета 2-го класса от Парижа до Лондона в размере СЕМИДЕСЯТИ СЕМИ франков и суточными деньгами на путь по числу верст в размере ШЕСТНАДЦАТИ франков, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется. 3/16 Января 1918 года, гор. Париж. Старший Комендант русских войск гор. Парижа Полковник (подпись неразборчива). Делопроизводитель, чиновник военного времени (подпись неразборчива)». Приписка появилась, потому что это путевое довольствие в размере 98 франков Гумилев получил позже, 24 января [577], видимо, вместе с добавочным жалованьем за Георгиевский крест. Старшим комендантом русских войск гор. Парижа служил хорошо знакомый Гумилеву полковник Соколов. То есть, все парижские сослуживцы Гумилева приняли самое деятельное участие в помощи ему при отправке на Персидский фронт. Одновременно с деньгами, Соколов вручил Гумилеву предписание отправиться в Англию [578]: «Старший Комендант города Парижа. 3/16 Января 1918 года. № 2. Город Париж, 59, rue Pierre Charron. Прапорщику Гумилеву. Предписываю Вам сего числа отправиться в Англию в распоряжение Генерала Ермолова и об отбытии донести. Основание: предписание Тылового Управления от 15 января н. с. № 5. Подполковник (подпись неразборчива). За Помощника Коменданта Штабс-капитан (подпись неразборчива)». 17 января Занкевич направляет в Лондон ходатайство о переводе в Месопотамию штаб-ротмистра Пфеля [579], на которое, как и на ходатайство о поручике Перникове, английские власти отреагируют весьма своеобразно. Этим же числом датировано еще одно упоминание «Синей звезды» в приказе по войскам [580]: «Приказ №2 от 4/17 января 1918 г. По части хозяйственной. <…> §6. 300 франков выписать в расход по денежному журналу из суммы Тылового Управления и уплатить секретарю при Санитарном отделении Г-же Е.К. Дю Буше, согласно представленного счета расходов по поездке для устройства елок для солдат в X-м округе. Справка: Счет Е.К. Дю Буше, наш вх. №2003». Елену Дюбуше оставили для работы в русской миссии и после ее расформирования, о чем было объявлено в приказе [581]: «Приказ по русским войскам №6 от 9/22 января 1918 г. <…> §4. Во изменение приказа по русским войскам во Франции от 2 января №166, разрешаю оставить для письменных занятий в составе Тылового Управления русских войск во Франции, по вольному наему, Елену Карловну дю-Буше и Алексея Семенова, обоих с 1-го января с.г. ст. ст., с вознаграждением, получаемым ими до сего времени. Занкевич». В дальнейшем ее автограф встречается только в ведомости на получение жалованья за январь [582]: «Расчет на выдачу жалованья переписчикам и машинисткам за январь 1918 г.: Переписчице Буше — 500 фр. (Ее расписка по-русски); Семенову — 225 фр. (расписка по-французски)». К сожалению, эти документы нам ничего не говорят, каковы были отношения между поэтом и его парижской Музой перед самым отъездом Гумилева из Франции в Англию. 19 января Гумилев собирает последние документы, необходимые для получения разрешения на выезд из Франции. В этот день управление Военного Агента направляет в соответствующее ведомство просьбу об оформлении его паспорта (документ на французском языке) [583]: «Представительство Русского Военного Агента. Париж, 19 января 1918. 14, Avenue Elisée Reclus. Представительство Русского Военного Агента во Франции было бы чрезвычайно признательно Бюро выдачи разрешений за срочное оформление паспорта для лейтенанта русской армии ГУМИЛЕВА, отправляемого со срочной миссией в Англию, маршрут следования его должен быть в Лондон через Булонь (Boulogne) [584]. Помощник Русского Военного Агента Подполковник Крупский». В этот день Ермолов из Лондона отправил телеграмму Занкевичу [585]: «Генералу Занкевичу от генерала Ермолова (агентский шифр). Отпр. 19.1.1918. Получ. 20.1.1918. №2031. Вход. №2031, 19/1 — 1918. Англичане просят срочно прислать им список русских офицеров, желающих на Месопотамский фронт, преимущественно кавалеристов и гвардейцев, и не иначе как по Вашей особой рекомендации, приблизительно около двенадцати человек. В списке необходимо указать относительно каждого, где служил и что делал во Франции. Благоволите всех командированных удовлетворять деньгами согласно расчетам, указанным в моей телеграмме 1462, но непосредственно от Вас, так как я выдавать им деньги здесь не могу. Для ускорения дела не откажите снестись с Английским Военным Агентом в Париже. Ермолов 1475». На телеграмме резолюция Занкевича — «Запросить». До этого момента Занкевич направил в Лондон только Гумилева, и резолюция «Запросить», скорее всего, относилась к подготовке списка офицеров, желающих отправиться на Месопотамский фронт. Вскоре такой список появился. Одновременно он 20 января посылает ответную телеграмму Ермолову [586]: «Исх. №2057 от 7/20 января 1918 г. Генералу Ермолову. 1475. Денег у меня также нет. Прошу спешно сообщить, нельзя ли получить эти деньги от Англичан. Дополнительно прошу точно указать цель командировки и условия службы. Занкевич 2057». В этот же день Гумилеву, в управлении Военного Агента, вручают командировочное удостоверение, позволяющее ему покинуть Францию и отправиться в Англию (документ на французском языке) [587]: «Представительство Русского Военного Агента. Париж, 20 января 1918. 14, Avenue Elisée Reclus. КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ лейтенанта русской армии Николая ГУМИЛЕВА, направляемого в этот день в официальную командировку в ЛОНДОН через Булонь (Boulogne), для дальнейшей его отправки в специальную командировку по поручению Английского Правительства. Подполковник Крупский (Colonel Kroupsky), помощник Русского Военного Агента». На этом документе — печати Военных Агентов России и Англии, а также штемпель специального комиссариата в Булони о посадке на пароход, датированный 21 января 1918 г. Он позволяет точно установить дату его отъезда из Франции. Гумилев, видимо, тогда предполагал, что в Лондоне он задержится ненадолго. Возможно, мысленно он был уже в Персии. Не персидские ли миниатюры, столь полюбившиеся ему еще до отправки во Францию, его туда так влекли? Ведь о желании попасть на Персидский фронт и привезти оттуда коллекцию миниатюр Гумилев писал Ларисе Рейснер еще 22 января 1917-го года из Окуловки [588]. В январе Гумилев по-прежнему жил у А. Цитрона, что подтверждается его письмом [589]: «До своего отъезда из Франции покойный поэт жил у меня в Passy. Уехал он в начале 1918 года, по приглашению английского War Office в Месопотамию, в кавалерийский отряд и очутился вместо этого в Архангельске, откуда и попал в Петроград. При отъезде он оставил мне для хранения ящик с книгами и значительное количество картин, гравюр, рисунков и альбом, купленные в Париже. Часть его имущества я передал художнику Ларионову; книги же хранятся у меня в Париже. Охотно передам их наследникам или ближайшим друзьям. Александр Цитрон». Как и Глебу Струве, мне неизвестно «ни о судьбе самого Цитрона, ни об оставшихся у него книгах Гумилева». Однако в хранящихся в архиве документах его имя встречается часто [590], особенно после расформирования Русского экспедиционного корпуса. Среди бумаг, относящихся к освобождению заключенных после Куртинских событий, попадаются многочисленные заявления адвоката по их делам, присяжного поверенного А. Цитрона. В заключение для сравнения приведу то, как представлен отъезд Гумилева из Парижа у Лукницкого в «Трудах и днях». Очевидно, что располагал он весьма приблизительной информацией, которая, как правило, используется в качестве «истины в последней инстанции» [591]: «1918. До марта. В Париже жил в квартире адвоката Цитрона. А.М. Росский. 1917 — 1918. Париж. Мысли о путешествии в Африку. А.М. Росский, С.А. Колбасьев. С марта 1918 г. даты показаны по новому стилю. 1918. 2-я половина марта. Уезжает из Парижа в Лондон. В Париже оставляет у квартиросъемщика часть своих вещей и папку бумаг. Оставляет также (у комиссара Временного правительства Раппа (?)) часть коллекций по искусству Востока. А.А. Ахматова, ...Бикерман». Выделены источники информации. Хотя Лукницкий и не располагал документами, из-за чего даты указаны неверно, но основные акценты расставлены относительно точно. Письмо Цитрона подтверждает, что Гумилев предполагал еще вернуться в Париж, после Персии. Однако после его отъезда события начали развиваться не по запланированному сценарию. Узнал об этом он лишь в Лондоне, в первый же день, когда явился к генералу Ермолову. Последующие две недели прошли в непрерывном обмене письмами и телеграммами между Парижем и Лондоном, главным действующим лицом которых невольно оказался Николай Гумилев. Перенесемся и мы вслед за Гумилевым в Лондон, расскажем о последующих событиях, как в Лондоне, так и в Париже, и попытаемся найти возможные причины того, почему все получилось так, как получилось, и почему Гумилев, спустя несколько месяцев, оказался не в Персии, а в Петрограде. ЗИМА В ЛОНДОНЕ — ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 1918-ГО ГОДА В день отъезда Гумилева из Парижа генерал Ермолов отправил Занкевичу весьма любопытную, секретную телеграмму, касающуюся некоторых лиц, которых Занкевич предполагал командировать на Персидский фронт. Однако получена она была в Париже, по неведомым нам причинам, спустя неделю [592]: «Вх. №2109. №1476. Отправ. 7/20 января 1918. Получ. 15/28 января 1918. Генералу Занкевичу от генерала Ермолова (агентским). Личная. 2034 и 2044. Из частных источников мне известно, что англичане ни под каким видом не дадут согласие на перевозку в Месопотамию штабс-ротмистра ПФЕЛЬ вследствие инцидента, бывшего с ним на пароходе во время переезда его из России в Англию. Имею основание опасаться, что и командировка поручика ПЕРНИКОВА будет англичанами также отклонена. Генерал БИЧЕРАХОВ и англичане просят быть особенно осторожными в рекомендациях избираемых для командировки офицеров, возлагая всецело ответственность на тех лиц, кои их рекомендуют. 1476 Генерал Артамонов». На телеграмме, от руки, подпись: «Читал Ермолов». И сделанная в Париже надпись: «Расшифровал и подлинник сжег. Капитан Нарышкин». Занкевич наложил на нее резолюцию: «Военному Агенту». Из этой телеграммы следует, что подчиненная Военному Агенту английская контрразведка серьезно занималась попадающими в сферу ее действий лицами. Однако после получения этой телеграммы Занкевич повторно ходатайствовал за ненавистных английским властям Пфеля и Перникова [593], а к 21 января в русской миссии были собраны рапорты офицеров, и на их основе подготовлен запрашиваемый Ермоловым «Список офицеров и гвардейцев, желающих быть командированными в Месопотамию» [594]. Отпечатанный на машинке список включил в себя 10 фамилий, приведем его полностью, как он составлен в документе: «1. Капитан Евреинов [595]. 2. Поручик Аничков [596]. 3. Поручик Пфель [597]. 4. Ротмистр Аничков [598]. 5. Корнет Коленко. 6. Корнет Попов. 7. Прапорщик Гумилев, рекомендация генерала Занкевича [599]. 8. Капитан Некрасов. 9. Ротмистр Ивченко [600]. 10. (Неразборчиво) Pirnoff [601]». Ниже списка — резолюция: «1) Надо запросить аттестации Генерала Занкевича». Так как Ермолов запрашивал у Занкевича 26 офицеров, желающих отправиться на Персидский фронт, а в Париже нашлось только 10 человек, в тот же день от Тылового управления было направлено следующее письмо [602]: «№170. 21 января 1918 г. Военному Агенту во Франции №176. Старшему коменданту Русских войск г. Парижа №175. Начальнику 1-й Особой пехотной дивизии №170. Представитель Временного Правительства приказал представить ему список офицеров вверенной Вам дивизии, желающих и удовлетворяющих требованиям для назначения в командировку на Месопотамский фронт. При этом Генерал-майор Занкевич предупреждает начальствующих лиц, что предназначенные к отправке офицеры будут командированы под личной ответственностью их начальствующих лиц. В виду спешности дела, ответ ожидается в срочном порядке. Начальник Тылового управления русских войск во Франции Полковник Карханин. Начальник инспекторского Отдела Подполковник Благовещенский». Ранее был приведен «Аттестат №10986» 5-го гусарского Александрийского полка об удовлетворении Гумилева жалованьем за Георгиевский крест, отправленный 17/30 ноября 1917 года из России. 22 января 1918 года он добрался до Парижа, о чем говорит проставленный на нем квадратный штамп: «Тыловое Управление Русских Войск во Франции. Получено 9/22 – 1 1918. Вх. №6611. Отдел — хозяйственный». На аттестате резолюция: «Г. Васильеву составить расчет и спешно выслать деньги по счету от 22/1 в Лондон. 23.1 (подпись неразборчива)». Распоряжение это было исполнено уже на следующий день [603]: «РАСЧЕТ Тылового Управления русских войск во Франции на выдачу Прапорщику Гумилеву добавочного жалованья на Георгиевский Крест 3 ст. с 1 мая 1917 г. по 1 апреля 1918 г. Далее следует ведомость в виде таблицы: «(1) Кому выданы деньги — Прапорщику Гумилеву 5 руб. в месяц; (2) Сумма (в рублях и франках) — 55 рублей или 146 франков 65 сантимов; (3) Расписка в получении денег — Запись от руки: «Отправлено в Лондон через посредство Военного Агента сношением №2083 — чеком на Лондон. £ 5/7/5. Казначей (подпись неразборчива). Приложение: аттестат №10986. Нач. Управления Полковник Карханин. Нач. хоз. отдела Подполковник Лубенский. И. д. Бухгалтер, чиновник воен. времени И. Василев. 23 января 1918 г. №2076». 24 января Занкевичем был объявлен приказ, в котором, наряду с Гумилевым, упоминается и Е.К. Дюбуше [604]: «Приказ по русским войскам №9 от 11/24 января 1918 г. Париж. По части хозяйственной. <…> §4. 146 фр. 65 сан. Выписать в расход по денежному журналу из сумм, позаимствованных у представителя Министерства Путей Сообщения инженера Клягина, и отправить Военному Агенту в Лондон для выдачи Прапорщику Гумилеву добавочное жалование на Георгиевский крест 3 ст. с 1-го мая 1917 г. по апрель 1918 г. (расчет №2076). <…> §19. Выдать жалованье по Тыловому управлению за январь — переписчикам Буше и Семенову». Деньги до Гумилева дошли, о чем говорит оставленный им в Англии и опубликованный Глебом Струве аттестат [605]: «Аттестат № 2082. Дан сей от Тылового Управления русских войск во Франции Прапорщику 5-го Гусарского Александрийского полка Гумилеву в том, что он при сем Управлении добавочным жалованием на имеющийся у него Георгиевский крест 3-й степени из оклада шестьдесят руб. в год удовлетворен по первое число апреля тысяча девятьсот восемнадцатого года, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется. 23 Января 1918 г., гор. Париж. Начальник Управления Полковник Карханин. Начальник хозяйственного отделения Подполковник Лубенский». Но не эти перечисленные суммы волновали тогда Гумилева. Предполагаю, что он был сильно озадачен по окончании первой встречи с Военным Агентом в Англии генералом Ермоловым. Если Гумилев отплыл из Булони 21 января, то встретиться с Ермоловым в Лондоне он мог уже на следующий день. Действительно, это подтверждается первой телеграммой Ермолова, посланной в Париж Занкевичу [606]: «Вх. №2061. №1482. Отпр. 9/22 января 1918. Получ. 10/23 января 1918. Генералу Занкевичу от генерала Ермолова (агентским). Ввиду неполучения Прапорщиком Гумилевым денег от Вас согласно моей телеграмме №1462 я организовать его отправку в Месопотамию на себя взять не могу, а потому откомандировываю его обратно в ваше распоряжение. Ермолов 1482». В архиве сохранилось несколько экземпляров этой телеграммы. На одном имеется приписка: «Расшифровал и подлинник сжег капитан Нарышкин». На другом — резолюция Занкевича: «Резолюция: Начальнику Тылового управления. Еще раз прошу выхлопотать требуемые деньги у Английского Правительства. 10/23.1. Занкевич». Однако, судя по второй телеграмме, отправленной в тот же день, разговор между Гумилевым и Ермоловым был продолжен. Вторая телеграмма была получена через день после первой, следовательно, отправлена она была позже, видимо, вечером, после, как можно предположить, не слишком «дружественной беседы», в которой Гумилев отказался возвращаться во Францию. Это следует из текста второй телеграммы Ермолова Занкевичу [607]: «Вх. №2065. №1483. Отпр. 9/22 января 1918. Получ. 11/24 января 1918. Генералу Занкевичу от генерала Ермолова (агентским). К №1482. Неудовлетворение Вами прапорщика Гумилева проездными и подъемными деньгами к сожалению признаны англичанами сегодня как отсутствие Вашей рекомендации, почему командирование его в Месопотамию они отклонили. За невозможностью откомандирования его обратно во Францию, отправляю его первым пароходом в Россию. Покорнейшая просьба при составлении дальнейших списков принять вышеизложенное во внимание. Генерал Ермолов. 1483». Как и ранее, на одном экземпляре телеграммы имеется приписка: «Расшифровал и подлинник сжег капитан Нарышкин». На другом — резолюция Занкевича: «Резолюция: Г. Ермолову. Прапорщика Гумилева я рекомендую как отличного офицера, но еще раз прошу исходить из отклонения необходимой суммой (sic!), ввиду того, что денег у меня нет. 11/24.1. Занкевич». Эта резолюция явилась основой тут же отправленной в Лондон телеграммы [608]: «Исх. №2071. Отпр. 11/24 января 1918. Лондон. Генералу Ермолову. 1483. Прапорщика Гумилева рекомендую как отличного офицера. Еще раз прошу исходатайствовать у Английского Правительства необходимую сумму денег для командировок в Месопотамию ввиду того, что денег у меня нет. Занкевич. 2071». Но эта телеграмма была отправлена 24 января, и получена в Лондоне не ранее 25-го января, тогда как беседа между Ермоловым и Гумилевым происходила 22-го числа. Чуть позже я выскажу некоторые предположения, чем мог руководствоваться Ермолов, в столь резкой форме отказывая Гумилеву. Видимо, тогда же он решил «подсластить пилюлю», и распорядился выписать Гумилеву в долг деньги на обратную дорогу в Россию. Расписка в их получении подписана следующим днем. Мне кажется, бумага эта могла, с одной стороны, оскорбить Гумилева, а с другой — просто позабавить. Второе возобладало, Гумилев сохранил расписку — «на память», и она осталась среди других его бумаг у Б. Анрепа. Впервые опубликовал ее Глеб Струве [609]: «Выдано заимообразно Военным Агентом в Великобритании Прапорщику Гумилеву на возвращение в Россию ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ (54) фунта стерлингов по следующему расчету:
Помощник Военного Агента в Великобритании Генерал-Майор Дьяконов. 10/23 Января 1918 года. г. Лондон». Все скреплено печатью. Дальнейшее пребывание Гумилева в Лондоне во многом определилось тем, что произошло на протяжении последующих двух недель в Париже, хотя внешне может показаться, что Париж перестал для него существовать. И сам Гумилев мог не знать того, что нам раскрыли документы. Поэтому «зафиксируем» дату получения этой расписки, чтобы потом опять к ней вернуться, и, насколько это возможно, рассказать о почти трехмесячном пребывании Гумилева в Лондоне. А пока, временно нарушая хронологию, перенесемся в Париж конца января 1918 года. Писем из Парижа от Занкевича с упоминанием имени Гумилева больше не поступало. Но, как будет видно из приведенных ниже документов, до последнего дня службы он пытался разрешить возникшую материальную проблему, не зная того, что препятствие на самом деле заключалось не только в отсутствии денег. К сожалению, и его службе во Франции подходил конец, пошла последняя неделя, в конце которой он был вынужден сложить с себя свои полномочия, передав их «непотопляемому» графу А.А. Игнатьеву. Не случись этого, я думаю, он смог бы добиться отправки Гумилева в Персию. Уходил он, с моей точки зрения, очень достойно. Теперь о последних подписанных Занкевичем приказах. 28 января 1918 года в приказе по русским войскам №12 [610] был объявлен список офицеров, которым выдаются деньги из сумм Тылового управления. В этом списка значится 398 фамилий, но Гумилева уже нет. Упоминается в нем Евгений Рапп, получивший 4000 франков. В приказ по русским войскам №14 от 17/30 января 1918 г. объявлено: «§1. В виду отказа Французского Военного Министерства в отпуске средств на содержание газеты «Русский Солдат-Гражданин во Франции», издание этой газеты прекратить с 26-го января нов. ст. Занкевич» [611]. Приказом по русским войскам №15 от 17/30 января 1918 г. был объявлен список офицеров и классных чинов в Тыловом Управлении, и в нем Гумилев отсутствует. Остался прежний начальник — Полковник Карханин, и при нем всего два сотрудника: поручик Владимиров, журналист Ляшенко. Видно, что французские власти стремительно свертывали деятельность Русской миссии во Франции. В этот же день, 30 января, Занкевич подает на имя Военного Агента заявление №2106 [612] о сложении полномочий. Исключительно важным представляется первое же письмо Занкевича Игнатьеву после подачи этого заявления. Оно непосредственно касается дальнейшей судьбы Гумилева, хотя непосредственно его имя там не упоминается [613]: «Представителю Временного Правительства при Французских Армиях. 18/31 января 1918 г. №2107, г. Париж. Графу А.А. Игнатьеву, Военному Агенту во Франции. Милостивый Государь Алексей Алексеевич! Препровождаю Вам переписку о командировании офицеров кавалеристов и гвардейцев в Месопотамию. Из данной переписки Вы увидите, что главным затруднением в этом вопросе является отсутствие денег, которых в моем распоряжении нет. Я уже снесся с Генералом Ермоловым, прося его выхлопотать необходимые для командирования суммы у Английского Правительства. По этому же поводу я имел устные переговоры со здешним Великобританским Военным Агентом, но ответа от названных лиц еще не получил. Быть может, Вы найдете возможность войти в соглашение с Французским Правительством о единовременном отпуске требуемых денег в Ваше распоряжение. Приложение: переписка на 12 листах. Уважающий Вас Занкевич». На письме проставлен квадратный штемпель: «Военный Агент во Франции. Получено 19 янв./1 февр. 1918. Вх. №196». Можно утверждать, что в отсутствующем при этом документе приложении, переписке на 12 листах, большинство писем касалось непосредственно Гумилева, все они были приведены выше. Никакой реакции на это обращение Занкевича к Игнатьеву обнаружить не удалось, да ее и не было. Неприлично в публикации употреблять «ненормативную лексику», но «про себя» соответствующие слова по адресу Игнатьева при чтении этого письма Занкевича невольно срываются. Ведь зная теперь о тех средствах, которыми он располагал, ему даже не требовалось обращаться во «Французское Правительство о единовременном отпуске требуемых денег» в свое распоряжение. По сравнению с теми огромными казенными деньгами, которые он хранил на своих личных счетах во французских банках, требовалась ничтожнейшая сумма, чтобы удовлетворить всех командируемых офицеров. Я не говорю о том, что в его силах и возможностях (исходя из располагаемых им средств) было позаботиться и о тысячах простых солдат, которые были разбросаны по всей территории Франции или оказались в Северной Африке. Поразительно то, что до сих пор этот человек почитается в нашей стране как истинный патриот, лживая книга графа «Пятьдесят лет в строю», в которой он льет «крокодиловы слезы» о судьбах брошенных во Франции русских солдат, регулярно переиздается, и, в основном, исключительно по ней большинство читателей узнает о судьбе Русского экспедиционного корпуса во Франции. Жаль, что Занкевич (в отличие от Раппа, и, как я думаю, Гумилева) не понял этого, иначе он не подписался бы — «Уважающий Вас Занкевич». А может, все он понимал, и это было — просто данью вежливости. В отличие от Игнатьева, оставшегося в Париже с красавицей-женой, известной балериной Натальей Трухановой (1885, Киев — 1956, Москва), и занявшегося вскоре выращиванием шампиньонов, Занкевич летом 1919 году вернулся в Россию, активно участвовал в Белом движении, был начальником штаба Ставки Главнокомандующего Русской армией адмирала Колчака, потом был вынужден эмигрировать во Францию, где еще мог встретить графа Игнатьева. Свой путь генерал Занкевич тихо закончил в 1942 году на кладбище в южном парижском предместье Сент-Женевьев-де-Буа, а граф Игнатьев с почетом был похоронен в 1954 году на Новодевичьем кладбище в Москве. В первых числах февраля Занкевич послал в Англию еще один список офицеров, желающих отправиться в Месопотамию, включивший 18 человек [614]. Трудно проследить их судьбы, но по просмотренным документам создается такое впечатление, что многие из откомандированных в Англию лиц, в конечном итоге, попали туда, куда хотели. Это кажется вполне естественным, ведь не отдыхать же за казенный счет на курортах Персии просились русские офицеры, а воевать, то есть — работать. По крайней мере, не было обнаружено ни одного документа от Ермолова из Англии с формулировками, аналогичными тем, по которым он отклонил ходатайство Занкевича за Николая Гумилева. Документы, касающиеся работы русских военных служб в Англии, в частности, отправки русских офицеров в Персию, в РГВИА отсутствуют, их теоретически возможно обнаружить только в архивах Великобритании. Вызывает некоторое удивление огромный массив хранящихся в РГВИА документов по Русскому экспедиционному корпусу во Франции. Попасть они могли туда только спустя много лет, уже в Советскую Россию. У меня есть предположение, что и здесь мог приложить руку граф Игнатьев, когда заключил с Советской властью взаимовыгодную сделку. Вместе с деньгами и в качестве гарантии своего благополучного существования, он в 1920-е годы передал в Россию большую часть сохранившихся документов по экспедиционному корпусу. Ведь именно ему был вынужден передать все дела Русской миссии генерал Занкевич в начале февраля 1918-го года. Один из документов об этом будет представлен ниже. А для карательных органов Советской власти они представляли несомненный интерес, как компрометирующие, изобличающие «врагов народа» и «шпионов» документы. Долгое время, вплоть до «перестройки», все эти бумаги хранились в архиве с грифом «секретно», и были недоступны для исследователей. Косвенным подтверждением этой версии может служить то, что среди бумаг почти нет документов с рапортами самого Игнатьева, который многие годы «верно» служил и царской власти, и Временному правительству. Если документы передавал именно он, то необходимо было «вычистить» все то, что могло скомпрометировать его в глазах новой власти, которой он продался. Что он и сделал. Мы отвлеклись от «парижских дел», так как мне показалось необходимым высказать приведенные выше соображения, относящиеся к двум генералам Русской армии, одному — незаслуженно возвеличенному, другому — столь же незаслуженно забытому. 20 января/2 февраля 1918-го года Занкевич подает рапорт Военному Министру Франции: «В начале декабря Помощник Начальника Генерального Штаба Генерал Альби, при личном свидании со мною, сообщил мне, что ввиду прекращения отпуска кредитов на содержание русских войск во Франции и ввиду предстоящего наряда главной массы войск на работы французское правительство считает необходимым провести некоторые организационные мероприятия, вызываемые новым положением русских войск во Франции. Я ответил, что согласен пойти в этом вопросе навстречу французскому правительству, но при условии, что все эти мероприятия будут предварительно рассматриваться и одобряться мною. Генерал Альби заверил меня, что все будет сделано не иначе, как с предварительного моего согласия. <…> (Занкевич создал смешанную комиссию для обсуждения). Однако 25-го декабря, к моему удивлению, я получаю от Французского Военного Министра не проект, подлежащий моему предварительному рассмотрению, а документ, имеющий характер окончательного решения, а именно решение Французского Военного Министерства по управлению и использованию русских войск во Франции за №30234, сущность которого сводится к нижеследующему: Французское Правительство берет на себя содержание и довольствие русских войск во Франции. Командование русскими войсками во Франции переходит к французским военным властям, которые используют часть русских офицеров как кадровых. Французский командный состав обеспечивает всеми находящимися в его распоряжении средствами соблюдение дисциплины и порядка в войсках. Ни один войсковой комитет не будет более терпим. Для управления русскими войсками учреждается русская база в г. Лавале, под командованием русского генерала, в помощь которому будут приданы не подчиняющиеся ему французский начальник штаба и французский интендант. <…> Денежное и вещественное довольствие русским офицерам и солдатам во Франции приравнивается к французским войскам. Русские войска будут использоваться: 1. На Французском фронте, в случае, если можно будет собрать добровольческие части. 2. На работах внутри страны и в зоне военных действий, но вне неприятельского обстрела, для чего будут сформированы рабочие команды. 3. Нежелающие идти ни на фронт, ни на работы будут отправлены в Африку. Что касается наших солдат в Африке, в упомянутом «Решении» довольно туманно сказано, что изложенные меры будут применены и к ним, распоряжением Командующего войсками в Северной Африке. <…> (Далее про отрицательное отношение к русским командам и комитетам…) Конечно, я ни в коем случае не мог согласиться с французским «Решением» в его целом. Я подал Французскому Военному Министру протест, сущность коего заключается в следующем (письмо от 10.1.18): <…> В вопросе о комитетах я не только пошел навстречу французам, но и отдал приказ о расформировании комитетов на территории Франции и о восстановлении дисциплинарной власти начальствующих лиц (Приказ №174 по русским войскам от 29.12/11.1 — 1918 и №13 от 15/28 января 1918). (Далее — о том, что и Временное Правительство сознавало их несовершенство, и в телеграмме №7330 от 9/23 октября 1917 г. предлагало сузить их полномочия). <…> Упомяну здесь, что еще до получения мною «Решения» Военный Комиссар русских войск во Франции Госп. Рапп снял с себя полномочия (письмо от 4 января 1918 г. н. ст.) <…> В остальном, я решительно протестовал против подчинения Начальника дивизии (Начальника русских баз) Французскому Военному Министру, требуя оставления их в моем подчинении. <…> Послав мой протест Военному Министру, я при личном с ним свидании предупредил его, что в случае, если французы не согласятся на удовлетворение требований, изложенных в моем протесте, я, не имея возможности брать на себя ответственность за дальнейшее, сниму с себя мои полномочия. Нотой за №1817 от 23 января 1918 г. Военный Министр дал мне ответ, из коего явствует, что требования моего протеста оставлены французами без удовлетворения. <…> Поставленный в полную невозможность исполнять мои обязанности в отношении вверенных мне войск, я вынужден был сложить с себя свои полномочия, передав свои командные права по войскам во Франции Генералу Лохвицкому, в Македонии — Генералу Тарановскому, а по представлению при Французской Главной Квартире — Военному Агенту Генералу Графу Игнатьеву. Генерал Занкевич». В тот же день генерал Занкевич объявил приказ [615]: «Приказ по русским войскам во Франции и на Салоникском фронте №16 от 20 янв./2 февр. 1918 г. г. Париж. По части инспекторской. §1. Вследствие моего несогласия с целым рядом мер, проведенных в последнее время Французским Правительством в отношении наших войск и безрезультатности моих по сему протестов, я нахожусь вынужденным сложить с себя мои полномочия. Мои полномочия как Представителя Ставки Верховного Главнокомандующего при Французских Армиях, равно как и мое Бюро при Штабе Французского Главнокомандующего и личную мою канцелярию передаю Военному Агенту. Мои полномочия, определенные Высочайшим соизволением 23-го января, 23-го февраля и 14 июля 1916 года, и положением Военного Совета от 18-го мая 1917 г. на командование войсками, находящимися на территории Франции — передаю генералу Лохвицкому, на территории Македонии — генералу Тарановскому. Об изложении своих решений я поставил в известность Французского Председателя Совета Министров и Военного Министра Г-на Клемансо письмом от 17/30 января сего года за №2101. Представитель Временного Правительства г.-м. Занкевич». Наконец, 4 февраля Занкевич подает «Рапорт №2358» о переводе русских войск на французские оклады. Документ длинный, но интересный тем, что он раскрывает, «внутреннюю кухню» существования Русской миссии. Он говорит, как Занкевичу удалось до своей отставки поддержать существование Русской миссии, выплатить военнослужащим, включая Гумилева, жалованье вплоть до 1-го апреля 1918-го года даже после того, как все связи с большевистской Россией оборвались, и перевод денег прекратился. Рапорт также дает частичный ответ, почему Занкевич не смог обеспечить отправку Гумилева на Персидский фронт в соответствии с выдвинутыми генералом Ермоловым требованиями [616]: «Согласно установленному порядку, удовлетворение денежным довольствием наших войсковых частей и управлений, командированных на Французский и Салоникский фронты, производилось путем перевода с помощью аккредитивов денежных средств распоряжением Кредитной Канцелярии при Министерстве Финансов, что в свою очередь производилось по нарядам Главного Интендантского Управления. Хотя ст. 791 кн. XIX Свода В.П. и устанавливает, что чинам, командируемым за границу, содержание выдается за четыре месяца вперед, однако все чины особых частей и управлений получали все причитающееся им содержание ежемесячно: 1-го числа каждого месяца суточные и 20-го — прочее содержание. Этот порядок, хотя и противоречащий приведенному выше основному закону, не составлял никаких неудобств, когда потребные кредиты поступали в распоряжение войскового начальства своевременно, а потому все выдачи производились точно в срок. С ноября месяца минувшего 1917-го года, со времени перехода власти в руки большевиков, поступление денежных ассигнований из Петрограда прекратилось совершенно, что сразу поставило войсковые части и управления в критическое положение. 1-я Особая пехотная дивизия, имевшая в своем распоряжении значительные собственные (экономические) суммы, могла еще произвести текущие платежи. Что же касается Тылового управления, то прекращение ассигнований денежных средств из Петрограда заставило его прибегнуть, с моего разрешения, к займу 500 000 франков сумм 1-й Особой пехотной дивизии, что вместе с прежним долгом Военному Агенту (в 600 000 франков) довело задолженность Тылового управления до 1100 000 франков. Телеграммой №83111 Главного Интендантского Управления извещалось о переводе на имя начальника Тылового управления 2000000 франков, однако эти деньги получены не были. (Далее о том, что за ноябрь все-таки выдать удалось.) <…> В начале декабря месяца положение денежного вопроса ухудшилось еще более. Французское правительство наложило фактический запрет на все суммы русских войсковых частей и управлений, находящиеся в банках, и, кроме того, были случаи запрещения пользоваться нашими суммами, находящимися в денежных ящиках войсковых частей. После целого ряда моих протестов, как непосредственно от меня, так и через нашего посла, Французское Военное Министерство заявило, что оно принимает на себя содержание русских войск и управлений, находящихся во Франции, на следующих условиях: 1) Русские военные части лишаются права распоряжения суммами подчиненных им частей. 2) С 1-го января 1918-го года ст. ст. удовлетворение всех русских чинов будет производиться распоряжением французских властей, причем все русские чины переходят на французские оклады содержания. 3) Расчеты за декабрь производятся согласно отпускаемых наших сумм. <…> Перевод с 1-го января 1918-го года всех русских чинов на французские, меньшие по сравнению с нашими оклады поставил русских офицеров и чиновников в критическое положение. Если до сего времени удавалось избегать враждебных столкновений с содержателями и прислугой отелей благодаря своевременной уплате по всем счетам, то этого впредь сделать не представляется возможным. Не секрет, что большинство отелей устанавливают различную таксу для французов и иностранцев, причем для последних эта такса более возвышена. Если французские чины, являющиеся коренными жителями Франции, знакомые с ее особенностями, могут существовать на свои оклады, эти же оклады совершенно недостаточны для удовлетворения наших офицеров и чиновников, переплачивающих почти на всех предметах первой необходимости. Для русских офицеров и чиновников необходимо было предоставить некоторый промежуток времени, чтобы дать им возможность постепенно ввести свои расходы в рамки французских окладов. Кроме того, я только 27 декабря прошедшего года был официально извещен Французским правительством о переводе русских военнослужащих на французские оклады, то есть за пять дней до 1-го января, дня выдачи содержания. Такой внезапный переход на уменьшенное содержание конечно имел бы результатом самые печальные явления, как то: задолженность офицеров и неизбежные неприятности с французскими властями. Кроме того, ввиду расформирования некоторых управлений и сокращения штатов наших войск, значительное число офицеров и чиновников осталось за штатами. Крайне неопределенное международное положение России и ухудшение отношения к нам французов не давали мне уверенности в том, что Французское правительство возьмет на себя обеспечение в будущем этих чинов, которые могли бы оказаться выброшенными на улицу, в чужой стране без копейки денег. <…> Все эти соображения привели меня к убеждению в необходимости во имя нравственного моего долга перед подчиненными, обеспечить офицеров и чиновников на некоторое время содержанием по нашим окладам, что с точки зрения закона представляется вполне допустимым на основании упомянутой выше ст. 791 кн. XIX Свода В.П. Не имея для сего в своем распоряжении средств, я, письмом от 7/20 декабря 1917-го года за №1880 обратился к представителю Министерства Путей Сообщений во Франции Инженеру Клягину, суммы коего хранились в частном банке, а потому и не находились еще под запретом, об отпуске мне 1500 000 франков, с тем, что означенная сумма будет восстановлена по получении мною необходимых средств, также как и убытки на начисление процентов на все время нахождения этих денег в моем распоряжении. Означенная сумма в 1500 000 франков была мне инженером Клягиным ассигнована (приход). Хотя приведенная выше ст. 791 кн. XIX Свода В.П. устанавливает выдачу содержания чинам, командируемым за границу, за четыре месяца вперед, однако, учитывая необходимость прийти в этом отношении на помощь 2-й Особой пехотной дивизии, находящейся на Салоникском фронте, я разрешил Начальнику 1-й Особой пехотной дивизии и Начальнику Тылового управления русских войск во Франции выдать по принадлежности, полностью по нашим русским окладам, всем находящимся во Франции офицерам и чиновникам причитающееся им содержание за январь, февраль и март месяц, то есть за три месяца вперед. Всего из 1500 000 франков, полученных мною от инженера Клягина, было: 1) выдано 3-х месячное содержание офицерам, находившимся в ведении Тылового Управления — 711620 франков. 2) Тоже, 1-й Особой пехотной дивизии — 675000 франков. 3) Сдано 26-го января, по требованию французских властей в числе прочих сумм в Банк де Франс — 113380 франков. Об этой выдаче я письмом от 10 января 1918-го года за №5195 поставил в известность Французское Военное Министерство, которое, однако, в письме от 18 января за №….. поставило меня в известность, что со времени перехода власти в руки большевиков, русские власти утеряли право распоряжаться находящимися в их ведении суммами, а потому оно признает необходимым зачесть полученное уже после 1-го января 1918-го года офицерами и чиновниками содержание по французским окладам, против какового действия я решительно протестовал в письме от 23 января за №243. <…> Во второй половине января месяца все суммы, находящиеся в ведении Начальства наших войсковых частей и Начальника Тылового Управления и Комендантских Управлений были описаны французским интендантом и по переданному им требованию французского военного министра, сданы в Банк де Франс. С этого времени всякий расход сумм мог быть произведен не иначе, как с предварительной проверки и разрешения французского интенданта. Г.-м. Занкевич». Все последующие приказы по Русским войскам подписывал вернувший себе власть несокрушимый граф А.А. Игнатьев. Знали бы французские власти, кого они пригрели, и кому вновь передали власть над русскими войсками! Продержался Игнатьев на этом посту недолго, через некоторое время занялся выращиванием шампиньонов, потом, буквально, купив себе «индульгенцию», работал в советском торгпредстве в Париже, в 1930-е годы вернулся в СССР. Почти все исходящие от него приказы интереса для нас не представляют. Неожиданное распоряжение, на основе собственного приказа, было санкционировано Игнатьевым через Тыловое управления Русских войск во Франции 9 февраля. Написано оно на бланке управления, но озадачивает место, куда направлялся этот документ [617]: «№2319/632. Во Временную Ревизионную Комиссию в Петрограде. Согласно приказа по Русским Войскам во Франции 1918-го года №20 комиссару Временного правительства при Русских войсках во Франции Господину Раппу выдано из сумм Тылового Управления русских войск во Франции 5000 франков на расходы на основании ст. 31 «Положения о Военном Комиссаре»; отчет в израсходовании этих денег комиссар представил в Ревизионную Комиссию. Начальник Тылового управления (подпись)». Выше было сказано, что все дела и документы перешли от Занкевича в ведение Игнатьева. Сохранился составленный 12 февраля «Акт передачи дел от Занкевича Игнатьеву» [618]. В акте перечисляются: дела личного состава представителя за 1917 г. — 147 листов, и за 1918 г. — 51 лист; предписания и удостоверения — 58 + 13 листов; Куртинское дело — 186 листов; и, наконец, — «Автомобиль РЕНО, 18 HP, шасси №51061». В этот же день в приказе №7 Игнатьев объявил [619]: «Приказ №7 от 30.1/12.2 1918. §1. Приказом по Русским Войскам во Франции №16 от 20.1/2.2 сего года, Генерал-майор Занкевич сложил с себя полномочия Представителя Временного Правительства и передал свои права по командованию войсками: на территории Франции — генералу Лохвицкому, и, на территории Македонии — генералу Тарановскому. Справка: Приказ №16. §2. Декретом Французского правительства №30235 от 24-го декабря 1917 г., в г. Лаваль, X-го округа, основана русская база, начальником которой назначен Генерал-майор Лохвицкий, с подчинением непосредственно Французскому Военному министру. <…> §3. Представитель Временного Правительства Г.-м. Занкевич письмом №2106 от 17-го/30-го января сего года уведомил меня о передаче мне своих полномочий, как представителя Русского Верховного Командования при Французской армии. Вследствие этого Русская Миссия при Французской Квартире и канцелярия Представителя в Париже перешли в мое ведение с вышеуказанного 17/30 января. <…> Офицерам и чиновникам предоставляется возможность возвратиться в Россию на собственный счет, с правом дотребовать деньги (по прибытии в Россию) на обратный путь тем из них, которые не получили обратных прогонов при выезде из России; названным лицам будут выданы соответствующие аттестаты. <…>. Игнатьев». В конце приказа приводится весьма странный «Список личного состава миссии» на 30 января/12 февраля 1918 года [620]. Странность заключается в том, что в списке, включающем 12 человек, отсутствует сам Игнатьев, открывает его Генерал-майор Занкевич — Представитель Временного Правительства при Французских Армиях (!), последующие 10 фамилий не представляют для нас интереса, а последним значится: «Унтер-офицер Алексеев — бригадный писарь». Это тот самый поэт, рецензию на книгу которого поместил Гумилев в солдатской газете. Просматривая на всякий случай записи за последующие месяцы, я обратил внимание на полное отсутствие подписей Игнатьева под сохранившимися документами! Это еще раз подталкивает к мысли о том, что документы в 1920-х годах передавал, после чистки, сам Игнатьев. В течение всего 1918-го года он честно отрабатывал французские подачки, изображая из себя ярого противника большевиков. Игнатьев по-прежнему оставался Военным Агентом, одновременно став главой русской миссии, но в архиве находятся только те документы, в которых он иногда фигурирует в виде безымянного Военного Агента. Прежде, чем покинуть Париж, приведу для примера несколько любопытных поздних документов. Первый документ, на бланке Военного Агента, адресован известному нам полковнику Соколову [621]: «№320 от 9 мая 1918 г. Русскому штаб-офицеру при Французском Военном Губернаторе в г. Париже Полковнику Соколову. По приказу Военного Агента препровождаю Вам при сем копию телефонограммы Начальника Русского Штаба Базы от 9-го мая сего года н. ст., касающуюся отправления русских инвалидов и бежавших из плена солдат в Россию. Прошу сделать зависящие от Вас распоряжения к отправке поименованных в прилагаемом списке воинских чинов, непосредственно в порт Гавр, с тем расчетом, чтобы означенные чины прибыли бы по назначению не позднее 12-го мая сего года. Приложение: список к телефонограмме». В списке 23 фамилии солдат и 18 чинов и офицеров. Странная выборка сделана Военным Агентом для отправки соотечественников в Советскую Россию. Можно подумать, что во Франции тогда не прозябали многие тысячи русских солдат, стремившихся просто вернуться домой, в свои деревни. Немало и офицеров осталось не у дел. Сохранились документы с полными списками офицеров, состоявших на учете упомянутой Русской Базы на 1 июня и 1 июля 1918-го года [622], в которые включено более 500 человек, разбитых на 14 подразделений. Среди сотен «уволенных от военной службы» значится Занкевич. Наконец, последний приказ, касающийся памятного для России дня; обратите внимание на то, как он странно сформулирован и подписан [623]: «Приказание №72 по Русской Военной Миссии во Франции. 24-го июля 1918 г., г. Париж. По приказанию Военного Агента Канцелярия Военной Миссии сообщает, что в четверг 25-го сего июля в 11 1/2 часов утра, в церкви Российского Посольства, будет отслужена Панихида по убиенному ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II. Форма одежды: походная. Начальник канцелярии (подпись неразборчива)». Прежде, чем перенестись назад, в Лондон, приведу воспоминания о том, как была воспринята эта весть уже вернувшимся в Россию Николаем Гумилевым [624]: «Мы шли с Гумилевым куда-то после завтрака у нас <…> Мы пересекли Садовую наискось по трамвайным рельсам, по которым трамваи шли редко, появляясь неизвестно откуда, и уходя неизвестно куда; иногда останавливались так же вдруг и навсегда — стояли музейными экспонатами, неподвижные. Внезапно на нас налетел оголтело орущий мальчишка-газетчик. Слов мы не разобрали, и только когда он заорал, вторично промчавшись мимо нас, расслышали: «Убийство царской семьи в Екатеринбурге!» Сознание не сразу воспринимает смысл. Мы стоим, кажется, даже без мыслей, долго ли — не знаю, на нас нашел столбняк. Потом — это было первое движение, одно на нас двоих — Гумилев рванулся и бросился за газетчиком, схватил его за рукав, вырвал из его рук страничку экстренного выпуска, не уплатив, я испуганно следила за его движениями, — вернулся, прислонился ко мне, точно нуждаясь в опоре. Подлинно, он был бел, и казалось, — еле стоял на ногах. Раскрывал он этот листок — одну вдвое сложенную страничку — вечность, ясно ее вижу и сегодня. Буквы были огромные. Гумилев опустил левую руку с газетой, медленно, проникновенно перекрестился и только погодя, сдавленным голосом, сказал: «Царствие им небесное. Никогда им этого не прощу». <…> Кому им? Царской семье за невольное дезертирство? Нет, конечно, большевикам». В советских газетах сообщение о расстреле появилось 19 июля 1918 года. Однако возвратимся в январский Лондон. Попав туда 22 января 1918-го года, Гумилев в тот же день натолкнулся, видимо, совершенно неожиданно для него самого, на непробиваемую стену в лице Военного Агента в Англии генерала Ермолова. Дверь в Персию оказалась запертой. Против формальной причины того, почему его не могут отправить в Персию, возражать было сложно. Однако, судя по двум телеграммам, отправленным в один и тот же день генералом Ермоловым, касающихся его участи, Гумилев не мог сразу смириться с предписаниями Военного Агента и пытался в чем-то убедить его. Единственное, чего он достиг, это, с одной стороны, разрешения пока оставаться в Англии, а с другой стороны, судя по тону второй телеграммы, усиления неприязни генерала по отношению к себе. Казалось бы, трудно было возражать тем аргументам, которые привел Ермолов. Действительно, Занкевич никак не мог обеспечить Гумилева требуемой Ермоловым суммой. Приведенные выше документы, связанные с отставкой самого Занкевича, убедительно это показывают. Не будем еще раз возвращаться к графу Игнатьеву и сетовать на то, что он не помог, хотя, безусловно, в его силах было содействовать решению этого вопроса. Странно другое, ведь русские офицеры отправлялись в Персию воевать, и требовать со стороны казалось бы заинтересованных в их участии английских властей (о чем говорят первые телеграммы Ермолова) еще и материального обеспечения своей отправки, представляется, по меньшей мере, странным. Конечно, никто не хочет расставаться с деньгами, и вполне естественным было со стороны рациональных англичан попытаться решить денежную проблему за чужой счет. Как показали дальнейшие события, для многих откомандированных офицеров какие-то решения были найдены, но для этого, по крайней мере, должна была существовать хоть какая-то личная заинтересованность у лица, от которого зависело принятие того или иного решения — кого карать, а кого миловать. Ермолов явно не проникся симпатией к Гумилеву, и кажется, мне удалось случайно обнаружить возможную причину его предубеждения и отторжения офицера-поэта. Гумилев, как известно, занимал должность офицера для поручений при Военном комиссаре Е. Раппе. Как правило, к каждому военному начальнику прикреплялся младший по званию помощник, который постоянно находился при нем и исполнял различные поручения. Чтобы удержаться в этой должности, необходима была определенная психологическая совместимость между начальником и его помощником. В противном случае, помощник мог быть сразу же заменен. Мы наблюдали такую совместимость между Раппом и Гумилевым. Были свои помощники при Занкевиче, при Военных Агентах — Игнатьеве и Ермолове. Причем Ермолов постоянно, как и Игнатьев до появления Занкевича, исполнял обязанности как занимающегося вопросами контрразведки Военного Агента, так и Русского Военного представителя в Англии. В принципе, меня не очень занимал вопрос, кто был помощником при Ермолове, но... Необходимо небольшое отступление. Когда приходится перебирать сотни архивных документов, естественно, невозможно все их перечитывать и переписывать — ищешь только то, что соответствует теме исследования. Но иногда глаз останавливается на некоторых документах, которые, не относясь к теме, чем-то случайно заинтересовывают. Например, внимание привлек документ, где объявлялось об оказанной в Русской миссии в октябре помощи по возвращению в Россию бежавшему из плена Тухачевскому. Привлекла фамилия, и оказалось, что это «тот самый» — будущий маршал. Точно так же несколько раз бросалась в глаза фамилия — Врангель. Он летом 1917-го года появился в Лондоне и рвался во Францию. Род знаменитый [625], в публикациях неоднократно приходилось сталкиваться с путаницей, со «слияниями» разных Врангелей — в одного. На всякий случай выписал номера дел и выдержки из них — хотелось проверить, не тот ли это Врангель, будущий лидер Белого движения. Оказалось, что не тот. Знаменитый Врангель — Петр Николаевич, а «архивный» имел инициалы — «Н.А.». Эта запись могла бы оказаться «лишней», как и множество других выписок, если бы вдруг не появился документ, говорящий о том, что Н.А. Врангель состоит генералом для поручений при начальнике Русской военной миссии в Великобритании, то есть, при Ермолове. Однако этого было явно недостаточно, чтобы как-то привязать его к рассказу. Но на всякий случай пришлось еще раз вернуться к выпискам из документов о появлении Врангеля в Англии. 22 июля 1917-го года Ермолов информировал Занкевича [626]: «Занкевичу от Представителя Верх. Главнокомандующего при Великобританской Главной Квартире. 22 июля 1917. №99. Лондон. Address: War Office, Room 269. Russian Military Mission, London. В Лондон прибыл Генерал-майор барон Врангель, на французско-английский фронт для всестороннего осведомления по вопросам организации и, главным образом, боевых действий кавалерии». С 26 ноября 1917 года Н.А. Врангель неоднократно обращается к Занкевичу из Лондона с просьбой посетить по делам Париж [627]. Однако по не совсем понятным соображениям французские власти отказались пустить его на территорию Франции. Вначале французы сочли его немцем, и в одном из писем Н.А. Врангель вынужден оправдываться, излагая историю своего рода и доказывая, что он не немец, а скандинав. 2 января 1918 года он еще раз обращается к Занкевичу с просьбой посетить Париж и Францию [628], но и на этот раз, 10 января 1918 года, Занкевич ответил, обращаясь на этот раз к нему, как к генералу для поручений при начальнике русской военной миссии в Великобритании, что должен отказать, так как французские власти — против его приезда [629]. Во-первых, обратим внимание на то, что две подписанные Занкевичем телеграммы были отправлены в Лондон Ермолову в один день, 10 января 1918-го года: телеграмма об отказе в посещении Врангелем Франции, и телеграмма с ходатайством о зачислении прапорщика Гумилева в качестве кавалериста в Персию. Предполагаю, что с этими телеграммами Н.А. Врангель и Ермолов ознакомились почти одновременно. И выскажу предположение, что могло вспомниться Николаю Александровичу Врангелю (15.8.1869 — 1927) при чтении этих телеграмм. Кстати, во всех источниках дата его рождения указывалась по-разному — 1863, 1869, 1871. В хранящихся в РГВИА письмах дата его рождения указана им самим — 15 августа 1869 года. Как Ермолов, так и Врангель принадлежали к военным династиям, вся их жизнь была связана с армией. Н.А. Врангель по окончании Александровского лицея служил в лейб-гвардии Конном полку. Был адъютантом Великого Князя Михаила Александровича, опального брата царя [630]. С 1913 — командир 16 гусарского Иркутского полка. В годы Первой мировой войны вновь стал адъютантом Михаила Александровича, а в 1917 году оказался в Англии. Но возникает вопрос — какое все это имеет отношение к герою рассказа? Конечно, в жизни случается, что конфликты между большими начальниками сказываются на случайно попавших им под руку подчиненных. В частности, на ходатайство Занкевича за Гумилева, чтобы он приехал в Англию и был направлен в Персию, мог как-то повлиять одновременно полученный от него же отказ Врангелю на посещение Франции. Возможно, этот фактор имел какое-то значение, однако, как удалось случайно выяснить, не это было главным. Пару слов о том, как это удалось выяснить. Невозможно помнить обо всем, и не секрет, что для выяснения многих вопросов постоянно приходится прибегать к поиску через интернет. Обнаружив Н.А. Врангеля в Англии, мне захотелось посмотреть, нет ли каких публикаций об этом, в частности, о его контактах с Ермоловым и Занкевичем. Стандартные запросы, типа — «Врангель, Занкевич» и «Врангель, Ермолов», практически, ничего не дали. Подтвердилось, что Занкевич участвовал с Врангелем, но с другим, с Петром Николаевичем, в Белом движении. Но не нашлось ни одной нужной мне «связки». Можно сказать, случайно, ни на что не рассчитывая, была набрана строка поиска: «Врангель, Гумилев». Результат его произвел впечатление! В первой же записи были указаны «Письма о русской поэзии», критический отдел, который Гумилев вел в журнале «Аполлон». Оказалось, что в этом журнале в 1911, в номерах №№4-5, была помещена большая подборка его рецензий, и среди рецензируемых авторов значился — Н.А. Врангель. Обычно Гумилев рецензировал в «Аполлоне» книги нескольких авторов, редко более пяти, но №4-5 за 1911 год вышел сразу после его возвращения из самого экзотического полугодового путешествия в Африку [631]. За время его отсутствия накопилось много не рецензированных сборников стихов, и Гумилев решил предложить читателю сравнительный анализ вышедших за полгода книг. Публикацию в журнале он начинает словами: «Передо мной двадцать книг стихов, почти все — молодых или, по крайней мере, неизвестных поэтов. Собственно говоря, вне литературы, как бы ни было широко значение этого злосчастного слова, стоят только четыре. Три — Модеста Дружинина, совершенно лишенного не только поэтического темперамента и знания техники творчества, но и элементарного чувства иронии. <…> И одна — К.Е. Антонова. <…> Остальные книги мне хотелось бы разделить на любительские, дерзающие и книги писателей. Начнем с первых <…>». Врангеля он отнес к категории «любителя»: «Гессен, барон Врангель и Алякринский являются типами трех категорий поэтов-любителей…» Но надо было убедиться, что рецензируемый поэт-любитель Н.А. Врангель как-то связан с Врангелем в Лондоне. Комментарий Р.Д. Тименчика развеял все мои сомнения [632]: «Врангель Николай Александрович, барон (1871— ?; покончил с собой в эмиграции в Риме), в ту пору — полковник лейб-гвардии конного полка, адъютант великого князя Михаила Александровича. Этот сборник «Стихотворения» был переиздан в 1913 г.». Следовательно, раз он его даже переиздал, сам Н.А. Врангель относился к своему детищу достаточно серьезно. И не заметить рецензии на свою книгу, попавшую в самый влиятельный литературно-критический журнал «Аполлон» (соредактором которого, наряду с С.К. Маковским (1877 — 1962), был его родственник, известный искусствовед и младший брат «черного барона» П.Н. Врангеля — Николай Николаевич Врангель (1880 — 1915)), он никак не мог. Наверняка он ее как заметил, так и запомнил. Приведу теперь то, как отрецензировал Николай Гумилев сборник «Стихотворений» Н.А. Врангеля: «<…> К сожалению, нельзя сказать того же о стихотворениях барона Н.А. Врангеля. Книга помечена 1911 годом, но в ней нет и тени той нежности, того инстинктивного знания законов поэзии, какое есть в близких ей по приемам и устремлениям стихах Владимира Гессена. Автора почему-то пленила поза, бывшая в ходу лет тридцать тому назад, — поза борца за идеал, холодно-набожного, притворно-искреннего, тепло и вяло влюбленного в свою подругу, слезно восхищающегося родиной и восторженно — Италией. Видно, что он совершенно не интересуется судьбами поэзии, быть может, даже не догадывается, что таковые существуют, для него нет идеалов в будущем, дорогих воспоминаний в прошлом. Я не верю, что он читал Пушкина». Еще раз Гумилев вспоминает о Врангеле в Рецензии на Е. Астори: «Я бы сказал, что у Е. Астори, издавшего книжку «Диссонансы», есть тайное сродство душ с бароном Н.А. Врангелем, если бы души были хоть сколько-нибудь замешаны в создании их стихотворений». Вряд ли Гумилев и Н.А. Врангель сталкивались друг с другом в довоенном Петербурге. Слишком к разным слоям общества они принадлежали: барон, полковник, потом генерал-лейтенант, секретарь, а затем адъютант и управляющий делами Великого князя Михаила Александровича, с одной стороны, а с другой — начинающий поэт, штатский, в глазах Врангеля — без роду, без племени, да еще и осмелившийся так пренебрежительно отозваться о его стихах. Попробуем представить себе, как могли они встретиться в январе 1918-го года, когда судьба случайно свела их в Лондоне. Теперь только от барона и генерала зависело, как поступить с прапорщиком Гумилевым, пожелавшим попасть в Персию. Причем к приезду Гумилева в Лондон Врангель и Ермолов были уже подготовлены телеграммой Занкевича, осмелившегося отказать барону в посещении Парижа. Первая реакция, в психологическом смысле, была вполне естественной — Ермолов сразу же решил отправить Гумилева назад, в Париж. Два опытных генерала осадили «выскочку». Но, как было сказано выше, видимо, между Гумилевым и Ермоловым чуть позже состоялся еще один разговор, скорее всего, с глазу на глаз. И после этого Ермолов изменил решение, решив, что будет лучше отправить Гумилева в Россию, пока разрешив ему оставаться в Лондоне. Неожиданный поворот, о возможной причине которого будет сказано чуть позже, и, как будет видно из некоторых документов и писем, Гумилев сразу же смирился с этим вариантом. Хотя Занкевич в Париже еще будет продолжать «биться» за него, вспомните написанное им уже после отставки, 31 января, письмо Игнатьеву. Так началось почти трехмесячное пребывание Гумилева в Лондоне, о котором нам почти ничего неизвестно. Но иногда отсутствие информации является само по себе — важной информацией. Но прежде, чем выдвигать какие бы то ни было «гипотезы», приведем все сохранившиеся от этого времени документы. Первый документ — недавно обнаруженное, написанное спустя три дня после беседы с Ермоловым, не публиковавшееся, короткое, но очень важное письмо Михаилу Ларионову от 26 января 1918 года [633]: «Дорогой Мих. Фед. На веч<ер> тоже не иду [634], почему расскажет Аничков. Посижу месяц в Лондоне и поеду в Россию. Теперь можно, хоть и трудно. Буду пока служить в Консульстве, маленькие деньги будут. Напиши мне, что у Вас. И пусть Нат. Серг. припишет. Ее трагедия идет. А вот денег прислать не могу, нет. Может быть и вы поедете в Россию. Правда? Целую, твой Н. Гум». Письмо написано на открытке, на лицевой стороне которой — изображение отеля и надпись: «Imperial Hotel. Russell Square. London». На обратной стороне открытки справа указан парижский адрес Ларионова: Paris, m-r Larionoff, rue Cambon, hôtel Castille. В верхнем правом углу — красная марка в 1 пенни с изображением короля Георга V (двоюродного брата Николая II, поразительно на него похожего, почему их иногда путают — на марках). Посредине квадратный штемпель: «London, 8.15 PM, JAN 26.18.B». В верхней части левой половины открытки повторена надпись лицевой стороне: «Imperial Hotel, Russell Square, London». Выше Гумилев написал свой служебный адрес, куда ему можно было писать: «London, 30, Bedford square, Russian Consulate, мне». Русское Консульство располагалось в пяти минутах ходьбы от отеля Империал, на соседней площади Bedford square. Все это — центральная часть Лондона, между отелем Империал и Русским Консульством располагается Британский музей. Отель Империал в послевоенное время был перестроен, но стоит на том же месте.
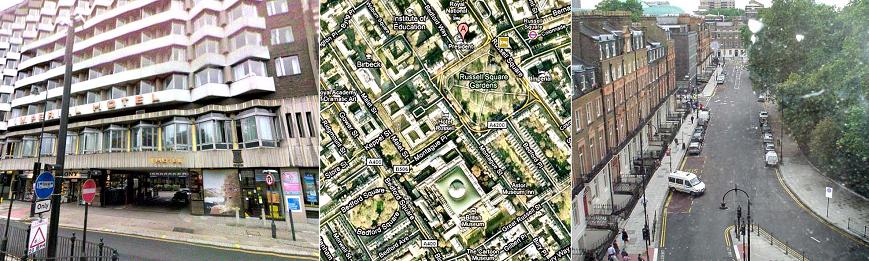
Лондон, отель Империал, где жил Гумилев. Вид из окна отеля в сторону Bedford square. Карта Лондона между Russell square и Bedford square

Лондон, здание на площади Bedford square, где размещалось Русское Консульство.
Из письма видно, что Гумилев в недалеком будущем собирался возвращаться в Россию, и уже не думал ни о какой Персии. Это явно связано с состоявшейся беседой с Ермоловым, который, видимо, и направил его работать в шифровальный отдел, где на службе состоял и Борис Анреп. Обращенные к Наталье Гончаровой слова, что «ее трагедия идет», относятся, безусловно, к трагедии «Отравленная туника», над которой он продолжал работать как в Париже, так и в Лондоне, а окончательно завершил ее уже в России. Подробнее о созданных за границей художественных произведениях, о том, что осталось в Лондоне, а что было взято с собой, будет рассказано в следующей главе — как «подведение итогов». Последнее, на что следует обратить внимание в письме Ларионову — это указанный Гумилевым обратный адрес. Гумилев не мог указать свой личный адрес, например, гостиницы, где он жил. Он обязан был указать адрес Русского консульства, где все письма проверялись. Борис Анреп вспоминал о последних месяцах пребывания Гумилева в Лондоне [635]: «... Я виделся с Гумилевым каждый день в течение многих месяцев в 1918 году, когда он работал в шифровальном отделе Русского Правительственного Комитета в Лондоне. Я также видел его у себя дома, один на один или среди гостей. <…> Лицо Гумилева в Лондоне было худое, косина внешняя, глаза — серые, бесцветные. Нос — совершенно обыкновенный, ни слива, ни огурец, не костистый, вполне приличный. Никаких отеков и морщин, ни подглазных мешков. Благодаря сильно выраженной наружной косине одного глаза (правого), общий вид лица не красивый. Что особенно поражало в его голове, это неестественная, слегка шарообразная выпуклость лба и некоторая его узость. Походка — совершенно нормальная, очень покойная, без всяких лишних движений рук или головы, держал себя очень прямо. Гумилев был среднего роста, не ниже и не выше. Легкая фигура типичного кавалериста. Держал себя несколько чопорно, с показным достоинством; редко улыбался, немного шепелявил, был всегда очень вежлив. Вот все, что я могу Вам сказать о внешности Гумилева, как он мне представлялся в Лондоне». Когда Гумилев покидал Лондон в июне 1917-го года, он оставил там много новых знакомств, в самых разных кругах английского общества, в том числе, среди писателей и поэтов, и теперь было самое время восстановить старые знакомства, казалось бы, ничто этому не мешало. Но если события двух летних недель оказалось возможным восстановить, практически, с точностью до каждого дня, то почти трехмесячное пребывание в английской столице в начале 1918-го года почти полностью скрыто от нас «лондонским туманом». Среди оставленных Анрепу бумаг сохранилось всего два документальных свидетельства. Первое — полученное Гумилевым 5 февраля уведомление из канцелярии Военного Агента в Лондоне, то есть, все от того же Ермолова [636]: «ВОЕННЫЙ АГЕНТ в Великобритании. 23 Января/5 Февраля 1918 г. №89, г. Лондон. Прапорщику Гумилеву. Канцелярия Военного Агента сим уведомляет Вас, что сего числа получена переписка от Военного Агента во Франции, адресованная на Ваше имя. А по сему Канцелярия Военного Агента просит Вас не отказать пожаловать за получением сей переписки в ближайшее время. Подпоручик Балашов». К счастью, у Анрепа сохранилась и та «переписка», о которой идет речь в этом уведомлении. Это полученное Гумилевым письмо из Парижа от поэта К.Н. Льдова, отправленное им 3 февраля. Интересное само по себе, это письмо позволяет нам расширить круг парижских знакомых Гумилева, рассказывает о том, как он мог проводить в Париже свой досуг. Никаких других источников о знакомстве Гумилева с маститым поэтом и литератором Льдовым у нас нет [637]: «3 февр. н. ст. 1918, 4 rue Francisque Sarcey (XVI) Paris. (Франсис Сарсэ, 4). Дорогой Николай Степанович, мы обрадовались, узнав, что Вам удалось пристроиться в Лондоне. Жаль, что не удалось уехать на Восток; хорошо, что распростились с Парижем. Если условия окажутся неблагоприятными для возвращения в Россию, консульство даст Вам возможность продержаться до неизбежного переворота. Мы тоже приблизились к перелому, но, по-видимому, направимся не к северу, а на юг: в Испанию; если не пустят, в Ниццу. Коллекция отправлена в отель Друо; туда же, вероятно, последует и обстановка. Хуже всего обстоит с Рембрандтом: г. А-в и другие торговцы жадничают, проявляя всю низменность своих «бесконечно малых». Опротивели до тошноты. А.Н. с нетерпением ожидает минуты, когда пространство отделит нас навсегда от этих представителей торгующего человечества. Во всяком случае придется еще потерпеть две-три недели. Единственным приятным воспоминанием остается знакомство с Вашей Музой. У нее привлекательный облик и музыкальный голос. Легко запоминается своенравное обаяние. Для истинного поэта всегда выгодно ознакомление с его творчеством во всей полноте. Будем ожидать Вашего присыла, в надежде на лондонскую урожайность. Последняя встреча наша прервала мою «оду» Державину. Посылаю для самого «придирчивого» рассмотрения — чтобы исправить, если возможно. А.Н. [638] шлет привет, жалеет, что застряли в Лондоне, ждет стихов. Сердечно жму руку. К. Льдов».

Константин Льдов. Парижский дом Льдова, где бывал Гумилев.
Парижский адрес Льдова расположен в «гумилевском районе» — между Трокадеро, сквером у метро Passy, где Гумилев жил, и улицей «Синей звезды» Декамп. Любопытно сближение Гумилева в Париже, с одной стороны, с поэтами старших поколений, Н. Минским и К. Льдовым, а с другой стороны, с яркими сторонниками «авангарда», М. Ларионовым и Н. Гончаровой. Из письма Льдова видно, что весть о том, что Гумилева оставили в Лондоне, не дав ему попасть в Персию, успела долететь до Парижа очень быстро. Скорее всего, узнал Льдов об этом из письма Гумилева Ларионову. Это позволяет предположить, что Ларионов и познакомил Гумилева со Льдовым. Последний документ, касающийся пребывания Гумилева в Лондоне — еще одно обращение к нему Ермолова от 21 февраля 1918 года [639]: «ВОЕННЫЙ АГЕНТ в Великобритании. 21 Февраля 1918 г. №…, г. ЛОНДОН. Прапорщику Гумилеву. По приказанию Военного Агента, прошу не отказать сообщить, по возможности, в самом непродолжительном времени по прилагаемому образцу требуемые сведения в целях приискания работы. Подпоручик: БАЛАШОВ». Номер на этом документе не проставлен, и подписи на нем нет, фамилия подпоручика напечатана на машинке. Далее следует «ОБРАЗЕЦ»: «Имя и фамилия. Чин, род оружия. Что делал в Англии. Какие знает языки. Лета. Что может делать в смысле работы». Судя по тому, что Гумилев до своего отъезда продолжал ходить на службу в шифровальный отдел Русской военной миссии, новой работы ему не приискали. А может та анкета, которую ему предлагали заполнить, касалась как раз его отъезда в Россию и требовалась другим, не русским, а английским службам? Пока этот вопрос остается без ответа, и об этом будет подробнее сказано в заключительной главе. О личной жизни Гумилева в Лондоне — мало что известно. В письме Глебу Струве Борис Анреп, говоря о Гумилеве, однажды упомянул [640]: «Он одновременно просил меня познакомить [его] с какой-нибудь девицей легкого поведения». Наверное, знакомства с «девицами легкого поведения» состоялись. Но тот же Струве сохранил несколько свидетельств более серьезных увлечений Гумилева в Лондоне представительницами прекрасного пола, завершившихся стихотворными посвящениями. Вряд ли бы поэт стал посвящать свое стихотворение — «девице легкого поведения». В комментариях к одному из последних стихотворений лондонского альбома, не вошедшего в цикл «К синей звезде» (№74 в Приложении 3) Глеб Струве упоминает другой его вариант, впервые опубликованный в газете «Возрождение» 4 апреля 1929 года, по хранившемуся в Лондоне автографу, с пометой: «Лондон, 1918», и с посвящением С.А. Абаза, дочери графа А.Х. Бенкендорфа, бывшего до революции российским послом в Англии. Вот этот не «альбомный» вариант с посвящением — «С.А. Абаза»:
В стихотворении упоминается март, когда приближался момент возвращения. Поэтому неслучайно в нем появляется мотив — «куда мне плыть», и возникает «географическая карта», как и неслучайно то, что последнее стихотворение в альбоме — «Приглашение в путешествие». В альбоме записан первоначальный, самый короткий вариант. Существует много вариантов этого стихотворения с различными посвящениями, относящимися как к парижским и лондонским знакомым, так и к новым, появившимся уже в России, после возвращения [641]. Как рассказывал Гумилев Ирине Одоевцевой, уже в России, «я действительно был страшно влюблен. Но, конечно, когда я из Парижа перебрался в Лондон, я и там сумел наново влюбиться. Результатом чего явилось мое стихотворение: «Приглашение в путешествие». А из Англии я решил вернуться домой. Нет, я не хотел, не мог стать эмигрантом. Меня тянуло в Россию» [642]. Глеб Струве указывает на два оставшихся за границей автографа стихотворения «Приглашение в путешествие» (помимо альбомного) [643]. Один вариант, с датой «Март 1918», был напечатан в газете «Возрождение» 31 августа 1930 года с указанием, что вариант этот получен Ю.К. Терапиано от г-жи С.Н. Р-ф и передан им поэту Юрию Мандельштаму; посвящение — «С. Р-ф». Спустя почти 30 лет, в 1960-м году, этот же автограф был напечатан вновь, с указанием, что получен «от особы, которой оно было посвящено». Струве упоминает и другой автограф, без посвящения, и с названием по-французски «Invitation au voyage», принадлежавший П.А. Дубровскому в Париже [644]. Наконец, об одном стихотворении, которое было включено как в парижский альбом «К синей звезде», адресованный Елене Карловне Дю-Буше, так и в лондонский альбом Анрепа: «Лишь черный бархат…» (в Приложении 3: АС — №42 (Портрет); КСЗ — №8). Глеб Струве рассказывает в комментариях [645]: «Известен также автограф этого стихотворения с посвящением «Н.В.Е.» и датой «4 апреля 1918. Лондон». Так как в парижский альбом «Синей Звезды» стихотворение это должно было быть записано задолго до даты лондонского автографа, то в этом можно видеть пример нередкого у Гумилева перепосвящения стихотворений, обращенных к женщинам (иногда он перепосвящал и стихотворения, первоначально посвященные А.А. Ахматовой)». Что было, то было, примеров тому множество, на то он и поэт. Стихотворение это, как и два предыдущих — с «прощальной ноткой», и подарено оно было перед самым отплытием в Россию. Как складывались у Гумилева отношения с таинственными, пока не расшифрованными английскими незнакомками «Н.В.Е.», «С. Р-ф», с дочкой посла «С.А. Абаза» — установить вряд ли когда-либо удастся. Возможно, как и «Синяя Звезда», кто-то из них работал в Русском Правительственном Комитете в Лондоне, где служили Анреп и Гумилев. Судя по инициалам, все они были, употребляя получившее сейчас распространение, не любимое мною слово — «русскоязычными». Как я предполагаю, проживая в Лондоне, кто-то из них мог подарить Гумилеву на память сборник стихотворений У.Б. Йейтса с пьесой «Графиня Кэтлин», которую он переводил в Петрограде в 1921 году, «думая лишь о той, кому принадлежала эта книга». Так он, возможно, чтобы произвести «впечатление», для «красного словца», написал на книге Йейтса, передаривая ее Н.А. Залшупиной; подробнее об этом было сказано выше, в рассказе о жизни Гумилева в Лондоне в июне 1917-го года. «Перепосвящая» свое стихотворение «Н.В.Е.» Гумилев заменил в первой строчке «черный бархат» — на «нежный бархат». Вот как это стихотворение звучало для нее:
Лишь нежный бархат, на котором Забыт сияющий алмаз, Сумею я сравнить со взором Ее почти поющих глаз.
Ее фарфоровое тело Тревожит смутной белизной, Как лепесток сирени белой Под умирающей луной.
Пусть руки нежно-восковые, Но кровь в них так же горяча, Как перед образом Марии Неугасимая свеча.
И вся она легка, как птица Осенней ясною порой, Уже готовая проститься С печальной северной страной. 4 апреля 1918. Лондон. Что касается текущих дел, то главным для Гумилева в оставшиеся два месяца лондонской жизни, судя по всему, было приведение в порядок своих бумаг, всего им созданного за время пребывания во Франции и Англии. Что-то дописывалось, что-то редактировалось, что-то просто переписывалось в тетради. Гумилев, видимо, опасаясь того, что ждет его в революционном Петрограде, сразу договорился с Борисом Анрепом оставить у него часть своего «наследия». В Лондоне у него появилось достаточно много свободного времени, чтобы спокойно подвести некоторые итоги перед возвращением в Россию. ЛОНДОН — ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВБолее десяти месяцев провел Николай Гумилев во Франции и Англии. За все годы войны эти последние месяцы оказались, пожалуй, самыми плодотворными с точки зрения количества (и качества) написанного. Непосредственно не обращаясь к военной тематике, в созданных произведениях Гумилев творчески переосмыслил накопленные за годы войны впечатления и обретенный опыт. Любопытно проследить, к каким литературным жанрам обращался Николай Гумилев за годы войны. В первый год были написаны документальная проза «Записки кавалериста» и стихи; после «Записок кавалериста» до 1917-го года к прозе он не обращался. В конце 1915-го года у Гумилева вышел новый сборник стихов «Колчан» (большую часть которого составили довоенные стихи). Немногочисленны и случайны были написанные им критические заметки — рецензии на сборники стихов. Более значимым, как мне кажется, стало обращение Гумилева к драматургии. Ранее он занимался ею лишь эпизодически, им было написано только несколько одноактных миниатюр. В 1916 году появились сразу две пьесы: «Арабская сказка в трех картинах» — «Дитя Аллаха», «Драматическая поэма в четырех действиях» — «Гондла». Попав вновь в Париж в 1917-м году, почти 10 лет спустя после первого длительного там пребывания, он, на новом жизненном витке, как бы повторяет свой тогдашний литературный опыт. Но тогда это было — ученичество, он просто пробовал себя в разных жанрах и посылал свои литературные опыты учителю — Валерию Брюсову. Теперь же надо было расплачиваться по предъявленным жизнью векселям. За десять месяцев, проведенных в Париже и Лондоне, Гумилевым было написано: множество стихотворений; «Трагедия в пяти действиях» — «Отравленная туника»; интереснейшая проза, к сожалению, не доведенная до конца, но предвосхищавшая поиски в этом жанре многих русских литераторов первой трети прошедшего века; наконец, продуманы и подготовлены планы изысканий в области теории поэзии, то, чем Гумилев стал интенсивно заниматься по возвращении в новую Россию. Отдельные рукописи он привез в Петроград, а многое оставил за границей. Большая часть долгие годы пролежала в Лондоне у Анрепа, кое-что в других местах, но именно на их основе усилиями Глеба Струве, после Второй Мировой войны, впервые было подготовлено собрание сочинений Николая Гумилева, началось изучение его творческого наследия, подтолкнувшее и отечественных «подпольных литературоведов» — официально заниматься Гумилевым в доперестроечном СССР было весьма затруднительно. Возвращаясь к созданному Гумилевым в последний год войны за границей, следует заметить, что хотя почти все тогда им написанное опубликовано, сами публикации вызывают множество вопросов, как с точки зрения попытки установить точную дату написания того или иного произведения, так и с точки зрения их трактовки. Далее мне хочется кратко «пройтись» по всем четырем направлениям его творчества, обозначить некоторые вопросы и наметить пути их решения, короче — подвести творческие итоги его пребывания в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции, куда он был откомандирован в мае месяце 1917-го года. Начнем с главного в творчестве поэта — со стихов. В последнем «академическом» собрании сочинений Гумилева, составленном по «хронологическому» принципу, все военные стихи вошли в 3-й том. Поэтому сразу бросаются в глаза многие несуразности последовательности их расположения, обоснования датировок их написания, откровенные нелепости. Одна такая нелепица особенно обращает на себя внимание. В «хронологически» составленный 3-й том под №11 включено парижское стихотворение «Сон», с датировкой: «Первая половина 1914 — по дате публикации». Датой же первой публикации указывается «Альманах «Аполлон», СПб., 1914, 2-е издание». В подборку, действительно, входило стихотворение «Сон», впервые опубликованное в 1-м издании «Альманаха» в 1912-м году, причем оба издания были совершенно идентичны. Стихотворение «Сон» из «Альманаха» вошло в «Чужое небо». Нелепица заключается в том, что это два совершенно разных стихотворения! «Сон» из «Альманаха» сопровождается подзаголовком «Утренняя болтовня», начинается строкой «Вы сегодня так красивы…», и поначалу оно было вписано в слепневский альбом Маши Кузьминой-Караваевой 3 июня 1911 года, незадолго до ее смерти! Парижский «Сон» начинающийся строкой «Застонал я от сна дурного…», был первоначально вписан летом 1917-го в парижский, а затем в лондонский альбом, о них будет сказано ниже. Помимо откровенных несуразиц, вызывает недоумение также безапелляционность трактовки творчества Гумилева этого периода [646]: «Говоря о творчестве Гумилева 1917 г., нужно учитывать, что, вне всякого сомнения, под воздействием увиденного за эти месяцы поэт переживает нечто, что вполне можно назвать мировоззренческой катастрофой: усвоив за годы войны официальную — имперскую и православную — идеологию, пережив эйфорию, вызванную преодолением индивидуализма и кажущимся обретением подлинного единства с «народом» (мечта многих поколений русских интеллигентов), Гумилев был вынужден признать несостоятельность своих представлений о России и ее исторической судьбе». Вполне по-советски, никак не скажешь, что написано это в 2000 году! Странно как-то — человек, переживающий «мировоззренческую катастрофу», продолжая одновременно нести военную службу, ухитряется параллельно создать множество новых самобытных художественных произведений, более чем за все предшествовавшие «катастрофе» годы. О том, как у Гумилева прошли эти прошедшие три года войны, было рассказано в семи предыдущих выпусках «Поэта на войне». Не было у него как никакой «эйфории», так и «мировоззренческой катастрофы». А что касается его представления о судьбе России, думаю, особых иллюзий он не испытывал и представлял себе ее значительно лучше многих своих современников. Неслучайно Ахматова называла Гумилева «самым непрочитанным поэтом 20-го века», «визионером и пророком» [647]. Достаточно вчитаться в строки завершающей последний подготовленный автором сборник «Огненный столп» поэмы «Звездный ужас», на которые обращали внимание Ахматова и Мандельштам [648]: «Горе! Горе! Страх, петля и яма // Для того, кто на земле родился…» Наиболее полно созданные Гумилевым за границей стихотворения представлены в оставленном Борису Анрепу и хранящемся ныне в архиве Глеба Струве альбоме, а также во многом дублирующем его, но, к сожалению, до сих пор досконально не описанном архиве М.Л. Лозинского. Ему Гумилев передал почти все, что привез с собой в Россию. Замечательно, что весь этот богатейший архив полностью сохранился, и есть надежда, недалек тот час, когда он будет полностью описан и включен в научный оборот. Пока же приведем составленное Глебом Струве начало описания попавшего к нему альбома [649]: «Оставленный Гумилевым Б.В. Анрепу и принадлежащий ныне Г.П. Струве альбом со стихами поэта представляет собой довольно толстую тетрадь в зеленом сафьяновом переплете с надписью золотым тиснением «Autographs» (возможно, что альбом этот был куплен Гумилевым в Петербурге в Английском магазине). В альбом вошло 76 стихотворений. Все стихи, занимающие 79 страниц альбома, вписаны рукой самого Гумилева, его мелким, тщательным почерком. Названия выделены красными чернилами. Заглавный лист альбома представляет собой цветочный орнамент (желтый, красный, коричневый) акварелью, работы Н.С. Гончаровой, с ее подписью и датой «1916» [650]. Акварелью же написано: «Н. Гумилев. Стихи». На обороте за главной страницы и поверх текста первой страницы — двойной рисунок в красках Д.С. Стеллецкого, иллюстрирующий стихотворение «Змей». <…> Кроме того, имеются рисунки в красках без подписи к следующим стихотворениям: «Андрей Рублев» (орнамент, по всей вероятности, работы Н.С. Гончаровой), «Мужик» (два рисунка — вероятно, М.Ф. Ларионова — на лицевой и оборотной страницах, на которых записано это стихотворение), «Картинка» (орнамент — вероятно, Н.С. Гончаровой), «В Северном Море» («морской» орнамент, тоже на лицевой и оборотной сторонах, по всей вероятности тоже руки Н.С. Гончаровой)».
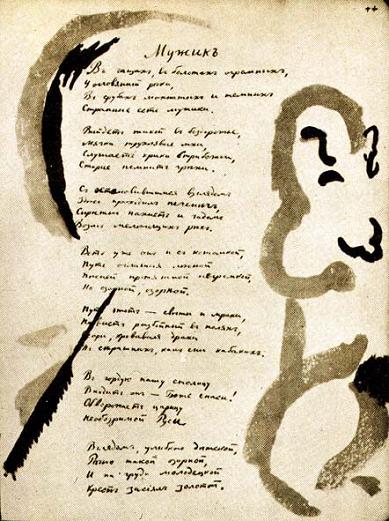
Лист из альбома Струве со стихотворением "Мужик", рисунки Ларионова.
Далее Струве приводит состав альбома, указывая на номера стихотворений, включенных во 2-й том своего собрания сочинений. К сожалению, в список вкралось очень много ошибок, видимо, связанных с тем, что состав тома при подготовке постоянно менялся. В 3-м томе российского ПСС была предпринята попытка восстановить состав альбома, однако, указав на допущенные Струве опечатки, в приведенном в 3-м томе ПСС списке также допущено много ошибок в ссылках на соответствующие номера стихотворений в указанном томе. Чтобы не перегружать основной текст избытком «статистических данных», точный список состава альбома Струве, с рядом уточнений относительно каждого стихотворения, а также указанные Глебом Струве сведения по структуре альбома, вынесены в Приложение 3. Всего в альбом вошло 76 стихотворений, причем первые 15 стихотворений написаны еще в России, и большинство из них было ранее опубликовано. Но вписаны в альбом они были в Париже, о чем говорит их оформление рисунками Стеллецкого, Ларионова и Гончаровой. Сопоставление состава альбома Струве и хранящихся в архиве Лозинского автографов, привезенных Гумилевым в Россию, позволяет сделать вывод, что Гумилев взял с собой большинство записанных в альбом стихотворений (но не все). Они составили два вскоре вышедших сборника, «Костер» и «Фарфоровый павильон», кое-что было опубликовано в периодике. Все стихотворения, составившие эти два сборника, записаны в альбом Струве. Естественно, при подготовке их к печати, Гумилев внес в стихи ряд изменений. Эти разночтения приводятся в 3-м томе ПСС. Однако в этот том не было включено ни одного стихотворения из сборника «Фарфоровый павильон», что, как мне кажется, не совсем корректно. Предполагалось, что эти стихи войдут в том с переводами, выход которого в настоящее время оказался под большим вопросом. На титульном листе и обложке книжки указано: Н. Гумилев. «Фарфоровый павильон. Китайские стихи». С.-Петербург. Издательство Гиперборей, 1918 [651]. В книге два раздела: «Китай» (11 стихотворений) и «Индокитай» (5 стихотворений). В конце сборника, сразу за содержанием, сказано: «Основанием для этих стихов послужили работы Жюдит Готье, маркиза Сен-Дени, Юара, Уили и др. Книжные украшения — из У-цзин-ту, изд. 1724 г. (собрание ксилографов Библиотеки Петроградского Университета)». Это свидетельствует о том, что «Фарфоровый павильон» представляет собой сборник не «китайских» стихотворений, а вольных переложений французских переводов с китайских первоисточников, весьма далеких от оригиналов. В противном случае, Гумилев не указал бы себя как автора сборника. До этого у него вышел один сборник переводов — «Теофиль Готье. Эмали и камеи». На обложке этой книги, естественно, указано — «Переводы Н. Гумилева». Любопытно, что в качестве первоисточника для «Фарфорового павильона» он, в основном, взял переводы на французский язык Жюдит Готье, дочери Теофиля Готье. Комментарии Глеба Струве к сборнику «Фарфоровый павильон» [652] показывают, что Гумилев достаточно вольно обходился с «французскими» прототипами переложений Жюдит Готье с китайского на французский язык. В лондонском альбоме он, по крайней мере, еще указывал авторов китайских стихотворений, но в сам сборник «Фарфоровый павильон» ссылки на эти «первоисточники» уже не вошли. Некоторые из входящих в альбом стихотворений, который Гумилев захватил с собой в Россию, он не включил в указанные два сборника. Часть была опубликована в двух «Посмертных сборниках», вышедших в издательстве «Мысль» в 1922 и 1923 годах. Помимо исчерпывающе описанного Глебом Струве альбома, оставленного Гумилевым у Бориса Анрепа, поэт оставил в Париже еще один альбом, судить о котором мы можем лишь «виртуально», по подготовленному К. Мочульским [653] сборнику «К синей звезде». Вот как сам составитель представил его в своей рецензии, опубликованной в газете «Звено» (Париж), №37 от 15 октября 1923 г.: «Н. Гумилев. К синей звезде. Неизданные стихи. Издательство Петрополис. Берлин 1923 года. Примечание издательства: «Стихотворения настоящего сборника написаны автором в альбом во время его пребывания в Париже в 1918 [654] г. Часть этих стихотворений в новых вариантах была напечатана в сборнике «Костер». <…> Настоящий сборник печатается с подлинника, хранящегося в Париже». Из тридцати четырех пьес, помещенных в этой книжке, восемь знакомы нам по «Костру, две — были напечатаны в «Звене». Появление в свет двадцати четырех новых стихотворений покойного поэта — огромная и неожиданная радость <…>». На самом деле в «Костер» вошли 10 стихотворений из этого альбома, а 27 из 34-х стихотворений парижского альбома Гумилев переписал в альбом Струве, некоторые — в других редакциях. Одно из стихотворений парижского альбома вошло потом в «Фарфоровый павильон» — «Луна восходит на ночное небо...» (Соединение). Семь стихотворений Гумилева известны только по парижскому альбому. Видимо, они носили слишком личный характер, и Гумилев не стал их переписывать в оставленный Анрепу альбом. Два из этих стихотворений было приведено выше — «Мой альбом, где страсть сквозит без меры…» и «В этот мой благословенный вечер…». Однако важно помнить, что все стихотворения парижского альбома были написаны до отъезда в Лондон, скорее всего, до конца 1917-го года. По моему мнению, большая их часть приходится на первые один-два летних месяца пребывания Гумилева в Париже, когда Гумилев был не слишком занят на службе, и когда, видимо, начался «роман» с Еленой Карловной Дю-Буше, с «Синей звездой». Комментарии 3-го тома ПСС дают для многих стихотворений расплывчатые рамки дат написания: «август 1917 — весна 1918 — по местоположению в Альбоме Струве». С одной стороны, в любом случае, они не могли быть написаны весной 1918-го года, а с другой стороны, пользоваться для датировки «местоположением» стихотворения в альбоме следует осторожно. Например, приведенное выше стихотворение «Предзнаменование», написанное либо по дороге из Лондона в Париж, либо в первые дни его пребывания в Париже, в альбом вписано под №26, по соседству с «Танка» («Вот девушка с газельими глазами…»). То есть, многие стихотворения заносились в альбом «задним числом», причем часть из парижских стихотворений была переписана в альбом уже в Лондоне. Состав парижского альбома также дан в Приложении 3. Среди оставленных Гумилевым у Анрепа поэтических набросков безусловный интерес представляют его «экспериментальные» переводы на французский язык нескольких собственных стихотворений. Все три стихотворения опубликованы Глебом Струве во 2-м томе «Сочинений» [655]. Стихотворения эти были обнаружены в записных книжках поэта. Первые два стихотворения представляют собой достаточно точный перевод двух ранних стихотворений: «LA PIERRE» — вошедшее в сборник «Жемчуга» стихотворение «Камень» [656]; «LA FILLE CHINOISE» — вошедшее в сборник «Колчан» стихотворение «Китайская девушка» [657]. Появление перевода именно этого стихотворения дает возможность предположить, как, когда и где выполнялся его перевод. На замечательном стилизованном акварельном портрете Гумилева работы Натальи Гончаровой (воспроизведенный выше рисунок из собрания Джона Стюарта в Лондоне) изображен Гумилев в «восточном обрамлении», пишущий на свитке именно это стихотворение. Возможно, что встречи с Гончаровой и Ларионовым подтолкнули Гумилева к попытке перевести свои стихотворения. Они могли ему помочь в переводе, ведь Гумилев далеко не в совершенстве владел французским языком, чтобы сочинять на нем стихи. Как и в оригинале, второе стихотворение содержит шесть строф; «обратный» перевод говорит о его точности, однако любопытны две замены: в третьей строфе вместо скользящих вокруг павильона «челноков» появился «военный корабль», в шестой строфе жених «все экзамены сдал» не в Кантона, а в Пекине. Однако наибольший интерес представляет третье стихотворение на французском языке — «LA MINIATURE PERSANE», «Персидская миниатюра», также имеющее «живописный» подтекст, косвенно указывающий на чету Гончаровой и Ларионова. В комментариях к этому стихотворению сказано: «В принадлежащей Г.П. Струве записной книжке Гумилева французский текст «Персидской миниатюры» соседствует с переводами двух более ранних стихотворений. Но с другой стороны, в «Альбоме», где записаны стихотворения 1916 — 1917 гг., «Персидской миниатюры» нет, и в «Костер» она не вошла, что как будто свидетельствует о более позднем происхождении русского текста. На это же, как будто указывает и наличие двух других черновых французских вариантов в бумагах Гумилева, записанных на обороте его французского меморандума об Абиссинии. В одном из них шесть строф, как и в печатаемом нами, в другом — семь. В более длинном варианте много существенных разночтений. В обоих этих черновиках есть строфа о какой-то «страшной птице Гаруде». Нами стихотворение дается по записной книжке» [658]. Возможно, данное стихотворение — единственный пример того, как Гумилев вначале попытался написать стихотворение по-французски, а затем, уже в России, «перевел» его на русский язык [659]. Русский текст содержит восемь строф, вместо шести. «Обратный» перевод французского текста говорит о почти полном смысловом совпадении первых двух и последних трех строф обоих стихотворений. Третья строфа французского стихотворения заменена в русском «переводе» на три строфы (4-6), не совпадающие по содержанию с оригиналом. Еще хочется отметить следующее: в «Персидской миниатюре» на русском языке первая строфа содержит редко используемое Гумилевым включение французского выражения — «cache-cache», «игра в прятки». Вспомним, что в своей рецензии на сборник стихов Никандра Алексеева «Венок павшим» Гумилев критиковал молодого поэта за использование такого приема. Причем во французском варианте именно этого выражения нет, хотя смысл первой строфы обоих стихотворений тождественен: «Когда я кончу наконец // Игру в cache-cache со смертью хмурой // То сделает меня Творец // Персидскою миниатюрой»; французский текст — «Soyez sûrs, quand je mourrai, // Fatigué de ma vie insane, // Secrètement je deviendrai // Une miniature persane»; построчник — «Можете быть уверены, когда я умру, // Устав от моей нелепой жизни, // Я тайком превращусь // В персидскую миниатюру». Возможно, включением иностранного выражения в русское стихотворение Гумилев хотел указать на его «французское происхождение». Это французское стихотворение было включено Г. Ивановым в «Посмертный сборник» 1923-го года со следующим примечанием [660]: «Французский подлинник стихотворения Персидская миниатюра, напечатанного в книге «Колчан». Вариант на русском языке является переводом». В комментариях Струве возражает: «Не говоря о том, что «Персидская миниатюра» вошла не в «Колчан», а в «Огненный столп», какие основания были у составителя и редактора «ПС» считать французский текст оригиналом, а русский — переводом, остается неясным». Предполагаю, что единственным основанием могли быть только слова об этом самого Гумилева, сказанные при личных встречах с Георгием Ивановым. Вернувшись в Россию, Гумилев больше никогда не пробовал переводить собственные стихи на другие языки. Теперь несколько слов о несколько загадочном, последнем стихотворении в сборнике «К синей звезде», которое даже не включено в стихотворные тома ПСС. Оно поначалу было пропущено и Г. Струве при подготовке 2-го тома, но было им включено как дополнение к 3-му тому, №415. Хотя оно и вошло в один из томов ПСС, однако найти его обычному читателю вряд ли возможно. В альбоме оно озаглавлено — «Отрывок из пьесы». Это позволяет нам перейти к написанной в Париже и Лондоне «Трагедии в пяти действиях» — «Отравленная туника». Отметим, что указанный «Отрывок» в эту пьесу не вошел, да и вряд ли к ней относился; позже мы к нему вернемся. О планах написания новой пьесы Гумилев писал еще в январе 1917-го года Ларисе Рейснер. Вначале он собирался писать пьесу о Кортесе и Мексике, но потом, когда он прочитал присланную Ларисой книгу Прескотта «Завоевание Мексики», его планы переменились [661]: «Леричка моя, какая Вы золотая прелесть, и Ваш Прескотт, и ваше письмо, и, главное, Вы. <…> Прескотт убедил меня в моем невежестве относительно мексиканских дел. Но план вздор, пьеса все-таки будет, и я не знаю, почему Вы решили, что она будет миниатюрной, она, трагедия в пяти актах, синтез Шекспира и Расина!» Думаю, с одной стороны, российские события, а с другой стороны — влияние Н. Гончаровой и собственная любовь к Востоку, перенесли место действия пьесы из далекой Америки в сердце православия Византию. Но написал Гумилев, как и обещал — трагедию в пяти актах. Вся она сложилась во Франции и Англии. И в стремительно разворачивающемся сюжете, в центре которого, как и в предыдущих пьесах оказывается Поэт, не могли не отразиться развивающиеся вокруг события, то, что происходило на Родине. Здесь не место подробно анализировать ее содержание, но заметим, что специалистами она вполне справедливо признается лучшим драматургическим произведением Гумилева. Просто расскажем о почти «детективном сюжете» появления ее первой публикации, которая состоялась только в 1952 году, хотя текст ее ходил по рукам многие десятилетия. Хотя она могла быть опубликована в России, еще при жизни поэта, как ранее все его остальные пьесы. Наиболее полно эту историю изложил публикатор пьесы, Глеб Струве в 1952 году [662]: «Отравленная туника» (в дальнейшем «ОТ») единственное из известных драматических произведений Гумилева, до сих пор не напечатанное в России. Впервые она была опубликована полностью в книге «Неизданный Гумилев» (Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1952) с моим комментарием. Мною же была рассказана там история проникновения текста этой пьесы за границу. Первые сведения о пьесе попали в зарубежную русскую печать в 1931 г. В статьях ныне покойных А. Ладинского (в «Последних Новостях») и Лоллия Львова (в «России и Славянстве» от 29 августа 1931 г.), напечатанных в связи с десятилетием со дня казни поэта, вкратце говорилось о содержании трагедии и приводились из нее цитаты. Тогда же был поднят вопрос о ее издании за рубежом. Об этом сначала в письме ко мне, а потом в статье, предназначавшейся для мюнхенского журнала «Литературный Современник», но так и не напечатанной, рассказал уже гораздо позже Л.И. Львов. Согласно этому рассказу, машинописный текст «ОТ», вместе с рядом других неизданных произведений, главным образом по церковному вопросу, был привезен в Париж в 1931 г. неким М. Артемьевым, настоящая фамилия которого была Бренстэд, и который был не то датчанином, не то голландцем по происхождению. Он называл себя «бывшим сменовеховцем», говорил, что вернулся в Россию из эмиграции, но потом, воспользовавшись своим иностранным происхождением, выехал снова на Запад по иностранному паспорту. Во Франции он стал сотрудником журналов «Утверждения» и «Завтра» <…>». Струве пишет, что уже после Второй мировой войны выяснилось, что Артемьев-Бренстэд оказался советским агентом, специально работавшим среди масонов [663]. Прошу запомнить эту «связь с масонами», так как совсем в другой публикации и в другое время с «масонами», в связи с именем Гумилева, придется еще раз столкнуться. Но пока речь идет не о масонах, а о рукописи «Отравленной туники». Изложенная Струве версия о том, что список с чистовой рукописи, видимо, не без помощи «органов», была вывезен на Запад, выглядит убедительной: «Артемьев предложил Л.И. Львову, в то время члену редакционной коллегии еженедельника «Россия и Славянство», основанного П.Б. Струве, издать «ОТ» за границей, с тем, чтобы авторский гонорар был передан ему, Артемьеву, для пересылки сыну Н.С. Гумилева через А.А. Ахматову. Львов попробовал устроить издание в принадлежавшем тогда покойному С.В. Рахманинову издательстве «Таир». Рахманинов согласился, но поставил условием, что он сам переведет гонорар в Россию, способом, которым он тогда располагал, а Артемьеву уплатит известный процент. При этом Львов предложил Артемьеву привлечь к контролю над всей этой операцией троих писателей: Б.К. Зайцева и ныне уже покойных А.М. Ремизова и Г.Л. Лозинского, брата близкого друга Гумилева и известного переводчика М.Л. Лозинского. Артемьев эти условия отверг, и переговоры его с Львовым оборвались, но еще до разрыва их Львов снял две копии с переданного ему Артемьевым машинописного экземпляра. После неудачи с Львовым Артемьев обратился с аналогичным предложением к редактору «Последних Новостей» П.Н. Милюкову. Однако Милюков пошел лишь на то, чтобы уплатить Артемьеву 1000 франков за использование его списка «ОТ», как материала для статьи в газете. Статья эта и была написана одним из постоянных сотрудников «Последних Новостей», поэтом Антонином Ладинским, после Второй мировой войны ставшим «советским патриотом» и вернувшимся в СССР, где он и умер несколько лет тому назад. После этого Львов в свою очередь написал статью для «России и Славянства», процитировав те же отрывки из трагедии, что и Ладинский. Насколько мне известно, позднее поднимался вопрос о напечатании «ОТ» в журнале «Современные Записки», но почему-то оно не осуществилось. В 1934 г., по-видимому, снова возник вопрос об отдельном издании трагедии: по крайней мере, в 1953 г., т. е. уже после выхода «Неизданного Гумилева», покойный С.К. Маковский прислал мне машинописный текст «ОТ», на заглавном листе которого напечатано: «ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА. Трагедия в пяти действиях Н. Гумилева. (Печатается отдельным изданием впервые)[664]. Книгоиздательство СВЕЧА [665]. Париж 1934». Несмотря на причастность мою к редакции «России и Славянства», вся история с рукописью, привезенной Артемьевым, осталась мне неизвестна — я знал о трагедии только по статьям Ладинского и Львова. Но во время войны, не то в 1942 не то в 1943 году, я получил в подарок от моего доброго знакомого и тогдашнего сослуживца Б.В. Анрепа (мы оба были русскими «слухачами» на радиостанции агентства Рейтер под Лондоном) довольно большой гумилевский архив, описанный мною подробно в предисловии к «Неизданному Гумилеву». Это были бумаги, оставленные Гумилевым перед возвращением из Лондона в Россию Анрепу, с которым его связывали давние дружеские отношения. Среди этих бумаг были две записные книжки с текстами «ОТ». В одной из этих книжек, небольшого формата (12,5 х 7,5 см), в кожаной обложке винного цвета, находился черновой текст пьесы — первые четыре действия и начало пятого. Текст этот занимал всю книжку, но четные страницы были оставлены пустыми (иногда на них были вставки) — всего 58 убористо написанных страниц. В другой книжке (размером 10,5 х 13,5 см) было начало белового автографа — 173 стиха первого действия, занявших восемь страниц книжки. На заглавной странице чернового автографа было написано рукой Гумилева черными и красными чернилами: «Н. Гумилев. Отравленная туника. Трагедия в пяти действиях. Париж Лондон. Осень 1917 г. Зима 1918». После войны Л.И. Львов оказался в одном из лагерей для перемещенных лиц в Германии. Мы с ним вступили в переписку. Его список «Туники» находился где-то в Париже, но обнаружить его местонахождение долго не удавалось, а о существовании других списков в Париже мне не было известно, и я уже подумывал об издании трагедии по черновому автографу, когда след львовского списка наконец отыскался, и в конце 1950 года я получил его при любезном содействии Б.К. Зайцева. Около того же времени Ю.К. Терапиано напечатал в газете «Новое Русское Слово» (Нью-Йорк) статью на основании попавшего в его руки списка, принадлежавшего раньше покойному молодому поэту Н.П. Гронскому [666]. Ю.К. Терапиано любезно предоставил в мое распоряжение этот список для сличения с львовским, и я установил, что копия Гронского почти наверное восходит к тому же артемьевскому протосписку (некоторые разночтения между списками объясняются ошибками при переписке, производившейся в обоих случаях в условиях большой спешки). По всей вероятности и список Маковского того же происхождения, хотя в нем есть свои разночтения, а иногда и совпадения с гумилевским черновым автографом при отличиях от списков Львова и Гронского. Во многих случаях общие и характерные для всех трех списков ошибки свидетельствуют о том, что список, к которому они восходят, был сделан лицом, плохо разбиравшимся в стихах. Во всех трех списках часто встречается неправильное расположение строк там, где метрическая строка разделена между репликами нескольких действующих лиц. В связи с этим нередок и пропуск отдельных слов, с нарушением строго выдержанного у Гумилева размера. Эти метрико-графические ошибки в большинстве случаев легко устранимы, особенно при помощи чернового автографа, но наличие таких, а также некоторых других явных ошибок, к сожалению, подрывает веру в точность артемьевского протосписка, и о дефинитивном издании «ОТ» пока нельзя говорить: наш текст представляет собой лишь какое-то приближение к нему, будучи результатом сверки всех списков, которые были доступны нам, с нашими черновым и беловым автографами.
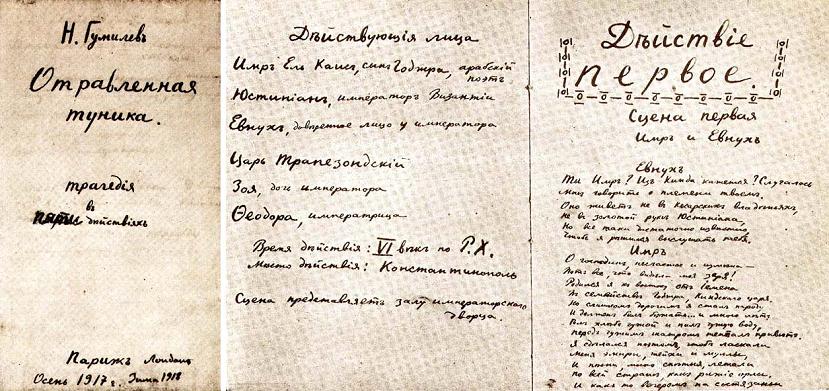
Обложка и первый разворот рукописи "Отравленная туника", оставленной Гумилевым в Лондоне.
Когда Гумилев впервые задумал свою византийскую трагедию, мы не знаем. Но нет сомнения, что он начал писать ее в Париже осенью [667] 1917 г. и продолжал в Лондоне в начале 1918 г. Работу эту в Лондоне он, по-видимому, не закончил и, уезжая в апреле назад в Россию, оставил Б.В. Анрепу записную книжку с черновым текстом и начало белового автографа. Надо полагать, однако, что у него был и другой список, если не всего текста, то первых четырех действий, который он увез с собой и по которому переработал и докончил трагедию уже в России. Сведениями об окончательной рукописи «ОТ» и ее местонахождении мы не располагаем. Что касается артемьевского машинописного списка, то вот что писал о нем Л.И. Львов в 1951 г. в статье, предназначавшейся для «Литературного Современника»: «... уже тогда мне показался подозрительным факт появления артемьевского (будем его так называть) списка «ОТ» в Париже. Я обратил внимание на то, что он был сделан как-то чрезмерно «казенно», в нем не было ни поправок, ни неряшливости любительского характера. Бумага, на которой он был «отстукан», была обычной, грубой, тоже какого-то «казенного» качества. Боюсь ошибиться, но теперь мне мнится, что был и какой-то номер (многозначный) на этом списке ...» Дальше Львов говорил об одном месте в трагедии, где ему показалось наличие пропуска, который он счел умышленным — «с целью, в случае напечатания…. установить, какого происхождения была рукопись, с которой производилось печатание». В данном случае Львов, однако, просто ошибался, и то, что показалось ему пропуском (в списке Маковского этот якобы пропуск был даже обозначен многоточием!), объяснялось небольшой буквенной ошибкой («И» вместо «А») в комбинации с ошибкой пунктуационной (такого рода ошибок в артемьевском списке было очевидно немало) <…> Немного странно, что почти никто из друзей и литературных знакомых Гумилева, писавших о последних годах его жизни, не упоминал до 1931 года об этом и крупном по размерам и внутренне значительном произведении Гумилева, законченном им сравнительно незадолго до смерти. Ни словом не упомянута «ОТ», например, в предисловии к посмертному сборнику стихотворений, хотя автор его и редактор сборника, Георгий Иванов, несомненно, имел доступ к рукописям погибшего поэта (правда, в одной напечатанной уже в зарубежный период статье, полной, как часто у Иванова, всяких неточностей и довольно странных утверждений, есть упоминание о том, что в 1917-18 г. за границей Гумилев написал «большую пьесу «Отравленная туника»)» [668]. Надо отдать должное усилиям Г.П. Струве. Не располагая чистовыми автографами, он почти точно восстановил подлинный текст трагедии. Пьеса эта стала первым крупным произведением Гумилева, напечатанным сразу после снятия запрета с его имени, причем напечатали ее в 1986 году одновременно сразу два журнала: Современная драматургия, №3 и Театр, №9. Тексты печатались по автографам, ныне хранящимся в Литературном музее в Москве (чистовая рукопись окончательной редакции) и в РГАЛИ (две машинописи окончательной редакции с авторской правкой). Разночтений относительно текста, опубликованного Г. Струве, очень немного, все они малосущественны. Остается только удивляться, что задержало публикацию пьесы еще в 1918 году, когда одновременно вышло много книг Гумилева, в том числе и переиздания «Романтических цветов» и «Жемчугов». 3 июня 1918-го года в газете «Ирида», №1, было объявлено, что Гумилев окончил работу над трагедией «Отравленная туника». Судя по этой дате, пьеса была, в основном, завершена еще до приезда в Россию, приехав, Гумилев только устранял отдельные «шероховатости». Судя по записям Лукницкого, уже в мае-июне он читал пьесу М. Лозинскому, К. Чуковскому, Ф. Сологубу, А. Энгельгардт, И. Куниной [669]. Возможно, «Отравленная туника» не была опубликована и поставлена в России, так как уже тогда ее трагический «византийский» сюжет из царской жизни мог вызвать у властей нежелательные ассоциации. Было ли это решение самого автора или чей-то совет — неизвестно. О том, как складывалась ее дальнейшая судьба, в свете рассказа Струве, можно только предполагать. Как было сказано выше, рукопись, возможно, при кратком аресте П. Лукницкого в июне 1929-го [670] года, попала к «органам» и переправлена затем с Артемьевым на Запад для решения неведомых нам стратегических задач. Помимо двух автографов пьесы, оставленных Б. Анрепу, Гумилев оставил в Лондоне бумаги с заметками, относящимися к его работе над «Отравленной туникой». Как пишет Струве, «эти заметки, при всей их отрывочности (а порой и неразборчивости), бросают любопытный свет и на драматический замысел Гумилева, и на методы его работы» [671]. Заметки эти позволяют погрузиться в обычно скрытую от глаз «кухню» поэта, оценить серьезность подхода Гумилева к процессу написания пьесы. Среди заметок — списки специальных терминов, географических и исторических обозначений, относящихся к византийской тематике, цитаты из исторических и летописных источников. Что-то из этого вошло в пьесу, что-то осталось невостребованным. Гумилев подробно анализирует каждое действующее лицо, рассматривая его, исходя из следующих пяти категорий: «Портрет, сделанный другим», «Апология», «Идиосинкразия», «Общение с другими», «Действие». Для каждого из действующих лиц он определяет свойственный ему язык, например, для главного героя, поэта Имра: «Слова быстрые, стиль резкий, полный антитез и риторических движений, восклицаний и прочее». Далее схематически определяется структура каждого действия. В 3-м томе Вашингтонского издания все эти бумаги воспроизведены, повторять их здесь — не имеет смысла. Теперь о последнем стихотворении парижского альбома, озаглавленном «Отрывок из пьесы», который все упорно считают отрывком из «Отравленной туники». В ПСС-5, например, оно приведено в разделе «Другие редакции и варианты», куда редко кто заглядывает. Для восстановления справедливости приведем его здесь полностью [672]: Так вот платаны, пальмы, темный грот, Которые я так любил когда-то. Да и теперь люблю… Но место дам Рукам, вперед протянутым как ветви, И розовым девическим стопам, Губам, рожденным для святых приветствий. Я нужен был, чтоб ведала она, Какое в ней благословенье миру, И подвиг мой я совершил сполна И тяжкую слагаю с плеч порфиру. Я вольной смертью ныне искуплю Мое слепительное дерзновенье, С которым я посмел сказать «люблю» Прекраснейшему из всего творенья. Стихотворение это опубликовано на положенном ему месте, то есть среди других стихов, только в трехтомнике «Гумилев-1991-1», с предположением в комментариях, что «по всей видимости, представляет собой вариант монолога Имра из трагедии «Отравленная туника»». Из-за того, что это «отрывок из пьесы», в Библиотеку поэта оно включено не было. В четырехтомнике Струве оно попало в 3-й том, в раздел «Дополнения ко второму тому, №415», но уже с таким комментарием: «Впервые в сборнике «К синей звезде», как последнее стихотворение в этом сборнике. По заглавию и по содержанию можно предположить, что этот «Отрывок» — первоначальный набросок монолога Царя Трапезондского перед самоубийством из «Отравленной туники»». Эта «предположительность» становится понятной, если исходить из того, что ничего близкого к сюжету этого стихотворения в пьесе нет. Как мне кажется, ответ на эту загадку, сам того не заметив, дал Лукницкий в «Трудах и днях» [673]: «М.Л. Лозинский сообщает, что Н.Г. говорил ему о «пьесе» в стихах о смерти автора, написанной в тот же альбом «К синей звезде». Как известно, в сборнике, изданном «Петрополисом», этой пьесы нет. М.Л. Лозинский». Целиком пьесы в альбоме и не могло быть, но там был «Отрывок из пьесы»! Гумилев рассказывал Лозинскому о другой пьесе в стихах, которую он, возможно, собирался написать — о смерти автора. Альбом, как я предполагаю, заполнялся в первые месяцы жизни в Париже. Позже Гумилев отказался от такого сюжета, взялся за «Отравленную тунику», а от неосуществленного первоначального замысла остался только «Отрывок из пьесы» в альбоме стихов. Все действующие лица пьесы «Отравленная туника», за исключением Имра, изъясняются без рифмы, не в стихах. А о «вольной смерти» мог говорить только Царь Трапезондский. Но, возможно, есть и другой, еще более простой ответ на вопрос о «пьесе в стихах». Вспомним, как представлял сам К. Мочульский сборник «К синей звезде»: «Настоящий сборник печатается с подлинника, хранящегося в Париже. Из тридцати четырех пьес, помещенных в этой книжке, восемь знакомы нам по Костру». Просто в то время иногда понятия «стихотворение» и «пьеса в стихах» — совпадали, попросту, были синонимами! Теперь о стиховедческих занятиях Гумилева в Париже. Если бы они ограничились только заметкой в газете о сборнике стихов Никандра Алексеева, об этом можно было бы здесь и не вспоминать. Но Гумилев занялся в Париже совершенно новым для себя направлением, начало которого можно найти в его январских письмах 1917 года [674]: «<…> Да, еще просьба: маркиз оказался шарлатаном, никаких строф у него нет, так что ты по Cor Ardens’у пришли мне схему десятка форм рондо, триолета. <…> Как я жалею теперь о бесплодно потраченных годах, когда, подчиняясь внушеньям невежественных критиков, я искал в поэзии какой-то задушевности и теплоты, а не упражнялся в писаньи рондо, ронделей, лэ, вирелэ и пр.» Гумилев решил заняться теорией поэзии — тем, что стало одним из главных его занятий после возвращения в Россию. Часть касающихся этого бумаг он также оставил в Лондоне. Вот что пишет об этом Г. Струве [675]: «Среди бумаг, оставленных Н.С. Гумилевым в Лондоне на хранение у Б.В. Анрепа и находящихся сейчас у Г.П. Струве, имеется написанный от руки листок с текстом на обеих сторонах. Это — план задуманной поэтом книги о поэтике, над которой он потом работал в России и которую хотел назвать «Теорией интегральной поэтики». <…> В основу книги должны были быть положены лекции, которые Гумилев после возвращения в Россию читал в Институте Живого Слова, в Доме Искусств и в других местах. <…>» Сам план Гумилева начинается с «Вступления»: «Что такое поэзия и что такое поэт. Синтез четырех искусств — ритмики, стилистики, композиции и эйдолологии. Значенье теории поэзии. Поэты и теория». Далее в плане более подробно расписываются эти направления. Среди бумаг, опубликованных Г. Струве и относящихся к этому направлению занятий Гумилева, были также сравнительная таблица богов в различных мифологиях и диаграмма, показывавшая соотношение между двенадцатью римскими богами и четырьмя «кастами» [676]. К диаграмме приложен набросок списка поэтов в соответствии с «кастами»: воин-клерк — Лермонтов; купец-пария — Некрасов, клерк-пария — Блок. Не подобраны были пары для воина-купца, воина-парии, купца-клерка. Для работы над этой классификацией составлены два списка русских поэтов — XIX и XX вв.: Пушкин, Лермонтов, Державин, Жуковский, Тютчев, Некрасов; Бальмонт, Брюсов, Блок, Сологуб, Кузмин, Ахматова, Мандельштам, Гумилев (у Гумилева — «Я»), Городецкий. О принципах гумилевской поэтики вспоминал его собеседник в пореволюционные годы А.Я. Левинсон [677]: «Я смог оценить тогда обширность знаний Гумилева в области европейской поэзии, необыкновенную напряженность и добротность его работы, а особо его педагогический дар. «Студия всемирной литературы» была его главной кафедрой; здесь отчеканивал он правила своей поэтики, которым охотно придавал форму «заповедей», столь был уверен в непререкаемости основ, им провозглашенных. <…> Не мистический опыт, а откровение поэзии в высоких образцах руководило им. Он естественно влекся к закону, симметрии чисел, мере; помнится, он принялся было составлять таблицы образов, энциклопедии метафор, где мифы всех племен соседствовали с исторической легендой; так вот, сакраментальным числом, ключом, было число 12: 12 апостолов, 12 паладинов и т. д.» Так что, и эти основы были заложены во Франции и Англии. Наконец, последний жанр, которым Гумилев достаточно много занимался в Париже — проза. Об одном написанном в Париже рассказе было сказано выше. Это посвященный Наталье Гончаровой рассказ «Черный генерал» [678], иллюстрирующий подаренную Гончаровой индийскую миниатюру. Сам по себе он — симпатичная миниатюра, не лишенная подтекста и самоиронии. Но помимо этого Гумилев вынашивал в Париже и Лондоне план создания большого романа, совершенно непохожего на то, что он делал ранее в прозе. Считается, что роман этот (или повесть) он начал писать еще до отъезда во Францию. По крайней мере, у Лукницкого в «Трудах и днях» есть такая запись, относящаяся к кануну отъезда из Петрограда [679]: «1917. 14 мая. В редакции «Аполлона» читал А.А. Ахматовой и М.Л. Лозинскому повесть «Подделыватели». Ночевал у Срезневских». Рукописи «Подделывателей» никто никогда не видел. Но если она первоначально и существовала, и Гумилев взял ее с собой в Париж, то во Франции замысел претерпел существенные изменения, и, скорее всего, о «Подделывателях» было забыто. Написанное во Франции и Англии начало другой повести (или романа) «Веселые братья» могло возникнуть только в той атмосфере все усиливающегося абсурда, к сожалению, граничащего с трагедией, которая, распространяясь из России, постепенно охватывала всех находившихся во Франции соотечественников. Никаких следов рукописи этой повести в России до сих пор не обнаружено, из чего приходится сделать вывод, что, скорее всего, все касающиеся ее материалы Гумилев оставил в Лондоне. Вот как ее представлял Г. Струве при публикации [680]: «Впервые — в книге «Неизданный Гумилев (Отравленная туника и другие неизданные произведения)», под редакцией и с вступительной статьей, биографическим очерком и примечаниями Г.П. Струве. Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1952, стр. 159—200. В этом издании напечатано по рукописи, полученной Г. Струве от Б. Анрепа вместе с другими материалами, оставленными ему Гумилевым при отъезде из Англии в Россию в апреле 1918 года. Как указывал Г. Струве во вступительной статье к «Неизданному Гумилеву», относившийся к «Веселым братьям» материал в полученном им гумилевском архиве состоял из: 1) 20-ти листков бумаги разного качества и формата с черновым автографом (местами с трудом поддающимся или даже совсем не поддающимся расшифровке) повести «Веселые братья»; 2) тетради в сафьяновом переплете (15 X 23 см) с набело переписанным началом первой главы «Веселых братьев» (неполная страница); и 3) 23-х страниц на машинке с копией — перевод (неизвестно кем сделанный, но, очевидно, в Лондоне) на английский язык начала «Веселых братьев» под заглавием «The Joyful Brotherhood»)». Попутно замечу, что переведенное английское название более соответствует авторскому замыслу, при «обратном» переводе повесть должна была называться — «Счастливое братство», и это, с моей точки зрения, точнее соответствует замыслу, по крайней мере, исходя из сохранившихся фрагментов повести. Ведь в повести Гумилев пытается представить себе «счастливую» жизнь в новой России, лозунгом которой большевики объявили слова — «Свобода, равенство и братство». Однако, не увидев ее воочию, продолжить и завершить написание повести в Англии он не мог. Возможно, что это и стало одной из причин того, что все относящиеся к ней бумаги он оставил у Анрепа. Предполагаю, что, покидая Европу в апреле 1918-го года, Гумилев не сомневался в возможности вернуться туда еще раз. Об этом говорят как оставленные у Анрепа бумаги, так и множество книг, коллекция восточных миниатюр и прочее (чего мы не знаем), оставленное в Париже — у Цитрона, Ларионова, возможно, в других местах. Говоря о замысле повести, Струве там же писал: «Странное впечатление производят самый замысел повести (до конца, правда, неясный) и ее персонажи — и то и другое ничуть не похоже на то, что мы находим в другой прозе Гумилева. Местами кажется, будто Гумилев кого-то и что-то хочет пародировать». Однако попытки Струве найти ей аналогии мне кажутся не убедительными, и повторять их я не буду. Понять ее замысел можно только пожив в России, или, по крайней мере, вдоволь пообщавшись с оказавшимися во Франции русскими соотечественниками, и именно это, как мне кажется, подтолкнуло Гумилева к началу работы над книгой. По-моему, только сейчас, в первом приближении, мы можем попробовать понять замысел Гумилева. О том, что Гумилев относился к своему «экспериментальному» произведению вполне серьезно, говорит сохранившийся у Струве перевод большей части написанного текста на английский язык. Очевидно, что он предполагал опубликовать отдельные главы в каком-либо журнале, скорее всего, в знакомом ему «The New Age». Может быть, в архиве этого журнала удастся найти другие фрагменты? Полагаю, что идея эта не была реализована исключительно в силу скоропалительности его отъезда, решение о котором, как будет сказано ниже, видимо, принимал не он сам. К счастью, перевод на английский язык позволил восстановить часть сохранившегося в единственном черновике русского текста — в черновике отсутствуют отдельные эпизоды, включенные в английский перевод. Понятно, что английский перевод не мог быть выполнен с этого, как указал Струве, трудночитаемого черновика. Следовательно, где-то может обнаружиться чистовая рукопись, предназначавшаяся для перевода. Но установить имя переводчика до сих пор не удалось. Если бы перевод был выполнен Борисом Анрепом (это первое, что приходит в голову), вряд ли бы он не сообщил об этом Глебу Струве при передаче хранившегося у него гумилевского архива, или в последующей переписке между ними. Как сообщил мне Майкл Баскер, он полностью убежден, что перевод «Веселых братьев» сделан не русским, а англичанином, так как в тексте присутствует ряд мелких ошибок в реалиях, которые не мог бы совершить ни один русский переводчик. Не исключено, что этим переводчиком мог быть упоминавшийся выше поэт, писатель и разведчик Морис Беринг. Так что, загадок относящихся к сохранившимся или утраченным фрагментам повести, — множество. Однако не сложно предположить, что могло дать толчок к ее написанию (или полному переписыванию первоначальных «Подделывателей»). Достаточно прочитать несколько фраз и сопоставить их с сухими документами, со всем тем, о чем было сказано выше, при описании пребывания Гумилева во Франции. Возьмем хотя бы самый первый абзац повести [681]: «В Восточной России вообще, а в Пермской губернии в особенности бывают такие ночи, когда полная луна заставляет пахнуть совсем особенно горькие травы, когда не то лягушки, не то ночные птицы кричат особенно настойчиво и тревожно, когда тени от деревьев шевелятся, как умирающие великаны. Если же еще шумит вода, сбегая по мельничному колесу, и под окном слышен внятный шепот двух влюбленных, то уснуть уж никак невозможно. Все это испытал на себе Н.П.Мезенцов, приехавший в этот глухой угол собирать народные сказки и песни, а еще более гонимый вечной тоской бродяжничества, столь свойственной русским интеллигентам». Тоска бродяжничества была, безусловно, свойственна Гумилеву. Однако в Пермской губернии он никогда не бывал. Мне неоднократно приходилось утверждать, что толчком для творческих замыслов у Гумилев, будь то стихи или проза, как правило, служили личные впечатления. Можно подумать, что начало «Веселых братьев» опровергает эту мысль. Однако документы в РГВИА все ставят на свои места. В хранящейся в архиве рукописи «О русских бригадах во Франции» можно найти такую фразу [682]: «Вначале думали о численности в 100 тысяч, потом ограничились 4-мя бригадами, случайно сформированными. Например, бригада, формировавшаяся в Москве, была отправлена через Владивосток, кругом Индии, через Суэцкий канал, мимо Греции, в Марсель. <…> А бригада из Екатеринбурга проехала через Москву и кругом Англии в Брест. <…> Щеголеватые солдаты московского района, из коих была сформирована 1 бригада, свысока относились к пермякам, составлявшим ядро 3-й бригады. Офицеры составлялись случайно, попав со всех концов Российского фронта и тыла». Гумилеву много приходилось общаться, разговаривать с русскими солдатами, в основном, как раз — с «лояльными» крестьянами, выходцами из Пермской губернии. Оттого действие повести он и перенес в эти края. В архиве обнаружились недошедшие по цензурным соображениям письма простых солдат себе на Родину, в Пермскую губернию, написанные в Париже. Пара таких писем от унтер-офицера Василия Мамонтова приведена в Приложении 1. По ним можно судить, какая сумятица царила в головах, и прототипом одного из героев повести Вани, замороченного «агитатором» Митей, каких в русских бригадах оказалось множество, вполне мог быть Вася Мамонтов. И таких, как он, во Франции было большинство. Думаю, именно в этой нише следует искать основной мотив повести Гумилева. Приведу еще одну цитату из повести, подтверждающую эту мысль. Встретив на пути двух «французов», Ваня просит их рассказать о Франции: «<…> — Да что Франция, — начал Филострат. — Стоит себе на месте, никто ее не унес. Народ там только очень дурашливый, своего языка не знают. Мы говорим им правильно, как в книжке написано, а они не понимают и такое лопочут, что не разберешь. Намаялись мы с ними. <…> — Как же вы ехали? Ведь больших денег стоит дорога? — спросил Ваня. — Деньги были нам дадены, только мы на билеты их не гораздо тратили, вино уж там очень хорошо, а ехали больше зайцами. Подойдешь к кондуктору, скажешь ему, что, мол, русский, союзник, да бутылку из-под полы покажешь, он и устроит либо в товарном, либо в служебном отделении, а потом и сам придет вина попить да о России потолковать, почему, дескать, у нас царь да как лошадь по-русски называется. Любят они это». Практически, не было попыток проанализировать повесть «Веселые братья». Однако недавно вышло интересное исследование А. Эткинда «ХЛЫСТ. Секты, литература и революция». И там предпринимается такая попытка, с моей точки зрения, весьма удачная, не противоречащая тому, что изложено выше. Особенно, если придерживаться той точки зрения, что большевистская пропаганда сродни сектантству. Как мне кажется, автор не должен возражать против такого сопоставления. Вот как трактует повесть «Веселые братья» А. Эткинд [683]: «Сюжет ухода в народные странники, который приобрел новое значение после ухода Толстого, пытался развить Николай Гумилев в своей предсмертной повести «Веселые братья». Ее герой — еще один Слабый Человек Культуры по фамилии Мезенцов. Он этнограф, багаж которого состоит из папирос и томика Ницше. Он даже занимался психоанализом, но ему ничто не помогает. «Гонимый вечной тоской бродяжничества, столь свойственной русским интеллигентам», герой бессилен противостоять народному соблазну. Так он сталкивается со зловещей сектой, давшей свое название повести. Герой, занятый любительской этнографией в народническом духе, становится свидетелем убийства; жертвой его стала очаровательная крестьянка, соблазненная коварным сектантом и покончившая с собой. «Мужики только с виду простые», — говорит новый Демон; «но Мезенцов слишком мало знал Россию, чтобы придавать значение этому пришельцу». В своем странствии (дело происходит в Пермской губернии, в самой середине чудесной страны) путники сталкиваются с чудесами, напоминающими то «Повесть о Петре и Февронии», то «Мертвые души». «Веселый брат» ходит по стране на манер бегунов, осуществляя связь и надзор по заданию общины, а по пути соблазняет девок только для того, чтобы их оттолкнуть: в тексте рассыпаны указания на его гомоэротические интересы. Мезенцов, в очередной раз поддавшись чаре, идет с ним искать «город, которого нет на карте и который поважнее будет для мира, чем Москва». Замысел сектантов тонок, хотя и труден для исполнения: чтобы вернуть людям веру в Бога, надо вселить в них недоверие к нынешним их учителям. Для этого сектанты находят деревенского чудака, любителя науки и обеспечивают его ретортами — пусть опровергнет законы химии; и пишут «Слово о полку Игореве» и подкидывают ученым, чтобы опровергнуть законы истории. Ученые люди верили, сами же сектанты тем временем «целыми неделями ржали да плясали». Секта, придуманная Гумилевым, осуществляет самые фантастические обвинения, которые адресовались тайным обществам на протяжении веков. Веселые братья ставят своей задачей возврат мира к порядкам средневековья. Русская экзотика показана здесь как альтернатива всем ценностям Нового времени. Эта притча о России и Просвещении осталась недописанной, и вряд ли только по внешним причинам. Похоже, автор так и не смог решить, на чьей стороне его интересы — злых, но сильных и веселых братьев или доброго, но беспомощного интеллигента». Предполагаю, что Гумилев все-таки был на стороне «беспомощного интеллигента», но, безусловно, многие вопросы, оставаясь в Лондоне, — решить для себя он не мог. События в России развивались столь стремительно, что, сидя в Париже и Лондоне, уследить за ними, а тем более их осмыслить, было невозможно. И это, я думаю, оказалось главной причиной того, что процесс ее написания затормозился и был отложен, как думал тогда автор, до «лучших времен», которых дождаться было уже не суждено. Также не успел Гумилев поместить начальные главы в английской прессе. Все материалы он оставил у Бориса Анрепа, надеясь еще вернуться к ним. Теперь мы должны попытаться разгадать загадку этой странной прозы поэта. Таковы творческие итоги его десятимесячного пребывания во Франции и Англии. Зная, что впереди ему предстоит пересекать границу уже не союзнической державы, а, скорее, враждебной по отношению к своим бывшим союзникам России, Гумилев захватил с собой минимальное количество бумаг, причем большинство из них «продублировал», оставив у Бориса Анрепа. Взял он с собой лишь несколько десятков, вряд ли больше сотни, листов с автографами стихотворений, рукопись «Отравленной туники», возможно, наброски книги по поэтике. Все. Как говорится, пора было упаковывать чемодан, саквояж, портфель с бумагами [684]. ВОЗВРАЩЕНИЕПодведя творческие итоги, попытаемся понять, во-первых, почему и с какими мыслями Николай Гумилев мог отправиться в Россию, а во-вторых, как, каким путем и когда он туда попал. Еще в марте Военный Агент граф Игнатьев в приказе дал разъяснение, как можно возвратиться в Россию. Заметьте, что распоряжение это не касалось солдат, они его тогда мало интересовали. Распространялось оно только на офицеров, следовательно, касалось и Гумилева [685] : «Военный агент во Франции. 19 марта 1918. №768-771. Начальнику Русской Базы во Франции. В настоящее время имеется два способа для офицеров возвратиться в Россию: 1) На казенном пароходе прямого сообщения Франция — Мурманск. Проезд этот производится на казенный счет. По сведениям Французской Военной Миссии Мурманская железная дорога работает регулярно. Время отправления парохода еще неизвестно и будет сообщено дополнительно. Желающим ехать на Мурман необходимо теперь же подать рапорт по команде, с приложением, упомянутым ниже. 2) Желающие возвратиться в Россию могут отправиться также и одиночным порядком, через Англию, Норвегию, Швецию, но исключительно на свой счет. В обоих случаях (п.1 и 2) в рапорте должно быть указано имя, отчество офицера, и какой путь следования избран офицером. К рапортам должны быть приложены 8 фотографических карточек размером 4 х 4, причем на двух фотографиях (на лицевой стороне) должна быть собственноручная подпись офицера на русском языке и на шести на французском языке. О перемене адреса мое Управление должно быть извещено заблаговременно, дабы офицер мог быть своевременно уведомлен о времени отправки парохода. Генерал Игнатьев». Хотя распоряжение касалось офицеров во Франции, оно распространялось и на откомандированного в Англию Гумилева. Других путей не существовало. Если вспомнить первый день пребывания Гумилева в Лондоне, то исходя из сохранившейся у него расписки Ермолову, поначалу ему был предписан второй путь. Ничто не мешало ему отправиться сразу, так как до Бергена пароходы ходили достаточно регулярно. Но как я предполагаю, инициатором довольно длительной задержки был не Гумилев, а Военный Агент Ермолов. В отличие от Игнатьева, Ермолов был генералом старой закваски, многие годы проживавшим в Англии, всегда остававшимся верным принятой присяге и союзникам вступившей в войну России. При этом по своей должности Военного Агента он должен был заниматься контрразведкой, и в этом качестве был непосредственно связан с одной из старейших и опытнейших разведывательных служб в мире — с «Интеллидженс сервис». Вспомним, что до своего отъезда в Англию в 1907 году Ермолов был, фактически, поставлен во главе всей военной разведки России. Англичане, безусловно, были в курсе этого. После большевистского переворота весь отлаженный механизм военной разведки не мог быть не нарушен. Теперь, когда Россия, нарушив все договора, заключила сепаратный мир с Германией, необходимо было восстанавливать всю разведывательную структуру. Тем более, для Англии и Франции бывшая союзническая империя превратилась из союзника в противника. Было бы, по меньшей мере, наивно думать, что опытнейшая английская разведка не использовала для решения этой задачи всех имеющихся у нее ресурсов. Даже мне, дилетанту, никогда, слава Богу, не имевшему дело с «органами», понятно, что в той ситуации самым естественным путем было привлечь верных союзникам русских офицеров, готовых вернуться в Россию. Но ситуация в России долгое время после ноября оставалась крайне неопределенной. Отвлечемся ненадолго и напомним, как хронологически шли переговоры России с Германией. Первый этап переговоров в Брест-Литовске шел с 22 по 28 декабря 1917 года (все даты — по н. ст.). Не будем вникать в их суть. Затем переговоры шли с 9 января по 10 февраля 1918 года. Германия отклонила предложение допустить к ведению переговоров делегацию Советской Украины и 9 февраля подписала сепаратный договор с Украинской Центральной радой, по которому последняя обязалась поставить Германии за военную помощь Раде в борьбе с Советской властью большое количество хлеба и скота. Этот договор дал возможность немецким войскам оккупировать Украину. Наконец, последний этап начался 1 марта, и в 5 часов 50 минут вечера 3 марта 1918-го года правительство Ленина подписало позорный Брестский мирный договор. На западе от России отторгалась территория в 1 млн. кв. км, включая Украину, Прибалтику и большую часть Белоруссии, на Кавказе к Турции отходили Карс, Ардаган, Батум. Россия обязывалась демобилизовать армию и флот. По дополнительно подписанному в Берлине русско-германскому финансовому соглашению она обязана была уплатить Германии контрибуцию 6 млрд. марок. Договор был ратифицирован 15 марта 1918 Чрезвычайным четвертым Всероссийским съездом Советов. Подписанный договор был одобрен германским рейхстагом 22 марта и ратифицирован 26 марта 1918 года германским императором Вильгельмом II. Безусловно, что в течение всего этого времени британская разведка пристально следила за ходом переговоров и ждала их окончательного результата, чтобы начать предпринимать какие-либо действия со своей стороны. С моей точки зрения, именно по этой причине Гумилева оставляли в Лондоне до конца марта. Исходя из этого, становится понятным, почему сохранилось так мало свидетельств его пребывания в Лондоне. Думаю, что и здесь инициатива исходила не с его стороны. Кроме отправленного Ларионову и полученному (через Военного Агента!) письма от Льдова — никаких контактов с «внешним миром». Причем эти два письма относятся к самым первым дням его пребывания в Лондоне, после чего, можно предположить, с ним была проведена «беседа», ему было дано указание — не «засвечиваться». Больше не было никаких писем — ни домой, ни в Париж, хотя, казалось бы, если бы он был свободен от неких взятых на себя обязательств, совершенно естественным было отправить весточку о себе домой или хотя бы парижским друзьям. Ведь летом из Лондона он отправил в Петроград два письма, Ахматовой и Лозинскому. Тогда его в этом не ограничивали, но, как ранее говорилось, есть основания предполагать, что уже в июне 1917-го года его имя было «взято на заметку» в «Интеллидженс сервис». Гадать при отсутствии документов — непродуктивно, обязательно попадешь «пальцем в небо». Поэтому я не буду делать никаких предположений относительно того, какие задания или указания были ему даны перед возвращением в Россию. Но то, что его имя попало в картотеку, сомнений не вызывает. У меня есть прямое свидетельство этого. Самому мне не приходилось обращаться в соответствующие английские органы, но мой коллега, один из лучших специалистов по литературе «Серебряного века», стремящийся всегда к точности, часто бывавший в Лондоне, однажды попытался выяснить, какие относящиеся к Гумилеву документы хранятся в Англии. Он получил ответ приблизительно следующего содержания: указанное лицо в картотеках значится, однако срок давности по затребованным документам, согласно английским законам, составляет порядка 100 лет. Ждать осталось не так долго, менее 10 лет. Фактически, в опубликованных протоколах его допросов в августе 1921 года Гумилев подтверждает сказанное выше. Упоминавшийся ранее «профессиональный контрразведчик» Василий Ставицкий в своей книге приводит факсимильное воспроизведение первого протокола допроса Гумилева, от 9 августа 1921 года [686]. Автограф Гумилева, после заголовка на бланке «Показания по существу дела», начинается словами: «Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщивший, что привез мне поклон из Москвы…» И в последующих протоколах Гумилев постоянно ссылается на то, что к нему кто-то пришел. Я не буду углубляться в суть его показаний, пытаться ответить на набивший оскомину вопрос: виноват — не виноват. Важно здесь обратить внимание лишь на одно — где-то было хорошо известно, что именно к нему можно и нужно обратиться. Предполагаю что это «где-то» находилось в Лондоне. Книгу Ставицкого использовать в качестве источника информации по заявленной автором в заголовке теме — «Тайна жизни и смерти Николая Гумилева», совершено бессмысленно. Но недавно мне в руки попало издание, претендующее на серьезность: «Исторические чтения на Лубянке: 1997 — 2007» [687]. Сборник статей, посвященных работе спецслужб. Есть там статья, посвященная «Таганцевскому делу», доктора исторических наук В.С. Измозика «Петроградская боевая организация (ПБО) — чекистский миф или реальность?» [688], но касаться ее здесь не буду. Интерес вызвала публикация доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Б.А. Старкова «Мифы «Большого дома» и Лубянки». Задача, которую ставил перед собой автор, мне очень близка — желание развеять мифы. Позволю себе процитировать начало статьи, с посылами автора не могу не согласиться [689] : «В обеспечении национальной, общественной и государственной безопасности большое значение играет разумное использование уроков прошлого. Однако уроки исторического опыта предшествующих поколений чаще всего бывают не востребованы. <…> При этом каждое поколение должно выяснить, какие ситуации являются сходными. Однако, чтобы это сделать, надо иметь достоверную информацию о реальных исторических событиях. Если такой информации нет или она скрывается, например, по политическим или морально-нравственным мотивам, то опыт предшествующих поколений оказывается бесполезным. Учитывая, что люди совершали и продолжают совершать одни и те же ошибки, можно сделать вывод, что или они не знают историю, либо история, которую они знают, ненастоящая. Она в значительной степени мифологизирована и отражает лишь представления отдельных личностей, политиков или ученых. Это в особенности касается советского периода отечественной истории. <…> Советские мифологемы были призваны идеологически обеспечить новую российскую государственность. В основе каждого мифа или легенды лежали реальные исторические события. <…> Существуют исторические фальсификации (мифологемы) осуществляемые по двум причинам. Во-первых, потому что, описывая события, каждое поколение историков непроизвольно добавляет от себя некоторые неточности, которые, постепенно накапливаясь, значительно искажают реальные факты. Во-вторых, потому что во многих случаях невыгодно рассказывать правду, например, по политическим или морально-нравственным причинам. В таком случае история переписывается заново в соответствии с пожеланиями заказчиков. Так получилось с советской историей, которая переписывалась сначала в соответствии с заказом правящей партии, а потом группировки во главе с И.В. Сталиным. Соответственно органы и учреждения, призванные обеспечить национальную и государственную безопасность новой российской государственности и работавшие в режиме строжайшей секретности, воспитывались на этих мифах и сами активно творили мифологемы новой российской государственности советского типа». Далее автор приводит ряд примеров таких мифологем, в одном из которых он обращается к заграничной деятельности Н.С. Гумилева. Приведу эту часть полностью. Не могу не согласиться с отдельными тезисами автора, однако вызывает сожаление два момента: во-первых, борясь с «мифологемами», автор в коротком отрывке ухитряется создать сразу несколько своих собственных «мифологем»; во-вторых, я убежден, что есть радикальное средство борьбы с тем, что Старков называет «мифологемами» — это, как минимум, ссылка на документы (хотя в нашей истории встречаются и фальсифицированные документы). Увы, в публикации нет ни одной ссылки, что существенно снижает ценность сведений, сообщенных доктором исторических наук [690]: «Мифом «Большого дома» является трагическая судьба якобы совершенно необоснованно репрессированного замечательного русского поэта Николая Гумилева. При этом совершенно отрицается его участие в реально существующей контрреволюционной «Петроградской боевой организации» профессора Таганцева, а также в выполнении специальных заданий английской разведывательной службы в Петрограде в 1920-1921 гг. На самом деле высокопрофессиональный русский разведчик Н.С. Гумилев во время Великой войны выполнял ряд секретных заданий руководства русской секции Междусоюзнического разведывательного бюро Антанты. В частности, он курировал деятельность российской разведывательной организации по линии работы в масонских ложах Европы. В 1918 г., после заключения Брестского мира он был направлен в Англию для передачи части архива Русской секции Междусоюзнического разведывательного бюро Антанты. Очевидно, там он и получил задание вернуться в Петроград для восстановления деятельности английской разведывательной резидентуры, изрядно потрепанной советскими чекистами в 1918-1919 гг. Контрреволюционная и антисоветская деятельность Гумилева в эти годы сомнений не вызывает, а вот его работа и связь с английской разведывательной службой нуждается в специальном дополнительном изучении. В любом случае, репрессирован он был на вполне законных основаниях, а выдумки о заступничестве А. М. Горького не более чем еще один миф». Первый «миф» автора бросается в глаза сразу: заступничество Горького не миф, а подшитый к делу В.Ч.К. №214224 «ПБО, Соучастник, Гумелев Н.С. (sic!), Арх. № в 382 томах» документ с подписью Горького (а также Волынского, Лозинского, Харитона, и других). Второй миф: то, что Гумилев «после заключения Брестского мира был направлен в Англию для передачи части архива Русской секции Междусоюзнического разведывательного бюро Антанты <…> для восстановления деятельности английской разведывательной резидентуры, изрядно потрепанной советскими чекистами в 1918-1919 гг.» (!!!) Все с точностью до наоборот — Гумилев вернулся в Россию сразу после заключения Брестского мира, и более в Англии не был. Но полностью согласен с автором в том, что «его работа и связь с английской разведывательной службой нуждается в специальном дополнительном изучении». Что касается «курирования деятельности российской разведывательной организации по линии работы в масонских ложах Европы» — думаю, это еще один миф. Но, возможно, у Старкова есть на этот счет какие-либо документы? Хотелось бы посмотреть. Какое бы задание перед отъездом из
Лондона в Россию Гумилев ни получил, не думаю, что это его особо вдохновляло и
радовало. Не тот у него был характер, чтобы заниматься «конспиративной
деятельностью». Но в Лондоне он мог согласиться принять эту «игру». Для него
это было естественнее, чем оказаться просто эмигрантом, в чужой стране. Никогда
он не произносил громких слов о любви к Родине, но «золотое сердце России» в
груди его — билось.
И его главным оружием всегда оставалось «Слово», которое «лучше
хлеба питает нас», он никогда не забывал, «что осиянно только слово средь
земных тревог». Россия нужна было Гумилеву, только
там он мог реализовать свое «Естество» — так он назвал написанное вскоре после
возвращения стихотворение [691]:
3 апреля Николай Гумилев
получил от Российского генерального консульства Временного правительства в
Англии (другого в Лондоне тогда не было) заграничный паспорт №174-442, удостоверяющий,
что «русский гражданин Н.С. Гумилев, писатель, возвращается из-за границы в
Россию» [692]. Пароходы в Мурманск ходили редко.
Напомним, что в
марте 1918 года с военных судов Антанты, которые еще до Февральской
революции встали на якорь в Кольском заливе, был высажен на берег
вооруженный десант, Мурманск был занят английскими
войсками, однако англичане не чинили особых препятствий проезду через порт в
Петроград русских военнослужащих. Там постоянно присутствовали представители
советской власти для проверки документов и выдачи разрешений на посадку в
идущие в Петроград железнодорожные составы. Весной к тому же появилось
уточнение правил проезда военнослужащих в Россию [693]:
«Первый способ сообщения — на Мурманск, а по открытию навигации на Архангельск,
в данное время единственный сравнительно верный способ добраться до России, но
пароходы ходят очень нерегулярно, сроки отправления постоянно откладываются, и
количество пароходов, берущих пассажиров, весьма ограничено. Отправка этим
путем происходит большими партиями, причем о прибытии партии предупреждают
Мурманск и там к данному сроку подготавливают поезда для дальнейшего следования
вглубь России. По моим сведениям на Мурмане в этом отношении полный порядок и
пассажиры там не задерживаются. Второй способ — через Норвегию и Швецию,
годится только для едущих в Финляндию, так как шведы, вследствие положения
Финляндии, дают разрешение на въезд в Швецию только едущим с Финляндским
паспортом и визой, во избежании дальнейшего скопления русских в Швеции». Так
что для возвращения в Россию для Гумилева подходил только «первый способ». Удалось точно установить, когда и на
каком пароходе возвращался Николай Гумилев в Россию. В первых числах апреля
канцелярия Игнатьева объявила офицерам, желающим возвратиться из Франции в
Россию [694]: «По справкам, наведенным Полковником Кроссом в 4-м Bureau
des transport (транспортное
управление в Англии), пароход действительно уходит из Англии 6-го или 8-го
сего месяца. Название парохода «Handland». Пароход это тот, о котором
писалось 1-ым Bureau Serve (Бюро обслуживания) Военному Агенту 31-го марта за
№8027. В этом письме указывалось, что Английским Правительством на пароходе Handland мест для офицеров не предоставлено.
Игнатьев». Но это касалось только тех офицеров, которые находились во Франции.
Как следует из сохранившегося попутного стихотворного рассказа Вадима Гарднера,
рейс парохода «Handland» был рассчитан на перевозку из Франции только раненых
солдат и инвалидов. С ними, видимо, было отправлено только небольшое число
военного персонала, пребывавшего тогда в Англии. Транспортное судно, не
рассчитанное на массовую перевозку людей, по дороге из Англии в Мурманск должно
было зайти во французский порт Гавр, чтобы забрать больных солдат и военные
грузы. Были еще два «кандидата» на отправку Гумилева, транспортные военные
русские корабли до Мурманска «Novgorod» и «PORTA» [695],
которые также предполагалось отправить в начале апреля. Однако вскоре в Париж пришло
уточнение [696]: «Инструкции по переводу русских войск
в Россию. №1053 от 30.3/12.4 1918 г. В Российское посольство. Полковнику
Соколову для сведения. Предполагаемого отхода парохода «Порта» из Англии в
Россию не будет. Пароход же «Новгород», который уйдет в скором времени из
Англии, грузовой, малой величины, и на нем пассажиры не допускаются». Из приведенного далее документа
вытекает, что, когда 12 апреля пришло это уточнение, Гумилев уже плыл по
Северному морю. Как
пишет Глеб Струве, среди оставленных Гумилевым в Лондоне бумаг «сохранился
датированный 10 апреля
счет за комнату, которую он занимал в скромной гостинице неподалеку от
Британского музея и теперешнего здания Лондонского университета, на Guilford Street» [ 697].
Счет этот (за 6-10 апреля 1918-го года)
выписан в ныне не существующей гостинице «Turner's Hotel» [698]. Видимо, в последние недели своего пребывания в Лондоне
Гумилев перебрался из отеля «Империал» в близко расположенную, более скромную
гостиницу. Улица Guilford
Street вливается в площадь Russell
Square. По карте
Лондона отель «Империал»
выходит главным фасадом на площадь, а боковым — на улицу Guilford Street.
Никаких
других кораблей, кроме «Handland», из Англии на Мурманск в начале апреля не отправлялось, и отчалил он от английских берегов 10 или 11 апреля. Накануне отплытия Гумилев
простился с Борисом Анрепом. О последних днях пребывания Гумилева в Лондоне
Анреп вспоминал:
«<…>
Гумилев, который находился в это время в Лондоне и с которым я виделся почти
каждый день, рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все
напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было» [699]. «Мне вспоминается день, когда он
уезжал из Англии в Россию после революции. Я хотел послать маленький подарок
Анне Андреевне. И, когда он уже укладывал свой чемодан, передал ему большую
редкую серебряную монету Александра Македонского и несколько ярдов шелкового
матерьяла для нее. Он театрально отшатнулся и сказал: «Борис Васильевич, как вы
можете это просить, ведь она все-таки моя жена!» Я рассмеялся: «Не принимайте
моей просьбы дурно, это просто дружеский жест». Он взял мой подарок, но я не
знаю, передал ли он его по назначению, так как я больше ничего об этом не
слыхал. С другой стороны, мы конечно много раз говорили о стихах А. А. Я
запомнил одну фразу его: «Я высоко ценю ее стихи, но понять всю красоту их
может только тот, кто понимает глубину ее прекрасной души». Мне, конечно, эти
слова представились исповедью. Понимал ли он «всю красоту ее души» или нет,
осталось для меня вопросом. <…> » [700]. Конечно, Гумилев все передал Ахматовой. Серебряная монета,
на самом деле, оказалась редкой. 24 января 1925 Ахматова показала ее
Лукницкому, но имени Анрепа называть не стала [701]:
«Показала мне древнюю серебряную монету с профилем... и сказала, что Эрмитаж
просил ее завещать ему эту монету — таких только две в Эрмитаже». Скорее всего, последними, с кем
простился Гумилев, были Борис Анреп и, возможно, его семейство: жена Хэлен
Мэйтланд и их дети — дочь Анастасия (1912 г.р.) и сын Игорь (1914 г.р.). Но,
как писал Гумилев Ахматовой 21-го июня 1917-го года, «семья его в деревне, а он
на службе или в кафе». Однако зимой они могли жить и в городе. Прожив долгую
жизнь в Лондоне, Анреп не забывал тех, кто остался в России. Самое знаменитое
его произведение — напольные мозаики на «парадной» лестнице Национальной
галереи в Лондон (1928—1952). Среди них наиболее известно у нас аллегорическое
изображение «СОСТРАДАНИЯ» («COMPASSION»), запечатлевшее образ Анны
Ахматовой [702]. Рядом с нею, в той же композиции, Борис Анреп
изобразил английскую поэтессу Эдит Ситвелл, но эта мозаика получила название,
увековечившее, как я считаю, образ друга художника, поэта Николая Гумилева: на
полях мозаики написано — «SIXTH SENSE». «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» — название
одного из самых знаменитых стихотворений Гумилева из его последнего сборника
«Огненный столп» [703].
Как пишет Глеб Струве, «уезжая,
Гумилев оставил Анрепу ряд своих не напечатанных произведений, записных книжек,
документов, относившихся к его службе в Париже, свои офицерские погоны и т. д.
Все это Анреп подарил мне еще до моего переезда в Америку, и этот материал был
использован мною для моего издания под названием «Неизданный Гумилев» и позже
для собрания сочинений Гумилева в четырех томах» [704].
О том, что из написанного Гумилев оставил во Франции и Англии, а что взял с
собой — было сказано выше. Итак, 10
или 11 апреля пароход «Handland» отчалил от английских берегов и
спустя короткое время сделал остановку на 1-2 дня в знакомом уже Гумилеву
французском порте Гавр. Воспользовавшись этой остановкой, Гумилев в последний
раз посетил Париж и попрощался с друзьями. Об этом сказано в воспоминаниях
Михаила Ларионова [705]: «Мы
с Николаем Степановичем видались каждый день почти до его отъезда в Лондон.
Затем он приезжал в Париж на 1—2 дня перед отъездом в Петербург, куда
отправлялся через Лондон же. <…> А последний раз в H Следовательно, остановился Гумилев в этот последний раз рядом с семейством Ларионова и Гончаровой, в той же гостинице Castille. Удалось «расшифровать поначалу не совсем понятную последнюю фразу. Ларионов говорит, что Гумилев «несколько раз ходил в картье Пантеона, на улицы Ульм, Гайлюсак, Муфтар». «Картье Пантеона» — это гостиница, расположенная в Латинском квартале, по адресу — Гайлюсак, 52 (правильно — Гэ-Люссак, 52, Rue Gay-Lussac). В этой части Парижа, в Латинском квартале, Гумилев постоянно бывал, когда жил в Париже в 1906-1908 годах. По улицам Ульм (Rue d'Ulm), Муфтар (Rue Mouffetard) ему много приходилось ходить. Рядом расположены Сорбонна, Пантеон, Люксембургский сад, Ботанический сад (Jardin des Plantes), где жил его приятель Деникер, в доме которого он часто бывал. Все это были его любимые с юности места Парижа, куда он, видимо, ходил прощаться.

Париж, прощание: Гэ-Люссак, 52; Муфтар; Ульм, в ее конце - Пантеон.
Попрощался он, видимо, и со своей «Синей звездой» — Еленой Дю-Буше, и, как вспоминал Ларионов, с кем-то еще. Большинство собранного за месяцы жизни в Париже, — книги, коллекцию восточных миниатюр, он оставил у М. Ларионова и А. Цитрона. В своем письме М. Ларионову от 30 сентября 1919 года А. Цитрон писал [707]: «Дело у меня такое: где Гумилев? Его вещи у меня — и ей Богу лучше бы он мне оставил сына! Я эти вещи перевозил в Лион (в 1918 г.) и обратно. Раз — ящик упал с воза и стекла побиты. Не хочешь ли ты взять на хранение? Я к тому помирать собираюсь». Думаю, у Цитрона побились стекла в рамках собранных Гумилевым картин и миниатюр, и он предложил их взять Ларионову. Взял ли Ларионов у Цитрона картины и вещи — неизвестно. Уезжая, Гумилев понимал, что предстоит путь в неизвестность, в разоренный Петроград, и, наверное, предполагал, что в Париже все сохранится лучше, надеясь вернуться сюда когда-нибудь еще раз. Он не мог тогда предугадать, что ждет его впереди. Надо было
возвращаться в Гавр, чтобы плыть в Россию. Скорее всего, о его плаванье до
Мурманска было бы ничего неизвестно, но нам повезло. В одной каюте с ним плыл бывший соратник по «Цеху
поэтов» Вадим Гарднер, описавший это плаванье в стихотворном дневнике. С
Гарднером мы уже встречались в Лондоне, когда Гумилев останавливался там по
дороге во Францию. Хотя в поэме Гарднера Гумилев упоминается лишь однажды, но
она достаточно подробно и реалистично отображает все плаванье от Гавра до
Мурманска, продолжавшееся 12 суток, поэтому приведем ее целиком [708]
Во время плаванья Гумилеву пришлось
еще раз встретиться с солдатами из лагеря Ля Куртин. В своем поэтическом
дневнике Гарднер больше внимания уделил инженеру Лаврову, родственнику
знаменитого революционера-народника П.Л. Лаврова (1823 — 1900), автору «Русской
Марсельезы»
— самой популярной русской революционной песни «Отречемся от старого мира!».
Думаю, и Гумилеву, приятелю В. Шилейко, еще до войны начавшему переводить
«Гильгамеш», было интересно с ним пообщаться, как с любителем «ассирийской
клинописи». Вернувшись в Петроград, Гумилев почти сразу приступил к новому
переводу «Гильгамеша». Написанное В. Шилейко «Введение к переводу Н. Гумилева»
подписано 17 июля 1918 года [710].
На берег путешественники высадились утром 24-25 апреля и сразу же, по недавно
построенной железной дороге, «помчались к Невским берегам». «Труды и дни»
Лукницкого дополняют это описание возвращения Гумилева в Россию некоторыми
деталями, почерпнутыми, видимо, из воспоминаний очевидцев его приезда [711] :1918. С 4 (?) апреля по конец апреля или начало мая.
В пути из Лондона в Петроград через Нью-Кастль (10 апреля) и Мурманск.
Трудности с паспортом Временного правительства при въезде в Советскую Россию.
Примечание. В Мурманске купил оленью доху. А.А. Ахматова, М.Л. Лозинский,
заграничный паспорт». Как сказано выше, Гумилев отплыл из Англии, скорее всего,
10 апреля. Лукницкий неточно называет английский город Ньюкасл-апон-Тайн (англ. Newcastle
upon Tyne; название
обычно сокращают до «Ньюкасл»), порт на северо-восточном побережье
Великобритании, в графстве Тайн и Уир, в Англии, почти на границе с
Шотландией. Вполне возможно, что именно из этого порта отплыл транспорт «Handland». Ведь еще 7 октября 1917 года Рапп
докладывал, что отправка кораблей в Россию может быть осуществлена только с
севера Англии и из Шотландии. Тогда англичане в категорической форме отказались
пропустить русские войска через свою территорию по железной дороге через
Англию, с юга на север. Возможно, по этой причине в апреле 1918-го года
отправлявшийся из Ньюкасла транспорт «Handland» вынужден был зайти в Гавр, чтобы
взять на борт раненых русских солдат. Это позволило Гумилеву напоследок попасть
в Париж, проститься со всеми. Что касается оленьей дохи — это неизменный атрибут описаний облика Гумилева в голодном и холодном революционном Петрограде [712]: «На эстраде, выскользнув из боковой дверцы, стоял Гумилев. Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе, с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид. <…> На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. «Живое Слово» очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. <…> Гумилев пришел вовремя. Он всегда был очень точен и ненавидел опаздывать. — Пунктуальность — вежливость королей и, значит и поэтов, ведь поэты короли жизни — объяснял он, снимая свою оленью доху и ушастую шапку, известную всему Петербургу. В те дни одевались самым невероятным образом. Поэт Пяст, например, всю зиму носил канотье и светлые клетчатые брюки, но все же гумилевский зимний наряд бил все рекорды оригинальности. <…> — Я сегодня получил академический паек. И сам привез его на саночках, — рассказывает он. — Запрягся в саночки и в своей оленьей дохе чувствовал себя оленем, везущим драгоценный груз по тайге. Вы бы посмотрели, с какой гордостью я выступал по снегу. <…> Но от ответа на вопрос, почему выбросился из окна брат Мандельштама, меня избавило появление Гумилева, шествующего в своей развевающейся оленьей дохе с рисунками по краю и в оленьей же шапке. В Дом Литераторов, как и мы». Однако не только мурманская доха Гумилева производила неизгладимое впечатление на окружающих в холодном революционном Петрограде. Из Лондона он привез фрак, который также часто фигурирует в мемуарах [713]: «— А у меня вот имеется лондонский фрак и белый атласный жилет — он самодовольно взглянул на меня. <…> Гумилев стал заблаговременно готовиться к торжественному выходу. Фрак и жилет, покоившиеся в сундуке под густым слоем нафталина, были тщательно вычищены и развешены на плечиках в не отапливаемом кабинете — «на предмет уничтожения нафталинного духа». <…> Все шло отлично пока не выяснилось, что черные носки — единственную пару черных носков, хранящуюся на парадный случай в шляпной картонке, между дверьми прихожей — съели мыши. <…> — Катастрофа! Не смогу надеть фрак. Ведь все мои носки белые, шерстяные. В них невозможно, — повторял он, горестно вздыхая. Мне было смешно, но я старалась выразить сочувствие. Я вспомнила, что у меня дома по всей вероятности найдется пара черных носков моего отца. — Пойдемте ко мне, Николай Степанович, поищем. <…> К великой радости Гумилева носки у меня нашлись. И ничто не помешало его триумфальному появлению во фраке 13-го февраля 1921 года на «Торжественном Собрании в 84-ую годовщину смерти Пушкина». Появление Гумилева во фраке было действительно триумфальным. Я уже сидела в зале, когда он явился, и видела ошеломляющее впечатление, произведенное им на присутствующих». Другой «английский трофей» на Ирину Одоевцеву не произвел впечатления [714]: «Я иду провожать его на кухню. Он надевает свое серое пальто в талию. — Я его в Лондоне купил, — сообщает он. А мне казалось, что в Лондоне все вещи, особенно мужские — элегантны. — Что с вами? — спрашивает Гумилев. — Отчего у вас такой кислый вид?» Так что, в
Петроград Гумилев возвратился с английским и самоедским гардеробами, и так
завершилась его «Одиссея». Самые ранние датированные упоминания появления
Гумилева в Петрограде — в дневниках М. Кузмина [715].
«29
апреля. <…> В лавке как-то толпятся без смысла народы: Ведринская,
Гумилев. <…> 2 мая. <…> Я — в лавку. Торговали ничего. Были
гости: Гумилев, Лурье, Кокоша. <…>». Для Кузмина за эти годы мало что
изменилось… Подробнее самые первые дни пребывания Гумилева отражены в «Трудах и
днях» [716] :
«1918. Конец апреля — начало мая. Приехал в Петроград полный энергии, желания работать и
надежд на успешность работы. Первые дни после приезда жил у М.Л. Лозинского и
в меблированных комнатах «Ира». На второй день по приезде А.А. Ахматова
просила Н.Г. дать ей развод. Беспрекословно и не спрашивая о причинах дал ей
согласие. Примечание. Решение о разводе не испортило дружеских отношений
Н.Г. с А.А. Ахматовой, и они продолжали встречаться по-прежнему. 1918. Весна.
Заканчивает трагедию «Отравленная туника» (3 июня в газете «Ирида» помещено
извещение об окончании трагедии). Читает ее на Ивановской ул. М.Л. Лозинскому,
другой раз — К.И. Чуковскому и А.Н. Энгельгардт. 1918. 8 мая. Поселился
на Ивановской улице, дом 20/65, кв. 15 — в квартире С.К. Маковского, который в
это время жил в Крыму. 1918. Май. Вместе с М. Л. Лозинским возобновил
деятельность издательства «Гиперборей». Намечены были к изданию следующие
книги: И. Анненского «Фамира Кифаред», Н.С. Гумилева — «Мик», «Фарфоровый
павильон», «Костер», «Гильгамеш». Н.Г. вместе с М. Л. Лозинским приступил к
энергичной издательской работе и не прекращал ее до конца года. Примечание.
Средств не было никаких, и поэтому было предложено печатать книги в кредит,
затем распределить издание между книготорговцами и из поступающих от них сумм
оплачивать типографию. 1918. 13 мая. Участвует в «Вечере петербургских
поэтов», организованном обществом «Арзамас» в Тенишевском зале. В числе других
прочел стихотворения «Возвращение» и «Юдифь». Примечание. В вечере
участвовали А. Блок, О. Мандельштам, М. Кузмин, Г. Иванов, Г. Адамович.
Обозначенные в афише А.А. Ахматова и В.А. Пяст в вечере не участвовали. Вместо
них с чтением стихов выступила литературная молодежь: Н. Оцуп, Вс.
Рождественский и Дм. Майзельс. Устроители вечера не были осведомлены о возвращении
Н.Г. из-за границы. Он был приглашен уже после того, как были расклеены афиши.
Кроме перечисленных поэтов в вечере участвовали Л. Д. Басаргина-Блок (прочла
«Двенадцать»), О.А. Глебова-Судейкина (прочла стихи Пушкина и И. Анненского) и
А. Лурье (рояль)». Это было первое публичное выступление Гумилева в Петрограде,
сохранились афиши и программа вечера [717].
В течение года в периодических изданиях никаких новых
произведений Гумилева не появлялось. Незадолго до его возвращения, в марте, с
большим опозданием, вышел номер «Аполлона» Когда Гумилев впервые попал во Францию в 1906 году, он сразу же затеял там издание своего первого журнала — «Сириус». Первый номер, вышедший в январе 1907 года, открывался его стихотворением «Франция». Это было его первое впечатление от новой для него страны. Спустя более 10 лет, в июле 1918-го года, в журнале Аркадия Аверченко «Новый сатирикон», №15, было опубликовано еще одно стихотворение, посвященное «Франции», в котором Гумилев подвел итоги своей последней встречи с полюбившейся ему страной. Это редкое для Гумилева стихотворение с откровенно политическим подтекстом. По моему мнению, написано оно было на корабле, во время перехода от берегов Франции до Мурманска, возможно, под впечатлением общения со своими соотечественниками, простыми солдатами, также возвращавшимися в Россию. Поэт извиняется перед Францией за измену со стороны своей родной страны. Прочитаем эти два разделенных десятилетием стихотворения одно за другим. Между ними заключено все творчество поэта, вся его насыщенная событиями жизнь, которая соединяется этими двумя разновременными образами Франции.
В августе 1918 года большевики закрыли «Новый сатирикон» вместе с другими оппозиционными изданиями. Чтобы вернуться к себе в родной Севастополь (в Крым, занятый белыми), Аверченко пришлось пройти через многочисленные передряги, пробираться через оккупированную немцами Украину. Гумилеву некуда было бежать, да он и не собирался — он был у себя дома. Начался последний, творчески самый плодотворный, чрезвычайно насыщенный период его жизни. Короткий, трехлетний, который был оборван на самом взлете. В апреле 1918-го года почти четырехлетняя война для Николая Гумилева закончилась. Попав в голодную и объятую пожарищами Россию, Гумилев подвел ее итог в тоненькой книжке стихов — «Костер». Завершить рассказ мне хочется обращенными к поэту словами Марины Цветаевой, прочитавшей этот сборник поэта и откликнувшейся на него, на стихотворение «Мужик». Хотя сказаны они были уже после его гибели, они не утратили своего значения, этот отзыв поэта о поэте был очень высоко оценен Ахматовой [719] : «То, что она пишет о Гумилеве, самое прекрасное, что о нем до сего дня (2 сентября 1964 г.) написано. <…> Как бы он был ей благодарен! Это про того непрочитанного Гумилева, о котором я не устаю говорить всем «с переменным успехом». Эту его главную линию можно проследить чуть не с самого начала». Цветаева пишет [720]: «Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю. Чувство Истории — только чувство Судьбы. Не «мэтр» был Гумилев, а мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества, до которого в «Костре» и окружающем костре России так чудесно — древесно! — дорос». Через три года Гумилев подготовил новый сборник стихов. Он сам сдал рукопись в типографию, но держать в руках вышедшую книгу ему было не суждено. По странному стечению обстоятельств она вышла из печати, практически, в один и тот же день, когда поэта не стало [721]. От сложенного в годы войны гумилевского «Костра» разгорелся «Огненный столп», в котором поэт сгорел, обретая бессмертие. Четыре года, которые Николай Гумилев провел на войне, сыграли в его Судьбе решающую роль. P.S. Вспомним одно из последних стихотворений поэта «Мои читатели». Ими были не только «старый бродяга в Аддис-Абебе», или «лейтенант, водивший канонерки», или «человек, среди толпы народа застреливший императорского посла». Удалось найти его читателя среди посланных во Францию русских солдат. В архиве случайно обнаружилась записная книжка лейтенанта маршевого эскадрона К.П. Тарутина [722], из Омска, зачисленного в 1-ю Особую пехотную бригаду. Запись была им сделана на пароходе, плывшем из Владивостока в Марсель, 14 марта 1916-го года, в районе Сингапура. От руки, явно по памяти, он записал в свою записную книжку все четыре стихотворения цикла «Капитаны», написанного Николаем Гумилевым в июне 1909-го года в Коктебеле. НЕДОШЕДШИЕ ПИСЬМА — ИЗ РОССИИ И ИЗ ФРАНЦИИ Мне хочется, как приложение, привести недошедшие до адресатов письма. Одно письмо было отправлено Анной Энгельгардт еще в декабре 1917-го года, и до Франции оно дошло уже после того, как Гумилев встретился в Петрограде с его отправительницей и даже успел сделать ей предложение — в июне 1918-го года. Два других письма были отправлены русским унтер-офицером Василием Мамонтовым весной 1918 года из Парижа, на Урал и в далекую Пермскую губернию, куда Гумилев поселил героев оставленной в Англии повести «Веселые братья». Письма были изъяты военной цензурой и до своих адресатов не дошли. Хотя вряд ли отыщутся их потомки, мне хочется, чтобы их прочитали. Неизвестно, добрался ли когда-либо до своего дома Василий Мамонтов, или он нашел последнее пристанище в чужой земле, как тысячи его соотечественников, посланных во Францию защищать честь России. Никаких дополнительных комментариев к письмам не будет — они говорят сами за себя. Письмо Анны Энгельгардт Николаю Гумилеву из Петрограда в Париж [ 723] : «Коля милый, я написала тебе несколько писем, телеграмму, но возможно, что ты ничего не получил. Знаешь, я перепутала адрес (вернее, он был напутан в твоей последней телеграмме) и только получив твое письмо от 14 сентября узнала, что он совсем другой! Досадно, ведь письма к тебе идут безбожно долго, чуть ли не 2—3 месяца. Грустно писать, зная, что письмо придет чуть ли не через год. Я прямо в отчаянье от такой задержки! Милый, уже 1/2 года, что мы в разлуке. Мне иногда кажется, что это навсегда! Звать тебя сюда, Коля, настаивать, чтоб ты приехал, я не могу и не хочу. Это было бы слишком эгоистично. Ты знаешь, здесь в Петербурге сейчас гадко, скучно, все куда-то убегают... А там в Париже, вероятно, жизнь иная — у тебя интересное дело, милые друзья, твоя коллекция картин, нет той грубости и разрухи, которая царит сейчас. Мне бесконечно хочется тебя видеть, я по-прежнему люблю только тебя, но лучше тебе быть там, где приятно и где к тебе хорошо относятся. Может быть, война скоро окончательно кончится и тогда ты и так приедешь или, может быть, сможешь приехать сюда ненадолго. Я боюсь, и мне больно будет видеть твое раскаянье, если ты приедешь сейчас сюда и ради меня, потому что здесь, действительно, тяжело жить! Ты зовешь меня, ты милый! Но я боюсь ехать одна в такой дальний путь и в настоящее время, м. б. раньше и поехала, теперь же так трудно ездить вообще, а тем более так далеко. Потом вдруг тебя могут отослать куда-нибудь, и я останусь одна, нет, у меня тысячи причин! Ах, Коля, Коля, я люблю тебя, часто думаю о тебе, и мне не верится, что мы когда-нибудь будем опять вместе! Я люблю только тебя одного и тоже никого больше полюбить не в силах, я не знаю как ты! Правда, Коля, мы были друзьями, я стараюсь не слишком часто огорчать тебя, так что враждебного чувства ты не должен иметь ко мне? Я знаю твою ветреность, возможно, что ты иногда и забываешь меня! Сплетней я не слушаю и к тому же никого из мальчишек не вижу, кроме Володи Ч., а он очень тактичен и ни звука о тебе! Как жаль, что я не могу посмотреть на твои иконы и экзотическую живопись. Счастливый, как приятно собирать такие пленительные вещи. Есть ли у тебя старые книги? Я стащила у отца все самые старые, редкие книги, какие были у него в шкафах... Я думаю, он будет недоволен; пока я тщательно храню свои сокровища! Пришли мне что-нибудь из последних твоих стихов. Все наши общие знакомые уехали. Мальчишек не видно вовсе. Что твой маленький Лева? И твоя матушка? Здоровы ли они? Как твое здоровье? Я чувствую себя сносно. Меня принялись лечить. Я терпеть не могу лечиться и выбросила все лекарства за окно. Доктор сказал, что у меня слабые легкие и что всякая простуда для меня очень опасна. Я же не хочу пить разную гадость и вести лечебную жизнь. Это так скучно. Ненавижу леченье — оставляю это каким-нибудь ревматическим старухам и старикам. Я работаю как сестра в санатории, вне города, и мне это нравится. Полудеревенская жизнь мне очень по душе, а, кроме того, я самостоятельна и моя холостая жизнь мне тоже приятна. Прости, что пишу на таких лоскутках, нет бумаги под рукой. Пиши мне! Будь счастлив и помни меня. Целую тебя. Анна. 30.XI.1917 г. Не смейся над разбросанностью моего письма, мне немного трудно писать». Письма унтер-офицера Василия Мамонтова, изъятые военной цензурой [724] «Le adjudant Mamontoff Basile. 4 rue Christophe Colomb, Paris, Bureau Attache Militaire de Russie. В: Екатеринбург, Пермской губернии, 1-я Мельковка, №41, Васе Прокопьевне Брюховой. Мая 1918 года, город Париж. Милая Вася! Давно, давно тебе не писал, кажется уже около 4-х месяцев. Ты вероятно знаешь почему я не писал, т.к. почта теперь в Россию не отправляется вследствие перерыва почтовых отношений с Россией. Как Вы живете, что делаете!! Ничего я не знаю. Нет от Вас никакой весточки абсолютно. Сердце иногда кровью обливается при мысли, что Вам там живется плохо. Про Россию пишут все время такие гадкие вести, что голова идет кругом. Болит душа за Россию, за Вас и за всех мне милых, далеко там живущих. Настоящее письмо отправляю с оказией, не знаю, дойдет ли оно по назначению, так как трудно рассчитывать, чтобы при теперешних порядках в России можно было бы рассчитывать, что оно дойдет. Пишу о себе. Я живу все время в Париже у Военного Агента. Живу плохо, так как до сих пор наше положение русских здесь во Франции не определилось, а поэтому мы живем все в одинаковых условиях. Главное то, что нет у нас здесь никого, кто бы мог нас защитить, так как настоящее правительство России, то есть Ленинское, во Франции не признают, а поэтому и нет никаких здесь представителей. Старые же представители правительства тоже отказываются признавать, и мы до сих пор живем в неопределенном положении. Да и как признавать такое правительство, когда они, мерзавцы, продали Россию немцам. Я не зная, как Вы там живете, но у нас здесь все ясно. Мир заключен с Германией, а Германцы все время продвигаются вперед и надо думать, что в скором времени и Петроград будет занят. А мир, что это за мир, когда Россия сведена на нет. Лучшие губернии от России отошли к Германии, кроме того экономическое положение России еще доконает окончательно Россию и в конце концов русские будут работать только на Германию. Иногда прихварываю, иногда ничего, но все время тоскую по родным краям, главное нет ничего из России, писем не получал уже около 4-х месяцев. Кроме того, беспокоюсь о будущем. Рамки настоящего письма мне не позволяют писать все то, что лежит на душе, ограничусь только этим. С этой оказией тоже отправляю Марусе письмо. Как здоровье твое, Шуры и Гриши. Все еще находишься там же, то есть служишь в кинема? Я в кинема не бывал уже около года. Живу в Париже, не хожу, так как мне не нравятся здешние картины. Привет моим знакомым. Крепко целую тебя, Шуру и Гришу, желаю Вам всем здоровья. Мне же только одно желание, как можно скорее приехать в Россию. Но причины те, что нет пароходов, и нас не отправляют. Когда будут отправлять нас тоже ничего не известно. Крепко, крепко целую твой Василий. P.S. Надеюсь, что в июле месяце отправлюсь в Россию, если только выйдет то, что я думаю. Ах, как бы мне хотелось уехать в Россию! Не поверишь, Вася, ночей не сплю, все думаю, как бы вырваться отсюда». Письмо 2. «В: Шадринск Пермской губернии. Набережная улица, дом Богданович. Учительнице Марии Ивановне Мамонтовой. Мая 1918 года, город Париж. Милая Маруся! Около 4-х месяцев я не писал тебе писем, да и настоящее письмо я не уверен, чтобы оно дошло по назначению, но надежды не бросаю и пишу. Настоящее письмо отправляю с оказией, то есть от нас отправляются в Россию два счастливца-писаря нашего управления. Я же мечтаю об отъезде в Россию, но как уехать отсюда, это я еще не могу придумать. О Вашей жизни я не спрашиваю как Вы там живете, так как из тех известий, которые мы имеем здесь за границей, жизнь в России для нас известна, в особенности же, кто любит Родину и интересуется ее жизнью. Безусловно жизнь теперь в России тяжела. Постараюсь набросать картину, насколько могу, нашей здесь заграничной и, в частности, нас русских, заброшенных злою волею судьбы. Так называемые аристократы и богатые люди, бывшие когда-то у кормила правления в России, во Франции живут разбросанные большею частью около Ниццы и в Ницце. Что они делают? Все эти люди все еще мечтают, что настанет время, когда снова будет Россия порабощена, и тогда снова будет можно драть со всех как с сидоровых коз. Теперь же пока что отдыхают, если можно это слово применить, и составляют разные патриотические общества, но с известной целью, то есть ведение пропаганды за Царя — Царь для них все, и в Царе воплощается у них все старое, которое им не забыть до гробовой доски. А старое — это получение орденов и знаков отличия, в особенности же побольше окладов содержания, на прожигание жизни. Не аристократы, а просто именующие себя граждане Русской земли. Эти люди здесь в большинстве случаев живут уже давно, как то евреи, эмигранты и прочие. Им безразлично все, что теперь происходит в России, за исключением того, что все-таки для них лучше, если бы скорее война кончилась, так как хотя они и пристроились на разные места и отбывают воинскую повинность, но может поворотить ветер и им придется идти на фронт, что уже им не улыбается. Евреи же все поголовно пацифисты, и я вполне убедился, что Россию они рассматривают как только такую страну, из которой можно больше вытянуть денег. Деньги и деньги, везде и все. Патриоты. Это такие, которые служат и нашим и вашим. Вчера Царю, сегодня Керенскому, а завтра хоть Петрову, Иванову, кому Вам угодно, а между тем Россию и Российские порядки так ругают, будто бы в России живут одни только дикие люди. Этих лиц я называю паразитами России, хуже остальных, которых описал, так как он мало того, что тянет все жилы с России, еще и вредит своим проклятым языком. Теперь мы, солдаты и офицеры Русского Отряда. Разбросанные по всем уголкам Франции, проклинаем всех и вся, не верим никому и живем словно в смуте. Большевистская зараза коснулась всей армии и нас здесь, заброшенных судьбой, а поэтому теперь веры во что-нибудь ни у кого нет. Не верят ни газетам, как французским, так и других нейтральных стран. Все солдаты разбиты на рабочие роты и работают за плату в лесах, на фабриках и заводах. Наше начальство, по обыкновению, оказалось на высоте своего положения, то есть довело дело до конца, что французы, во избежании каких-либо недоразумений, все взяли в свои руки. Зло и обидно в том, что вот смотришь со стороны, как живут офицеры других армий, скромно, не соря деньги, трудятся на общее благо. У нас же кроме больших окладов, да разных медалей, и знать ничего не хочут. Деньги, и деньги, и деньги. Вот теперь главная насущная забота всех наших офицеров. Работать, как же они будут работать — офицеры и вдруг работать на какой-нибудь фабрике? Лучше пьянствовать и ничего не делать. Эх, Россия! Пропадешь ты не из того, что темень кругом хоть глаз коли. Я лично солдат понимаю, почему они теперь не верят никому. Сколько времени прошло на то, чтобы у него веру убить окончательно, и убили, проклятые. Я живу у Военного Агента во Франции. Работаю в Общем Архиве. Надолго ли хватит работы — трудно сказать. Все зависит от того, будут ли платить жалованье всем чинам Военного Агента — французы. Жалованье теперь мы все получаем от французских властей и по окладам французским. С самого начала большевистского переворота мы не получали ни копейки денег из России, и теперь французы нам платят из своего кармана. Я лично давно бы плюнул на все и уехал бы куда-нибудь работать в лес, да здоровье мое неважное, и кроме того есть мысль, что от Военного Агента можно скорее уехать в Россию. Общественное мнение Франции равнодушно относится к событиям в России, Франция заинтересована в России только потому, что Россия должна ей 27 миллиардов франков. Главный интерес Франции теперь — это борьба не на живот, а на смерть с немцами. 2-й месяц уже немцы атакуют здешний фронт и пока без успеха. Немецкая техника проявляется во всем, даже в мелочах. Ты вероятно уже читала из газет, что немцы стреляют на 100 верст по Парижу, да, Маня, я сам не верил, когда в газетах появилось известие в первый день стрельбы по Парижу, что это стрелял немец, до того было удивительно, чтобы стрелять на 110 километров, а потом убедился, когда снаряд пал недалеко от меня. Ну про налеты же аэропланов я не говорю, их было несколько, и каждый налет причинял материальные и человеческие жертвы. Например, 6-ти этажный дом до основания разрушен. Как-то Вы поживаете. Меня все интересует, знают ли в России, то что происходит на юге России, то есть немцы с каждым днем нагло захватывают город за городом. Это меня сильно интересует, и как вообще реагирует публика на это. Думаю и питаю надежду, что в скором времени все эти советы большевиков полетят к черту. Пора Россию спасать, а безграмотным людям не только Россию, но чести ее не спасти. Будь здорова, привет и целую Вас всех. Пиши, если будет можно. Твой В. Мамонтов». ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ГУМИЛЕВА, ОСТАВЛЕННАЯ Б. АНРЕПУ
ЛОНДОНСКИЙ И ПАРИЖСКИЙ АЛЬБОМЫ ГУМИЛЕВА Ниже в списке состава альбома Струве (в дальнейшем — АС), после порядкового номера стихотворения в альбоме, указано его выделенное название (вначале — как в АС, вслед за этим — при публикации, в «Костре» или в сборнике «К синей звезде» («КСЗ»); без названия обозначено как — б/н). После обозначения «№№», дробью, указан номер стихотворения во 2-м томе Вашингтонского собрания сочинений и номер в ПСС-3. Далее указывается место публикации, в основном, для стихотворений, написанных и опубликованных до отъезда во Францию, но включенных Гумилевым в альбом. Затем, условными выделенными обозначениями, указано вхождение стихотворения в вышедшие сборники «К синей звезде» (КСЗ-№), «Костер» (Костер-№) и «Фарфоровый павильон» (ФП-№), где № — порядковый номер стихотворения в сборнике. Далее показано включение стихотворения в один из четырех составленных Гумилевым списков, сохранившихся в этом же альбоме: список 1 из 17 стихотворений, названный «Отлунье» (Отл1-№); список 2 из 17 стихотворений, включающий, в том числе, ранние, не альбомные стихотворения (2-№); список 3 из 15 стихотворений, все из альбома (3-№); список 4 из 52 стихотворений, все из альбома (4-№-№), где «№» обозначает порядковый номер стихотворения, а в списке 4 — раздел и номер стихотворения, соответственно. В конце указывается наличие автографа стихотворения в архиве Лозинского (данные предварительные, требующие уточнения), причем в архиве Лозинского сохранилось четыре разновидности автографов Гумилева, соответствующих альбомным стихотворениям, либо привезенных из Англии, либо частично переписанных (отредактированных) уже в Петрограде: рукописный сборник «Костер» (АЛК), рукописный сборник «Отлунье» (АЛО), рукописный сборник «Фарфоровый павильон» (АЛФП) и отдельные автографы с авторской правкой (АЛ). Разночтения между вариантами не указываются, смотрите соответствующие комментарии во 2-м томе Струве и в ПСС-3. Если стихотворение не вошло в «Костер», то указывается первая публикация в одном из «Посмертных сборников» (ПС-1922 или ПС-1923). Заглавный лист альбома представляет собой цветочный орнамент (желтый, красный, коричневый) акварелью, работы Н.С. Гончаровой (воспроизведен выше). Акварелью же написано: «Н. Гумилев. Стихи». 1. 3мей. Оформление — на обороте заглавной страницы и поверх текста первой страницы двойной рисунок в красках Д.С. Стеллецкого, иллюстрирующий это стихотворение: на обороте заглавного листа (без текста) изображен стоящий на одном колене и натягивающий тетиву сделанного из турьих рогов лука Вольга; справа, поверх текста стихотворения — Змей Горыныч, несущий красавицу. №№226/37. Аполлон, 1916, №1. Костер-9. Отл1-12; 4-2-1. АЛК, АЛО, АЛ. 2. Андрей Рублев. Оформление — орнамент в красках без подписи работы Гончаровой. №№219/38. Аполлон, 1916, №1. Костер-2. Отл1-14; 4-1-1. АЛК, АЛО, АЛ. 3. Деревья. №№218/39. Аполлон, 1916, №1. Костер-1. Отл1-4; 2-14; 4-1-2. АЛК, АЛО, АЛ. 4. Городок. №№222/43. Солнце России, март 1916, №317. Костер-5. Отл1-13; 4-2-2. АЛК, АЛО. 5. Второй год. №№ 320/42. Нива, 27 февраля 1916, №9. Отл1-15; 4-3-1. АЛО. 6. Травы (в «Костре» — Детство). №№221/44. Нива, 12 марта 1916, №11. Костер-4. Отл1-2; 4-1-3. АЛК, АЛО. 7. Любовь весной («Перед ночью северной, короткой...»). №№324/55. Творчество, Кн.1, 1917. 4-3-2. АЛО. 8. Песенка (в «Костре» и при публикации — Юг). №№242/47. Творчество, Кн.2, 1918. Костер-25. АЛК (в цикле «Песенки», вместе с ПСС-3, 101). 9. Мужик. Оформление — на полях стихотворения, на двух страницах, рисунки Ларионова; первая страница впервые воспроизведена во 2-м томе Струве, с.12. №№227/56. Костер-10. Отл1-8; 4-1-4. АЛК, АЛО (б/н), АЛ. 10. Рабочий. №№228/45. Одесский листок, 10 апреля 1916, №97, б/н. Костер-11. Отл1-9; 4-1-5. АЛК, АЛО. 11. Ледоход. №№223/57. Тринадцать поэтов, 1917. Костер-6. Отл1-5; 4-2-4. АЛК, АЛ. 12. Канцона (в «Костре» — Канцона первая, «В скольких земных океанах я плыл…»). №№236/52. Письмо Л. Рейснер, ПСС-8-163, вариант. Костер-19. 4-2-5. АЛК. 13. Картинка, с посвящением М.Ф. Ларионову (в «Костре» — Осень). Оформление — орнамент работы Гончаровой. №№220/58. Тринадцать поэтов, 1917. Костер-3. Отл1-3; 4-1-6. АЛК (Картинка), АЛ (Осень). 14. Природа. №№224/59. Костер-7. Отл1-6, 4-3-3. АЛК. 15. Девушка. №№325/60. 4-3-4. 16. Швеции (в «Костре» — Швеция). №№229/62. Письмо Л. Рейснер, ПСС-8-164, «Швеции». Костер-12. 4-4-1. АЛ (Швеция). 17. Стокгольм. №№232/63. Костер-15. Отл1-7; 2-15; 4-1-7. АЛК, АЛ. 18. Норвежские горы. №№230/64. Костер-13. 4-4-2. АЛ. 19. Утешение («Кто лежит в могиле…»). №№234/65. Костер-17. Отл1-16; 4-4-3. АЛК, АЛ. 20. Купанье. (На 1-м из шести вырванных, но оставленных в альбоме листов; не включено в содержание АС). №№359/66. 21. Рыцарь счастья. (На 2-м из шести вырванных, но оставленных в альбоме листов; не включено в содержание АС). №№360/67. 22. В Северном Море (в «Костре» — «На Северном Море», с выпущенным по цензурным соображениям важным восьмистишием). Оформление — «морской» орнамент на лицевой и оборотных сторонах работы Гончаровой. №№231/68. В письме Лозинскому из Лондона, ПСС-8-167, «В Северном море». Костер-14. Отл1-10; 4-2-6. АЛК, АЛ, 2 варианта, видимо, один из письма, полный. 23. Жизнь (в «Костре» — Прапамять, «И вот вся жизнь…»). (На 3-м из шести вырванных, но оставленных в альбоме листов; не включено в содержание АС). №№235/69. Костер-18. Отл1-17; 4-4-4. АЛК (Прапамять). 24. Песенка. №№358/70. 4-2-3. Любопытен комментарий Г. Струве к этому стихотворению (том 2, с.324): «Неполный и несколько иной вариант под заглавием «Из черновой тетради» и отнесением к 1917 году был напечатан в газете «Возрождение», 26 августа 1926 года». Следовательно, вероятно существование какой-то неизвестной «Черновой тетради». Вариант приведен в ППС-3, с.255. 25. В Бретани. №№326/71. 4-4-5. 26. Предзнаменование. №№327/72. Есть в лондонской «Записной книжке» (ЗК-18, б/н). 27. Танка (в альбоме Н.Э. Радлова — Хокка). №№351/73. 3-1; 4-3-5. В ПС-1922 и 1923 — б/н. 28. Прогулка (в Воле России и в КСЗ — б/н, «Мы в аллеях светлых пролетали...»). №№330/74. Воля народа, 19 мая 1918 года, №6 — первая публикация Гумилева после возвращения в Россию. КСЗ-3. 3-5; 4-3-7. ПС-1923. 29. Сирень (в КСЗ — б/н, «Из букета целого сирени...»). №№328/75. КСЗ-1. 4-4-8. 30. Роза (в КСЗ — б/н, «Цветов и песен благодатный хмель…»). №№240/76. КСЗ-6; Костер-23. 3-6; 4-2-7. АЛК, АЛ. 31. Сон [[725]] (в Воле России и в КСЗ — б/н, «Застонал я от сна дурного…»). №№245/11. Воля народа, 19 мая 1918 года, №6 — первая публикация Гумилева после возвращения в Россию. КСЗ-7; Костер-28. 3-12; 4-1-8. АЛК, АЛ. 32. Унижение (в КСЗ — б/н, «Вероятно в жизни предыдущей…»). №№331/77. КСЗ-4. 4-4-9. АЛ (Позор). 33. Ночь (в КСЗ — б/н, «Пролетала золотая ночь...»). (На 4-м из шести вырванных, но оставленных в альбоме листов; не включено в содержание АС). №№334/78. КСЗ-9. 4-4-6. 34. Семья, с пометой сбоку — «Аннам» (в ФП — Аннам). №№294/—. ФП-12. АЛФП. 35. Телефон (в КСЗ — б/н, «Неожиданный и смелый…»). №№241/79. КСЗ-12; Костер-24. 3-8; 4-3-8. АЛК, АЛ. 36. Синяя звезда (в КСЗ — б/н, «Я вырван был из жизни тесной...»). №№339/80. КСЗ-17. 37. Самотрасская победа (в КСЗ — б/н, «В час моего ночного бреда…»; в «Костре» — Самофракийская победа). №№239/81. КСЗ-15; Костер-22. 3-9; 4-2-9. АЛК (Самотрасская победа), АЛ (Самофракийская победа). 38. Дом в сердце (в ФП — Дом). №№293/—. ФП-11. АЛФП. По АС — автор Чу-Фу. 39. Вечером (в ФП — Соединение; в КСЗ — б/н, «Луна восходит на ночное небо…»). №№290/—. КСЗ-20; ФП-8. АЛФП. По АС — автор Сао-Нан. 40. Я и вы (в КСЗ — б/н, «Да, я знаю, я Вам не пара…»). №№225/82. Новый сатирикон, 1918, №6. КСЗ-16; Костер-8. Отл1-1; 2-16; 3-3; 4-1-9. АЛК (Вступление), АЛ. 41. Богатое сердце (в КСЗ — б/н, «Дремала душа, как слепая...»). (На 5-м из шести вырванных, но оставленных в альбоме листов; не включено в содержание АС). №№338/83. КСЗ-14. 3-7; 4-3-9. 42. Портрет (в КСЗ — б/н, «Лишь черный бархат, на котором...»). №№333/84. Глеб Струве упоминает о существовании автографа этого стихотворения с посвящением «Н.В.Е.» («Лишь нежный бархат, на котором…») и датой: «4 апреля 1918. Лондон». КСЗ-8. 3-2; 4-2-8. 43. Любовь (в КСЗ — б/н, «Много есть людей, что, полюбив...»). №№329/85. КСЗ-2. 3-4; 4-3-6. 44. Канцона (в «Ниве» и КСЗ — б/н, «Храм твой, Господи, в небесах…»; в «Костре» — Канцона вторая). №№237/86. Нива, 27 июля 1918, №30. КСЗ-18; Костер-20. 4-2-12. АЛК (б/н), АЛ. 45. Отражение гор (во 2-м издании ФП — б/н, «Сердце радостно, сердце крылато…»). №№285/—. ФП-3. АЛФП. Это стихотворение почему-то отсутствовало в издании «Фарфорового павильона» 1918-го года, но вошло в издание 1922 г. По АС — автор Чан-Чи. 46. Последнее стихотворение в альбоме (в КСЗ — б/н, «Отвечай мне, картонажный мастер...»). №№337/93. КСЗ-13. 4-4-7. 47. Новая встреча (в КСЗ — б/н, «На путях зеленых и земных...»). №№350/94. КСЗ-33. 4-3-14. 48. Фарфоровый павильон. №№283/—. ФП-1. АЛФП. По АС — автор Ли-Тай-Пе. 49. Три жены мандарина. №№288/—. ФП-6. АЛФП. По АС — автор Сао-Нан. 50. В лодке (в ФП — Природа). №№286/—. ФП-4. АЛФП. По АС — автор Уан-Тие. 51. Поэт, смотрящий на луну (в ФП — Поэт). №№292/—. ФП-10. АЛФП. По АС — автор Тан-Ио-Су. 52. Лунный свет (в ФП — Луна на море). №№284/—. ФП-2. АЛФП. По АС — автор Ли-Сун-Чан. 53. Дурная дорога (в ФП — Дорога). №№287/—. ФП-5. АЛФП. По АС — автор Тзе-Тие. 54. Девушки, с пометкой сбоку «Аннам» (в ФП — Девушки). №№295/—. ФП-13. АЛФП. 55. Признание, с пометкой сбоку «Лаос» (в ФП — Лаос). №№297/—. ФП-15. АЛФП. 56. Зов, с пометкой сбоку Кха (в ФП — Кха). №№298/—. ФП-16. АЛФП (Кха). 57. Девочка (в КСЗ — б/н, «Временами, не справясь с тоскою…»). №№349/95. КСЗ-32. 3-14; 4-1-12. АЛК (зачеркнут). ПС-1923. 58. Детская песенка, с пометкой сбоку «Аннам» (в ФП — Детская песенка). №№296/—. ФП-14. АЛФП. 59. Езбекие (в КСЗ — Езбекие; в «Костре» — Эзбекие). №№246/96. КСЗ-24; Костер-29. Отл1-11; 3-15; 4-1-10. АЛК (б/н); АЛ. 60. Пропавший день («Всю ночь говорил я с ночью…»; в «Костре» вариант под названием «Творчество» — «Моим рожденные словом…»). №№233,352/53. Костер-16. 4-4-10. АЛК (Творчество). 61. Флейта осени (в ФП — Странник). №№291/—. ФП-9. АЛФП. По АС — автор Чу-Фу. 62. Песня на реке (в ФП — Счастье). №№289/—. ФП-7. АЛФП. По АС — автор Ли-Тай-Пе. 63. Предложенье (в КСЗ — б/н, «Я говорил, ты хочешь, хочешь?..»). №№343/98. КСЗ-23. 3-13; 4-3-10. 64. Предупрежденье (с японского). №№353/—. Есть в Гумилев-1991-1, с.398. АЛ?. Видимо, стихотворение вначале предполагалось включить в «Фарфоровый павильон». 65. «Я, что мог быть лучшей из поэм...». №№356/99. 4-2-10. ПС-1923 (Утешение). 66. Два Адама. (На 6-м из шести вырванных, но оставленных в альбоме листов; не включено в содержание АС). №№355/100. 2-17; 4-1-11. АЛК. ПС-1923 (б/н). 67. Песенка (в КСЗ — б/н, «Не всегда чужда ты и горда…»; в «Костре» — Рассыпающая звезды). №№243/101. КСЗ-30; Костер-26. 3-10; 4-2-11. АЛК, АЛ. 68. Прощанье (в КСЗ — б/н, «Ты не могла, иль не хотела...»). №№344/102. КСЗ-25. 4-3-11. 69. «Нежно-небывалая отрада...». №№345/103. КСЗ-26. 4-4-11. 70. О тебе (в КСЗ — б/н, «О тебе, о тебе, о тебе…»). №№244/104. КСЗ-29; Костер-27. 3-11; 4-3-12. АЛК, АЛ. 71. Ангел боли («Праведны пути твои, царица…»). №№357/105. 4-4-12. 72. Обещанье («С протянутыми руками…», также, но без названия — в КСЗ; другой вариант в «Костре» — «Канцона третья», «Как тихо стало в природе…»). №№238, 346/106. КСЗ-27; Костер-21. 4-4-14. АЛК, АЛ. 73. Уста солнца (в КСЗ — б/н, «Неизгладимы, нет, в моей судьбе...»). №№348/107. КСЗ-31. 4-3-13. 74. «Среди бесчисленных светил...». №№361/111. Как указано у Струве во 2-м томе, сс.324-325, другой вариант был опубликован в газете «Возрождение» 4 апреля 1929 года, по хранившемуся в Лондоне автографу, с пометой: «Лондон, 1918», и с посвящением С.А. Абаза, дочери графа А.Х. Бенкендорфа, бывшего до революции российским послом в Англии. 75. Прощенье (в КСЗ — б/н, «Ты пожалела, ты простила...»). №№347/112. КСЗ-28. 4-4-13. 76. Приглашение в путешествие (в АС — короткий вариант, начинающийся строкой «Уедем! Разве вам не надо…»). №№362/113. Существует несколько вариантов автографов этого стихотворения с различными посвящениями. Глеб Струве указывает на два оставшихся за границей автографа (2-й том, сс.174-176, 325-328, «Уедем, бросим край докучный…»). Один вариант, с датой «Март 1918», напечатан в газете «Возрождение» 31 августа 1930 года, с указанием, что вариант этот получен Ю.К. Терапиано от г-жи С.Н. Р-ф и передан им поэту Юрию Мандельштаму; посвящение — «С. Р-ф»). Другой автограф, без посвящения, и с названием по-французски «Invitation au voyage» принадлежал П.А. Дубровскому в Париже. Все эти варианты смотрите в ПСС-3, сс.189-191, 272-275. Еще один вариант — в письме О. Арбениной от 15 марта 1920 года, ПСС-8, №178. Глеб Струве дает дополнительные сведения по структуре альбома: «На предпоследней странице альбома в два столбца записано «Содержание». В нем пронумеровано 70 стихотворений. Против семнадцати переводных стихотворений, из которых шестнадцать вошли затем в «Фарфоровый павильон», стоит черточка красными чернилами, причем после первого из них в скобках написано «пер[евод]», а после последнего — красными чернилами цифра 17. Около половины остальных стихотворений помечено крестиком после названия. Против 27 названий крестика нет. Смысл крестиков остается неясным, ибо помеченные таким образом стихотворения включают и такие, которые Гумилев потом включил в «Костер», и такие, которые туда не вошли (многие из них попали уже после смерти поэта в сборник «К синей звезде», а некоторые были впервые напечатаны Г.П. Струве в «Новом Журнале» (VIII, 1944) и потом в «Неизданном Гумилеве» (Нью-Йорк, 1952). <…> Шесть стихотворений почему-то не были включены Гумилевым в оглавление. <…> Страницы с этими стихотворениями были вырезаны, но оставлены в альбоме. Одно из них вошло в «Костер». В самом альбоме стихотворения не нумерованы, но за исключением вырезанных порядок их соответствует порядку «Содержания». Помимо «Содержания», в лондонском альбоме имеется еще страница (вырезанная, но, по-видимому, следовавшая сразу за текстом записанных стихотворений), на которой рукой Гумилева записаны четыре списка стихотворений. <…>» Выше указана принадлежность стихотворений к каждому из этих списков. Необычен второй список, первые 13 названий которого составили стихотворения из ранее вышедших сборников «Романтические стихи» (РЦ), «Жемчуга» (Ж), «Чужое небо» (ЧН) и «Колчан» (К). Вот эти стихотворения: 1) Жираф (РЦ); 2) Волшебная скрипка (Ж); 3) Семирамида (Ж); 4) Товарищ (Ж); 5) Капитаны (Ж); 6) Из города Киева (ЧН); 7) Я верил, я думал (ЧН); 8) Туркестанские генералы (ЧН); 9) Абиссинские песни (ЧН); 10) Памяти Анненского (К); 11) Побег (К); 12) Я вежлив с жизнью (К); 13) Сказка (К). Четыре последние стихотворения — из альбома, три из них впоследствии вошли в «Костер»: 14) Деревья (АС-3; Костер-1); 15) Стокгольм (АС-17; Костер-15); 16) Я и вы (АС-40; Костер-8); 17) Два Адама (АС-66). Трудно понять предназначение этого списка, вряд ли он предполагал издание впоследствии сборника в таком составе. Скорее всего, Гумилев просто составил список стихотворений, с которыми были связаны какие-то воспоминания, или которые он считал характерными для определенных периодов своего поэтического творчества. Самый полный, четвертый список, куда вошло большинство стихотворений альбома, возможно, вначале предназначался для подготовки итогового сборника стихотворений, однако план этот не был реализован. В архиве Лозинского сохранился рукописный сборник «Отлунье», почти совпадающий по составу с первым списком в альбоме, также названным «Отлунье», но в Петрограде Гумилев отказался от мысли издать как «укороченный» сборник «Отлунье», так и «полный» сборник четвертого списка. Он остановился на промежуточном варианте, подготовив сборник «Костер», включивший 29 стихотворений, в состав которого вышло большинство стихотворений первого и третьего списков. Само название «Костер» родилось уже в охваченной «костром» России. Одновременно с «Костром» вышел и полностью включенный в альбом Струве сборник «Фарфоровый павильон». Никаких новых стихотворений дописывать для этих сборников Гумилеву было не нужно, поэтому они вышли спустя всего два месяца после его возвращения в Россию, в конце июня — начале июля, в издательстве «Гиперборей», вместе с ранее подготовленной африканской поэмой «Мик» [726]. В архиве Лозинского сохранились гранки «Костра» с его пометкой и датой: «Верстать, согласно образцу. 21 июня 1918 г.» Дарственная надпись на подаренном Гумилевым Лозинскому экземпляре «Костра» проставлена 17 июля 1918 года. Ниже приведен список «Парижского альбома, составленный на основе сборника «К синей звезде». В нем используются те же обозначения, что и для списка альбома Струве (АС). Указывается: название; расположение в альбоме Струве (АС-№) или отсутствие в альбоме (Нет в АС); №№ по 2-му тому Вашингтонского собрания сочинений и 3-му тому ПСС; вхождение в сборники «Костер» (Костер-№) и «Фарфоровый павильон» (ФП-№); наличие вариантов автографов в архиве Лозинского. 1. «Из букета целого сирени…» (в АС — Сирень) (АС-29). №№328/75. 2. «Много есть людей, что, полюбив…» (в АС — Любовь). (АС-43). №№329/85. 3. «Мы в аллеях светлых пролетали…» (в АС — Прогулка). (АС-28). №№330/74. 4. «Вероятно, в жизни предыдущей…» (в АС — Унижение). (АС-32). №№331/77. АЛ (Позор). 5. «Мой альбом, где страсть сквозит без меры…» (Нет в АС). №№332/87. 6. «Цветов и песен благодатный хмель…» (в АС и «Костре» — Роза). (АС-30). №№240/76. Костер-23. АЛК; АЛ. 7. «Застонал я от сна дурного…» (в АС и «Костре» — Сон). (АС-31). №№245/11. Костер-28. АЛК; АЛ. 8. «Лишь черный бархат, на котором…» (в АС — Портрет). (АС-42). №№333/84. 9. «Пролетала золотая ночь…» (в АС — Ночь). (АС-33). №№334/78. 10. «Об озерах, о павлинах белых…» (Нет в АС). №№335/88. 11. «Однообразные мелькают…» (Нет в АС). №№336/89. 12. «Неожиданный и смелый…» (в АС и «Костре» — Телефон). (АС-35). №№241/79. Костер-24. АЛК; АЛ. 13. «Отвечай мне, картонажный мастер…» (в АС — Последнее стихотворение в альбоме). (АС-46). №№337/93. Почему в альбоме Струве стихотворение так названо — остается загадкой, при публикации альбома «К синей звезде» это стихотворение не было последним, и дано без названия. 14. «Дремала душа, как слепая…» (в АС — Богатое сердце). (АС-41). №№338/83. 15. «В час моего ночного бреда…» (в АС — Самотрасская победа; в «Костре» — Самофракийская победа). (АС-37). №№239/81. Костер-22. АЛК (Самотрасская победа); АЛ (Самофракийская победа). 16. «Да, я знаю, я вам не пара…» (в АС и «Костре» — Я и вы). (АС-40). №№225/82. Костер-8. АЛК (Вступление); АЛ. 17. «Я вырван был из жизни тесной…» (в АС — Синяя звезда). (АС-36). №№339/80. 18. «Храм твой, Господи, в небесах…» (в АС — Канцона; в «Костре» — Канцона вторая). (АС-44). №№237/86. Костер-20. АЛК; АЛ. 19. «В этот мой благословенный вечер…» (Нет в АС). №№340/90. 20. «Луна восходит на ночное небо…» (в АС — Вечером; в ФП — Соединение). (АС-39). 290/—. ФП-8. АЛФП. По АС — автор Сао-Нан. 21. «Еще не раз Вы вспомните меня…» (Нет в АС). №№341/91. 22. «Так долго сердце боролось…» (Нет в АС). №№342/92. 23. «Я говорил: «Ты хочешь, хочешь…» (в АС — Предложенье). (АС-63). №№343/98. 24. Езбекие (в АС — Езбекие; в «Костре» — Эзбекие). (АС-59). №№246/96. Костер-29. АЛК (б/н); АЛ. 25. «Ты не могла иль не хотела…» (в АС — Прощанье). (АС-68). №№344/102. 26. «Нежно небывалая отрада…» (АС-69). №№345/103. 27. «С протянутыми руками…» (в АС — Обещанье; другой вариант в «Костре» — Канцона третья, «Как тихо стало в природе…»). (АС-72). №№238, 346/106. Костер-21. АЛК; АЛ. 28. «Ты пожалела, ты простила…» (в АС — Прощенье). (АС-75). №№347/112. 29. «О тебе, о тебе, о тебе…» (в АС и «Костре» — О тебе). (АС-70). №№244/104. Костер-27. АЛК; АЛ. 30. «He всегда чужда ты и горда…» (в АС — «Песенка»; в «Костре» — Рассыпающая звезды). (АС-67). №№243/101. Костер-26. АЛК; АЛ. 31. «Неизгладимы, нет, в моей судьбе…» (в АС — Уста солнца). (АС-73). №№348/107. 32. «Временами, не справясь с тоскою…» (в АС — Девочка). (АС-57). №№349/95. АЛК (зачеркнут). 33. «На путях зеленых и земных…» (в АС — Новая встреча). (АС-47). №№350/94. 34. «Так вот платаны, пальмы, темный грот…» (Отрывок из пьесы). (Нет в АС). №№415 (Струве-3 том)/ПСС-5, с.341. О странной судьбе этого самостоятельного и вполне законченного стихотворения сказано в рассказе о трагедии «Отравленная туника». Помимо двух оставленных за границей Альбомов, Гумилев привез в Россию автографы большинства входящих в них стихотворений. Все они хранятся в архиве Лозинского. В этом же архиве — автограф последнего стихотворения, в котором Гумилев прощается с Францией и подводит итог своей военной жизни. Написано оно было на корабле, плывшем от берегов Франции в Мурманск — Гумилеву всегда хорошо писалось в открытом море. Это — стихотворение «Франции», опубликовано в июле 1918-го года в журнале «Новый сатирикон», №15.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Примечания: [1] Поэт на войне-6 (http://www.utoronto.ca/tsq/29/stepanov29.shtml ). [2] Гумилев-Вашингтон-1…4. Оставшиеся за границей материалы упоминаются в примечаниях к каждому из томов «Собрания сочинений». Большую их часть Гумилев оставил Борису Анрепу в Лондоне, перед самым возвращением в Россию. Впоследствии все это Анреп передал Глебу Струве, который использовал эти бумаги и документы в ряде публикаций. Среди переданных материалов — альбом со стихами, всего 76 чистовых автографов стихотворений, основная часть которых впоследствии составила сборники «Костер» и «Фарфоровый павильон». Еще один альбом, заполненный в Париже в 1917 году, был опубликован К. Мочульскими в виде вышедшего в Берлине в 1923 году сборника «К синей звезде». Его нынешнее местонахождение неизвестно. Что касается переданных Анрепом гумилевских материалов, то все они ныне хранятся в фонде Глеба Струве в Гуверовском архиве (Стенфорд, США). [3] Смотрите в списке литературы — Курляндский — 1-3. [4] Следует заметить, что обобщенное название «Русский экспедиционный корпус» для действовавших на западном фронте русских воинских подразделений утвердилось уже после его расформирования. Первоначально же, в документах, эти войска проходили как Особые бригады (всего — четыре), каждая из которых состояла из двух Особых пехотных полков. [5] Наиболее авторитетной, и почти единственной работой на эту тему до недавних пор являлась книга умершего в 1926 году русского военного историка, генерала от инфантерии А.М. Зайончковского «Мировая война 1914-1918 гг.», первое издание которой вышло еще в 1924 году, при его жизни. До 1940 года было два переиздания, и, наконец, за неимением ничего лучшего, книгу эту переиздали в 2000 году. В 1975 году в издательстве «Наука» вышла «История Первой мировой войны 1914—1918 гг. под редакцией И.И. Ростунова», в 2-х томах. В постсоветское время на эту тему не было подготовлено почти ни одной серьезной монографии. Работа В.Е. Шамбарова «За Веру, Царя и Отечество», М.: Алгоритм, 2003, касается только действий на русском фронте, о Русском экспедиционном корпусе в ней упоминается лишь вскользь. Стоит выделить интересную, хорошо написанную монографию: А.И. Уткин. Первая Мировая война. М.: Алгоритм, 2001. В ней объективно рассмотрен весь ход войны, начиная от причин ее развязывания и вплоть до воздействия на дальнейший ход событий XX-го века. Однако автор рассматривает лишь ключевые моменты войны, важнейшие стратегические операции, крупнейшие сражения. Участие в них русских экспедиционных войск, к сожалению, даже не упоминается. Их как бы и не существовало, хотя на полях Европы полегли многие тысячи наших соотечественников. [6] Лисовенко Д.У. Их хотели лишить Родины. М.: Воениздат, 1960. [7] Малиновский Р.Я. Солдаты России. М.: Воениздат, 1969 (1988). [8] Годовщина со дня окончания Первой мировой войны именовалась ранее праздником Победы, но теперь он обозначен в календарях западных стран как День перемирия. К сожалению, в нашей стране, понесшей в Первой мировой войне колоссальные потери, день ее окончания до сих пор никак не отмечается, хотя бы пометкой в календаре. [9] Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М.: Воениздат, 1986. Есть как более ранние (довоенные), так и современные издания. Почему-то эту книгу до сих пор очень любят и часто переиздают, хотя, как будет показано ниже, отношение к ней и ее автору нуждается в существенной коррекции. [10] Данилов Ю.Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах. 1916—1918. Париж, 1933. [11] Юрий Никифорович Данилов (25 августа 1866, Киев — 3 февраля 1937, Париж), — русский военный деятель, генерал от инфантерии (1914), военный историк. После начала Первой мировой войны был назначен генерал-квартирмейстером штаба Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. За отличия в Галицийской битве был награжден орденом святого Георгия 4-й степени. В 1915, после перевода великого князя Николая Николаевича на должность наместника Кавказа, был вынужден покинуть свою должность в Ставке. Пытался сохранить порядок в армии после ноября 1917 года. В 1918 служил в Красной армии, возглавил группу военных экспертов при советской делегации на переговорах с центральными державами в Брест-Литовске. По его инициативе эксперты направили на имя главы советской делегации Г.Я. Сокольникова записку с аргументами против заключения Брестского мира, которая не была принята во внимание. В марте 1918 входил в состав Комиссии военных специалистов по выработке плана преобразования военного центра для реорганизации армии, однако этот план не был утвержден Советом народных комиссаров. 25 марта 1918 вышел в отставку. Уехал на Украину, затем перешел в расположение Добровольческой армии. Осенью 1920 занимал пост помощника начальника Военного управления Русской армии в Крыму. Эмигрировал в Константинополь, затем жил в Париже. Автор ряда военно-исторических трудов, посвященных участию русской армии в Первой мировой войне. Его исследование о первом этапе войны, вышедшее в Берлине в 1924, было переведено на многие европейские языки и не потеряло своего значения в наше время. На эту книгу постоянно ссылается автор упомянутой выше монографии о Первой мировой войне А.И. Уткин. Данилов был биографом великого князя Николая Николаевича и автором первого (и, по моему мнению, до сих пор единственного) полного и объективного труда, посвященного истории «Русского экспедиционного корпуса». [12] Необходимо отметить: важно то, что Данилов работал во Французских архивах еще до начала Второй мировой войны, когда они не были затронуты дальнейшими событиями. По имеющимся у меня сведениям, во время Второй мировой войны французские военные архивы, в том числе материалы по «Русскому экспедиционному корпусу», были вывезены немцами в Германию, а затем захвачены Советской Армией и долгие годы пролежали в совершенно недоступном закрытом Центральном государственный спецархиве, ныне в Российском государственном военном архиве. В 1990-е годы архивные материалы, вывезенные из Франции, по взаимному соглашению между двумя странами, после частичного копирования, были возвращены в Париж. Доступны ли они в настоящее время, как во Франции, так и в России, пока выяснить не удалось. [13] Андрей Корляков, Жерар Горохов. «Русский экспедиционный корпус во Франции и Салониках. 1916 — 1918». YMCA-PRESS, Paris, 2003. В альбоме большого формата (24 см х 29 см) — 656 стр. и свыше 1000 фотографий. Ссылки на него в дальнейшем даны, как на «Корпус-2003». [14] Фильм этот можно найти в интернете (например, сайт — http://video.ru/tvarchive/event/301266/52 ). Режиссер Сергей Зайцев. Продолжительность — 51 минута. В фильме кратко изложена история появления русских Особых бригад во Франции, их участие в боевых действиях, история образования «Русского легиона» в 1918-м году, после расформирования «Русского экспедиционного корпуса». Рассказывается о русском мемориальном кладбище в Шампани, в Сент-Илер-Ле-Гран. [15] Должен заметить, что книга Данилова не грешит многословием, в ней очень по-деловому, лаконично, на основе подлинных документов излагается вся история боевых действий русских экспедиционных войск. Я бы рекомендовал всем, кто заинтересуется этим вопросом, прочитать ее полностью, ее можно найти в интернете. О необходимости ее переиздания было сказано выше. В своем рассказе я был вынужден ограничиться лишь кратким изложением этой книги, все равно потребовавшим достаточно много места. Но без такого изложения предыстории вряд ли возможно понять, почему Гумилев оказался во Франции, разобраться в той ситуации, с которой он столкнулся, оказавшись за границей, и, наконец, уяснить, как и почему в 1918 году Гумилев вернулся в Россию. [16] Поэт на войне-1 (http://www.utoronto.ca/tsq/24/stepanov24.shtml ). [17] Дайрен — японское название бывшего русского тихоокенского порта Дальний, ныне китайский город Далянь. [18] Неакадемические комментарии-3. [19] Лисовенко-1960, сс.30-32. [20] Малиновский-1988, сс.173-178. [21] Лагерь располагался в Шампани, южнее Реймса и западнее Вердена, где в феврале 1916 года произошла одна из крупнейших и одна из самых кровопролитных военных операций в истории Первой мировой войны. Во время Верденского сражения обе стороны потеряли около миллиона человек, среди которых убито было до 430 тысяч человек. Потери Франции — около 350 тысяч, что составляло свыше 25% всех потерь Франции за все время войны. Линия фронта, к моменту прибытия русских войск, проходила на небольшом расстоянии от лагеря. [22] Корпус-2003, с.291. [23] Хочется обратить внимание на этот приведенный Даниловым документ. Все эти деньги приходили на счет Военного Агента графа А.А. Игнатьева (1877 — 1954). Не здесь ли «зарыта собака» — огромная «сэкономленная» сумма, которой он позже откупился от большевиков и обеспечил себе спокойное, «графское» существование в СССР: в 1925 году он передал советскому правительству денежные средства, принадлежавшие России (225 млн. рублей золотом) и вложенные на свое имя во французские частные банки. За эти действия Игнатьев был подвергнут бойкоту со стороны эмигрантских организаций, исключен из товарищества выпускников Пажеского корпуса и офицеров Кавалергардского полка. Под воззванием, призывавшим к суровому суду над отступником, подписался родной брат А.А. Игнатьева. Особенно безнравственными выглядят его действия, когда выяснилось, в каком положении оказались русские военнослужащие после октябрьского переворота, когда всяческие денежные поступления из России полностью прекратились, и приходилось постоянно выкручиваться, чтобы поддержать их существование. Да и возвращение всех желающих в Россию при наличии этих утаенных сумм могло бы быть осуществлено еще в 1918 году. Я не говорю здесь о несостоявшейся командировке Николая Гумилева на Персидский фронт, о которой речь пойдет ниже. Ведь главным препятствием для этого оказалось, опять же, отсутствие средств, и генерал Занкевич многократно обращался к Игнатьеву с просьбой помочь, на что он получал неизменный отказ со ссылкой на отсутствие у него требуемой (ничтожной!) суммы денег. Так что можно считать, что «граф Игнатьев» — косвенный виновников гибели поэта, вынужденного вскоре вернуться в Россию. Попади Гумилев в английские войска на Персидском фронте, скорее всего, судьба его могла сложиться иначе... [24] Так ли на самом деле? На примере ряда приведенных ниже ведомостей содержания русского воинского контингента в Париже (в том числе и Гумилева) будет видно, сколько реально получали русские чины на руки. Все эти выплаты проходили через Военного Агента графа А.А. Игнатьева. [25] Гречневая каша. [26] Лохвицкий Николай Александрович (7.10.1867, Москва — 5.11.1933, Париж, Франция). Сын присяжного поверенного. Учитывая то, что, безусловно, Гумилеву в Париже приходилось встречаться с Лохвицким, следует отметить одно обстоятельство: его сестрами были две известные писательницы, с одной из которых Гумилев был хорошо знаком: поэтесса Мирра Лохвицкая (1869 — 1905) и Н.А. Тэффи (1872 — 1952). Тэффи с Гумилевым в 1909 году участвовала в создании журнала «Остров», этот эпизод отражен в ее воспоминаниях, написанных в эмиграции («Моя летопись»). Участвовала она с Гумилевым и в вечере в «Бродячей собаке» 27 января 1915 года, когда Гумилев на несколько дней приезжал в Петроград из Уланского полка; это было его единственное публичное выступление как поэта во время войны. Не исключено, что с Лохвицком Гумилев был знаком еще до начала войны, и что в их разговорах при встречах во Франции возникала тема родства Лохвицкого. Н.А. Лохвицкий получил образование во 2-м Константиновском училище и Николаевской академии Генштаба. Участник русско-японской войны в чине штабс-капитана. Командовал ротой 1-го Павловского училища. С 30.5.1912 командир 95-го пехотного Красноярского полка. В 1915 г. получил чин генерал-майора. В 1915 году командовал бригадами 24-й и 25-й пехотных дивизий. В 1915 году награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С начала 1916-го года командир 1-й Особой пехотной бригады, во главе которой отбыл во Францию. С начала июня 1917 начальник Особой пехотной дивизии. О его участии в боях и дальнейших событиях во Франции смотрите ниже. После расформирования Русского экспедиционного корпуса в январе 1918-го года Лохвицкий был начальником русской базы в Лавале, где был сформирован так называемый «Русский легион», или «Легион чести». В соответствии с постановлениями французского военного министра о порядке распределения русских контингентов по трем категориям, генерал Лохвицкий немедленно по вступлении в должность начальника базы в Лавале приступил к подготовительным работам по формированию русских добровольческих отрядов. На сделанный им призыв откликнулись русские добровольцы, не только проживавшие во Франции, но и находившиеся в Голландии, Италии, Африке и даже в Калькутте и на Дальнем Востоке. В этой должности он состоял до 11-го июня 1918-го года, когда французским военным министром было принято решение о замещении этого поста генералом французской службы. 28-го июня 1918-го года он был вынужден уехать из Франции. После его отстранения от должности французскими властями многие русские офицеры, в знак своего несогласия с принятым решением, подали в отставку. В марте 1919 Лохвицкий уехал на Дальний Восток. В апреле — июне 1919-го года он командовал III Уральским горным корпусом армии А.В. Колчака, затем — 1-й армией, а после переформирования в июле 1919 — 2-й армией. В августе 1919 года заменен генералом С.Н. Войцеховским. Командирован Колчаком в Иркутск для переговоров с атаманом Семеновым. В период с 27 апреля по 22 августа 1920 года командующий Дальневосточной армией, представитель Каппелевской армии при штабе Семенова. В августе — декабре 1920-го года начальник штаба главнокомандующего. Лохвицкий еще до наступления красных в октябре 1920 г. объявил об эвакуации части имущества белых сил и офицерских семей в Манчжурию, что начало исполняться. В ответ на это Семенов осудил его за «преждевременную эвакуацию» и приказал возвратить уже отправленное, в результате чего многие из этих грузов и эшелоны с офицерскими семьями достались красным. С конца ноября 1920 г. — в эмиграции в Китае. В декабре 1920 г. вернулся в Европу, с 1923 жил в Париже. С 1927 председатель Общества монархистов-легитимистов, Совета по военным и морским делам при великом князе Кирилле Владимировиче. Одновременно служил в военно-исторической комиссии французского Военного министерства. [27] Корпус-2003, сс.105-115, фото №№131, 147-150. Стеллецкий Дмитрий Семенович (1/13 января 1875, Брест-Литовск — 12 февраля 1947, Русский Дом в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, там же похоронен), родился в семье военного инженера. Учился на архитектурном и скульптурном отделениях Академии художеств в Петербурге. Художник, книжный иллюстратор, скульптор, иконописец. В 1908 году он познакомился с Борисом Анрепом; в результате этого знакомства Анреп бросил юридический факультет Санкт-Петербургского университета и занялся изобразительным искусством. В 1914 году Стеллецкий уезжает в Париж. Во Франции, во время войны, наряду с росписями церкви в лагере Майи, выполнил в 1916-м году в Шампани серию рисунков солдат и офицеров Русского Экспедиционного корпуса. Большой знаток и ценитель русской старины. Один из учредителей (1927) и член общества «Икона» в Париже. Наиболее известны его росписи храма св. Сергия Радонежского на Свято-Сергиевом подворье в Париже (Eglise Russe Saint-Serge, Paris, 93 Rue de Crimée); образцом для них служили фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Подробнее о творчестве Д.С. Стеллецкого смотрите в книге С. Маковского «На Парнасе Серебряного века», а также на сайте: http://www.portal-slovo.ru/history/35511.php?ELEMENT_ID=35511 . [28] Сразу же по прибытии на эти войска была возложена тяжелая миссия по усмирению своих же мятежных войск в лагере Ля Куртин. [29] Предлагаю отвлечься на несколько минут от текста и посмотреть подлинную, снятую в цвете документальную хронику боев на Западном фронте, где показаны и тяжелые обстрелы, и газовые атаки: сайт — http://www.youtube.com/watch?v=FsBUXTgt-YE&feature=fvw [30] Ношение «пальм» на ленточке военного креста разрешается только в том случае, если награждение военным крестом последовало властью командующего армией; награждение командира корпуса дает право на золотую звездочку, начальником дивизии — на серебряную и командиром бригады или полка - на бронзовую (Примечание Данилова). [31] В районе этих высот немцами в марте 1918 года были установлены известные пушки «Берты», обстреливавшие Париж с дистанции свыше 100-110 километров — примечание Данилова. [32] Знаменский О. Н. Интеллигенция накануне Великого Октября: февраль — октябрь 1917 г. Л., 1988, с.280. Исследования-1994, с.192. Замечу, что вопрос этот требует уточнения. В книге «Хроника-1920-х годов», с.126, сказано, что организационные собрания Союза деятелей художественной литературы состоялись 13, 20, 27 марта и 10 апреля 1918-го года, то есть когда Гумилев был еще в Англии. Но там же Гумилев упоминается как член временного совета союза, наряду с Л. Андреевым, М. Горьким, Ф. Сологубом, Н. Тэффи и другими. Видимо, действительно, союз был создан перед самым отъездом Гумилева во Францию, но организационно оформлен только весной 1918-го года. 10 апреля Народный комиссариат имуществ выдал союзу удостоверение, подписанное А. Луначарским, на основании которого союз мог начать осуществлять свою деятельность. В «Хронике-1920-х годов» (фиксирующей события только после 25 октября 1917-го года) имеется ссылка на публикацию: Муромский В.П. Союз деятелей художественной литературы. В книге «Из истории литературных объединений Петрограда — Ленинграда 1910-1930-х годов». СПб.: 2002, Кн.1, сс.133, 144. [33] РГИА,
ф.749, оп.1, ед. хр.3, л.136–136 об.
[34] Исследования-1994,
с.192. [35]
Труды и дни, с.269. [36]
По старому стилю. В дальнейшем все датировки за границей будут даны по новому,
европейскому стилю. То есть, по новому стилю Гумилев выехал из Петрограда 28
мая. [37]
Труды и дни, с.270. Свидетельства А.А. Ахматовой и М.Л. Лозинского. Никаких
других свидетельств того, что Гумилев выехал за границу как корреспондент
«Русской воли», нет. Как и нет никаких свидетельств сотрудничества Гумилева с
этой достаточно одиозной газетой, созданной по инициативе последнего царского
министра внутренних дел А.Д. Протопопова. [38]
Подробно об этом было сказано в выпусках «Поэт на войне-2», примечание 20, и
«Поэт на войне-4», примечание 143. В списке писем матери (архив Лукницкого в
ИРЛИ, «Альбом III-7», №67, в папке, озаглавленной «Биографическая канва») значится письмо от
11 мая из Петрограда (с пометкой Лукницкого, что «15 мая выезжает за границу»). [39]
Гумилев-Вашингтон-1, с.XLIX. Этот «Послужной
список» Гумилев, возвращаясь в Россию, с собой не захватил и оставил его у Бориса
Анрепа. Видимо, предполагая в апреле месяце 1918-го года, что его может ждать в
новой России, Гумилев оставил в Лондоне все, что относилось к его воинской
службе во Франции. Струве упоминает об оставленных у Анрепа офицерских
погонах. Предполагаю, что где-то осталась как его военная форма, так и
полученные Георгиевские кресты. Думаю, он вывез их из России, ведь по Уставу Георгиевский крест никогда не снимался, каждому
награжденному Георгиевским крестом назначалось со дня совершения подвига
ежегодная денежная премия, которую Гумилев в Париже получал, об этом
свидетельствуют приведенные ниже архивные документы. При этом все
Георгиевские кресты нумеровались, и их номера известны. Так что теоретически
они могут быть когда-нибудь обнаружены в какой-либо частной коллекции. На одном
из воспроизведенных ниже парижских рисунков Н. Гончаровой Гумилев изображен с
Георгиевским крестом (только с одним). Это подтверждает то, что они были с ним
во Франции. [40] Архив Лукницкого в ИРЛИ, «Альбом III-7», №67, в папке, озаглавленной «Биографическая канва». Христиания
— прежнее название столицы Норвегии Осло. Следует уточнить, что так Осло
назывался до 1877 года. В период 1877 — 1924 годы городу было дано название
Кристиания (норв. Kristiania).
После 1924 года он получил нынешнее наименование — Осло. [41] Архив Лукницкого в ИРЛИ, «Альбом III-7», №67, в папке, озаглавленной «Биографическая канва».
[42] Там же. [43] Труды и дни, с.272. [44] Письмо Ахматовой — ПСС-8, №166; письмо Лозинскому — ПСС-8, №167. [45] Гумилев-Вашингтон-4, сс.541-548; Письма-1987, сс.76-77; Лесман-1989, сс.370-371; Гумилев в Лондоне: неизвестное интервью, публикация Э. Русинко, в книге Исследования-1994, сс.299-309; Шубинский-2004, сс.476-484; комментарии к письмам №166 и №167 в ПСС-8, сс.551-555. [46] Оригинал в архиве Лесмана, хранящемся в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. [47] Книги издательства «Гиперборей» (1914—1919), печатавшего в основном стихи членов Цеха поэтов. [48] Подразумевается редактор «Аполлона» С.К. Маковский, хотя обычное его редакционное прозвище было — «папа̀ Мако» (как в письме Лозинскому), видимо, между собой супруги его иронически переиначили. Во второй половине 1917 г. стихи Гумилева в русской периодической печати не появлялись. [49] ПСС-3, №63 и №59, соответственно. [50] Книга Ахматовой «Белая стая» вышла в свет под наблюдением Лозинского осенью 1917 года. [51] «Камень» О.Мандельштама вышел первым изданием в 1913г., вторым, переработанным, — в 1916, третье издание в 1910-е годы не состоялось. [52] У Н.А. Клюева к этому времени вышли сборники «Братские песни» (1912), «Сосен перезвон» (1912), «Лесные были» (1912, 1913), «Мирские думы» (1916). [53] Драматическая сказка Гумилева «Дитя Аллаха» печаталась в «Аполлоне» (1917, №6-7). Номер вышел в свет в марте 1918 года. [54] В. Жирмунский. Преодолевшие символизм. [55] «Аполлон», 1913, №1. Здесь напечатаны статьи Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии». [56] Во всех публикация ранее было: «Я чувствую себя совершенно новым человеком, сильным, как был…». Письмо выверено по автографу, хранящемуся в архиве Лозинского. [57] Из стихотворения Пушкина «Художнику» (цитата неточная). Под «Дельвигом» Гумилев подразумевает, естественно, Лозинского, блестяще знавшего многие иностранные языки. [58] В.К. Шилейко. [59] Эльзас — регион на северо-востоке Франции, граничащий с Германией и Швейцарией. Столицей Эльзаса является Страсбург. В 1871 году, по Франкфуртскому договору, Германия аннексировала Эльзас. После окончания Первой мировой войны, по Версальскому мирному договору 1919 года, Эльзас вновь перешел под власть Франции.[60] Джованни Джолитти (27 октября 1842 года — 17 июля 1928 года) — итальянский государственный политический деятель. Родился в 1842 году. Неоднократно занимал пост премьер-министра (май 1889 — ноябрь1893, ноябрь 1903 — март 1905, май 1906 — декабрь 1909, март 1911 — март 1914, июнь 1920 — июнь 1921). Джолитти оказал большое влияние на политику Италии. Период итальянской истории с конца 1880-х до начала 1920-х годов, считающихся «золотым веком» итальянского либерализма, принято называть «эрой Джолитти». В годы премьерства Джолитти были проведены либеральные реформы. Первоначально Джолитти выступал за сотрудничество с социалистами. Однако в последующие годы изменил свою позицию и в 1913 году инициировал заключение »пакта Джолитти — Джентилонни» в целях противодействию избрания социалистов в парламент. При Джолитти Италия вела активную колониальную политику. В 1914—1917 выступал против участия Италии в Первой мировой войне, возглавив лагерь «нейтралистов». [61] Элефтериос Кириаку Венизелос (23 августа 1864—18 марта 1936) — греческий политик, несколько раз занимавший должность премьер-министра с 1910 по 1933 гг. Взгляды Венизелоса периодически колебались, от либерального республиканизма до консервативного монархизма. Во время войны, в отличие от короля Константина I (у Гумилева — «господин»), симпатизировавшего Германии и настроенного прогермански (об этом было сказано в «исторической части»), Венизелос был сторонником войны Греции на стороне Антанты. В результате конфликта между ним и королем в 1916 Греция размежевалась на две части — контролируемые соответственно королем и Венизелосом (это событие известно как «национальный раскол»). Конфликт завершился давлением дипломатии и войск Антанты, отречением короля 12-го июня 1917-го года, коронацией его сына Александра, занятием Венизелосом поста премьер-министра в июле 1917-го года и вступлением Греции в войну на стороне Антанты. [62] Гумилев-Вашингтон-1, с.XLIX. [63] Подробнее о Борисе Анрепе и о его отношениях с Ахматовой смотрите «Неакадемические комментарии-4» в журнале Toronto Slavic Quarterly, №22. [64] Лукницкий-I, сс.41-42. [65] Дальнейшие сведения о Борисе Анрепе — из указанной неопубликованной работы Майкла Баскера. Смотрите также каталог: Lois Oliver. Boris Anrep. The National Gallery Mosaics. National Gallery Company, London, 2004. [66] Анреп. Б. По поводу лондонской выставки с участием русских художников. Аполлон, 1913, № 2, сс.39-48. [67] Kaznina O. Boris Anrep: A Russian Artist in an English Interior. Journal of European Studies, 35 (3), 2005, р.346. [68] Лесман-1989, с.371 (сведения Р. Тименчика). Однако подтвердить этот адрес не удалось, сейчас там размещается обычное кафе, а в публикациях, относящихся как к существовавшей до 1910 года националистической организации «India House», так и к другим «индийским» организациям указываются другие адреса. [69] Гумилев-Вашингтон-4, сс.541-545. [70] Впервые опубликовано: Rusinko E. Gumilev in London: An unknown interview, Russian Literature Triquarterly. 1979. №16, pp.73-85. Перевод этой статьи смотрите в книге Исследования-1994, сс.299-309. [71] Русские писатели-1, с.523. [72] ПСС-7, №60, рецензия на сборник «От жизни к жизни»: «Вадим Гарднер, при всей неопытности, отличающей молодых поэтов, написал прелестную книгу легких стихов…» [73] Ben Hellman. An aggressive imperialist? The controversy over Nikolaj Gumilev's war poetry. В книге: Nikolaj Gumilev. 1886 — 1986. Papers from the Gumilev Centenary Symposium. Held at Ross Priory, University of Strathclyde, 1986. Edited, with an introduction, by Sheelagh Duffin Graham. Berkeley Slavic Specialties, 1987, pp.149-150. [74] Поэт на войне-2 в журнале Toronto Slavic Quarterly, №25. [75] «The New Age». Vol. XVI, №13, January 28, 1915, p.344. Letters from Russia. By C.E. Bechhofer. Отрывок из этого письма в переводе С.Е. можно прочитать в выпуске «Поэт на войне-2» в журнале Toronto Slavic Quarterly, №25: http://www.utoronto.ca/tsq/25/stepanov25.shtml [76] В различных публикациях транскрипция его имени (Bechhofer) звучит по-разному — Бечхофер, Бехховер, Бехофер, Бичхофер. Чтобы не было путаницы, я оставляю написание его имени так, как у Гумилева — Бехгофер. [77] В 1925—1926 гг. Бехгофер опубликовал несколько детективных и фантастических рассказов в журнале «The Strand Magazine». Перевод одного из этих рассказов, «Подводный остров» («The Island under the sea») на русский язык появился в журнале «Всемирный следопыт» в 1926 г.: Бичхофер Робертс. Подводный остров. Всемирный следопыт. М., 1926, №11. См.: Окулов В.И. О журнальной фантастике первой половины XX века. Липецк: Крот, 2008. [78] Interviews by C.E. Bechhofer. XIII. Mr. Nicholas Gumileff. The New Age. №1294. New Series. Vol. XXI, №9, June 28, 1917. p.209. Полностью перевод этого интервью, с обширными комментариями, опубликован в книге: Тименчик-1990, сс.270-273, 356-357. Другой (менее точный) перевод дан в указанной выше статье Э. Русинко. См. Исследования-1994, сс.305-309. Приведенные выше отрывки даны в переводе Р. Тименчика. [79] В комментариях Тименчика и Русинко ошибочно указывается, что инициалы «А.Е.» означают А.Э. Хаусмана, «профессора латыни в Тринити-Колледж, Кембридж, автора удивительно простых лирических стихотворений». Имя Хаусмана и его наиболее известная книга «Парень из Шропшира» (1896 г.) упоминаются в записной книжке: «ЗК-8(об)», A.E. Housman «Shropshire Lad». Но отдельно, в той же книжке, не предыдущей странице («ЗК-7(об)»), в другом перечне различных, видимо, требуемых Гумилеву книг, указаны инициалы «А.Е.». Как показал Григорий Кружков (Кружков-2001, сс.177-183), эти инициалы «в английской поэзии прочно закреплены за другим поэтом — Джорджем Расселом, который на протяжении десятилетий печатался исключительно под этим псевдонимом, приучив и критику писать о себе только как о А.Е. <…> Разумеется, и публикации в ««The New Age», подписанные А.Е., принадлежат Джорджу Расселу». Джордж Рассел (1867 — 1935), ирландский поэт, художник и мистик, был с юности ближайшим другом Йейтса и его соперником за титул лучшего ирландского поэта. Следовательно, «из трех поэтов, которых Гумилев отмечает в своем интервью английской газете, англичанин, строго говоря, только один, а двое других — ирландцы, друзья и соратники по движению «Ирландское литературное возрождение». [80] Шарль Вильдрак и Жорж Дюамель вместе с Жюлем Роменом и Рене Аркосом создали в 1906 г. в Париже поэтическую группу «Аббатство», участники которой пытались объединить свои интеллектуальные поиски и физический труд. Живя в Париже в 1906 — 1908 гг., Гумилев, через Валентина Кривича и его отца, поэта и учителя Гумилева И. Анненского, сошелся с семейством сестры своего учителя — Деникерами, отцом и сыном. Отец Жозеф Деникер, крупный ученый, натуралист и этнограф, мог повлиять на африканские увлечения Гумилева: Гумилев, бывая в доме Деникеров, расположенном на территории Ботанического сада (Jardin des Plantes), пользовался хранившейся там богатейшей библиотекой. Сын старшего Деникера, Никола Деникер, был поэтом и приятелем Николая Гумилева. Он был близок к группе «Аббатство», сохранился даже выпущенный издательством «Аббатство» сборник стихов Деникера с дарственной надписью Гумилеву. Подробнее об этом смотрите в ПСС-8, в комментариях к письму Валентину Кривичу из Парижа от 19 сентября 1906 года №5, сс.291-299. Так что Гумилев мог познакомиться с Вильдраком уже тогда, в 1906 году. В 1910 г. Вильдрак и Дюамель вместе работали над «Заметками о поэтической технике», которые оказали влияние на Паунда и имажистов. Вильдрак, владевший художественной галереей на Левом Берегу в Париже, был другом и корреспондентом Роджера Фрая. В записной книжке Гумилева есть парижский адрес мадам Роз Вильдрак, жены поэта, которая распоряжалась галереей, пока ее муж находился на фронте: «ЗК-13»: «M-me Vildrac / 12 ou 10 rue de Seine». [81] The New Age. №1296. New Series, vol. XXI, №11, 12 July 1917, p.255 — информация из неопубликованной работы Майкла Баскера. [82] The New Age. №1297. New Series, vol. XXI, №12, 19 July 1917, p.275 — информация из неопубликованной работы Майкла Баскера. [83] ПСС-7, №72 и комментарии к нему, сс.519-520. Рукопись — на «оборотной стороне» (лл.1-5) лондонской «Записной книжки»; на последующих листах приводится список имен английских поэтов. Очевидно, что набросок этот был занесен в книжку в июне 1917-го года, но, видимо, необходимость срочно покинуть Лондон по делам службы не позволила Гумилеву довести эту статью до публикации в журнале, и возвращаться к ее окончанию он не стал. [84] Дальнейшие сведения о посещениях Бехгофером России и о его литературной деятельности — из указанной неопубликованной работы Майкла Баскера. [85] Указанная книга, сс.143-145. Перевод Майкла Баскера. У Бехгофера неверно указано название кафе, где собирались московские имажинисты; на самом деле было это в кафе «Стойло Пегаса», располагавшемся на Тверской улице, 37. [86] Bechhofer C.E. Russian Literature Today. To the Editor of The Times. Times Literary Supplement. №1030. 13 October 1921, p.661. Смотрите также: Исследования-1994, с.305; Лесман-1989, с.371. [87] Исследования-1994, с.305, с ошибочным указанием даты. [88] Bechhofer C.E. Interviews. XI. Mr. Augustus John. The New Age. №1292. New Series, vol. XXI, №7, 14 June 1917, p.161; ср. также: Reckitt Maurice Bennington and Bechhofer-Roberts C E. The Meaning of National Guilds. London, 1918. [89] Alexander Blok. The Twelve. Translated with an Introduction and Notes by C.E. Bechhofer. With Illustrations by M. Larionov. London, Chatto & Windus, 1920. [90] Олдос Леонард Хаксли (англ. Aldous Huxley; 26 июля 1894, Годалминг, графство Суррей, Великобритания — 22 ноября 1963, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — английский писатель. Автор известного романа-антиутопии «О дивный новый мир» (1932). Дальнейшие сведения о Хаксли и о его встречах с Гумилевым — из указанной неопубликованной работы Майкла Баскера. [91] Смотрите: Letters of Aldous Huxley. New York, 1969. p.115; Ottoline at Garsington: Memoirs of Lady Ottoline Morrel, 1915 — 1918. London, 1974, pp.201-204. [92] Наверное, Гумилев знал об этом. Обращает на себя внимание «огненное» название этого сборника, как и двух последующих сборников Гумилева, «Костер», и «Огненный столп». Но, скорее всего, это простое совпадение. Само время подталкивало тогда к таким «горящим» названиям. [93] Letters of Aldous Huxley. Ed. by Grover Smith. New York, 1969, pp.126-127. [94] Darroch Sandra Jobson. The Life of Lady Ottoline Morrell. London, 1976, p.157. Сведения про круг знакомств леди Оттолин Моррелл и про ее имение — из работы Майкла Баскера. [95] Firchow Peter. Aldous Huxley: Satirist and Novelist. Minneapolis, 1972, p.16. [96] Darroch Sandra Jobson. The Life of Lady Ottoline Morrell. London, 1976, pp.83-84. [97] Джайлз Литтон Стрэчи (Lytton Strachey, 01.03.1880 — 21.01.1932 года) — английский биограф, литературовед, эссеист, известен иронической трактовкой своих биографических героев. Родился в семье игравшей важную роль в политической и культурной истории Великобритании со времен Испанской Армады (16 век). [98] Дэвид Герберт Лоуренс (11.09.1885 — 02.03.1930) — английский писатель, автор знаменитого романа «Любовник леди Чаттерли» (1928). [99] Уильям Батлер Йейтс (William Butler Yeats, 13 июня 1865 — 28 января 1939) — крупнейший ирландский англоязычный поэт, драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года. В Лондоне встречался и беседовал с Гумилевым. Эти беседы, как мне кажется, оказали большое влияние на его последующее творчество. Или, возможно, высказанные Йейтсом мысли просто легли на «благодатную почву». По словам Р. Тименчика, «идеалом Гумилева были древнеирландские жрецы-поэты — друиды. О возвращении верховенства к ним после многовекового владычества других каст Гумилев говорил в стихотворении «Канцона третья» из сборника «Костер»». Справедливости ради следует отметить, что еще в гимназии его заинтересовала ирландская мифология, и «ирландские мотивы» прозвучали уже в самом первом сборнике стихов Гумилева «Путь конквистадора». [100] Арнольд Беннет (Arnold Bennett, Великобритания, 1867 — 1931) — английский писатель, бывший клерк. Получив в 1893 премию за рассказ «Письмо домой», Беннет оставил службу в конторе адвоката и стал литератором-профессионалом. Беннетом до 1928 было написано 75 книг (романов, пьес, рассказов и литературно-публицистических статей). [101] Огастус Джон (1878-1961) — английский художник, был приятелем Бориса Анрепа. Представитель новых направлений в искусстве первой четверти XX в. Романтизировал образы цыган Северного Уэльса. Позднее — модный портретист. В конце 1910-х входил в «Группу улицы Фицрой». Цель группы, какой она была заявлена, — продавать работы по «ценам, доступным для людей умеренного достатка (картина стоит меньше, чем ужин в «Савое»)». То есть создавать работы для среднего класса. [102] Ottoline at Garsington: Memoirs of lady Ottoline Morrell, 1915-1918. Ed. and introd. by Robert Gathorne-Hardy. London: Faber and Faber, 1974. p.98. Более подробно об Анрепе в период 1916-1917 гг. см. с. 157, сс. 202-203. Знакомство Анрепа с кругом леди Моррелл описывается в ее мемуарах: Memoirs of Lady Ottoline Morrell: A study in friendship, 1873-1915. Ed. by Robert Gathorne-Hardy. New York, 1964. pp.183, 230-231. [103] Kelly John S. A W.B. Yeats Chronology. London, 2003, p.207. [104] Ottoline at Garsington: Memoirs of Lady Ottoline Morrel, 1915 — 1918. London, 1974, pp.128-129. Помимо «Влюбленных женщин» Лоуренса, «бытовая» жизнь и эксцентричные обитатели и гости Гарсингтон Мэнор получили множество литературных изображений; следует особо отметить первый роман О. Хаксли «Желтый крон» (Chrome Yellow, 1921), настоящий «roman à clef» («зашифрованный роман»), в котором, в частности, под художником Gombault сатирически не лестно выведен Борис Анреп. Подробнее смотрите, например: Kaznina O. Boris Anrep: A Russian Artist in an English Interior. Journal of European Studies, 35 (3), 2005. [105] Полное название его обращения — «Finished with the War: A Soldier’s Declaration» («Покончить с войной: декларация солдата»). Последующий рассказ об обращении Зигфрида Сассуна к английской общественности взят из упоминавшейся неопубликованной работы Майкла Баскера, за что я еще раз хочу выразить ему свою благодарность. [106] Wilson Jean Moorcroft. Siegfried Sassoon: The Making of a War Poet. A Biography, 1886-1918. London, 1998, pp.350-351, 373-375. [107] Декларация Сассуна была прочитана в парламенте 30 июля, и опубликована в газете «The London Times» 31 июля 1917 года. [108] Letters of Aldous Huxley. Ed. by Grover Smith. New York, 1969, p.115. [109] Запись об этом в записной книжке выглядит так: «Lunch with Roger Fry / 1.30 Thursday 21 June / 21 Fitzroy St. W. 1 / (Bottom bell on the right / Нижний звонок направо)». Видно, что пока Гумилеву требуется перевод даже простейшей английской фразы, про звонок. [110] Кружков-2001, с.178. [111] Kelly John S. A W.B. Yeats Chronology. London, 2003, p.193. Дальнейшие рассуждения, относящиеся к биографии Йейтса, из неопубликованной работы Майкла Баскера, уточнившего, что, по хронологии жизнеописания Йейтса, в интересующий нас период Йейтс выехал из Ирландии в Лондон 21-го мая, и там он находился примерно до 4-го июля. 24-го мая он побывал в Эдинбурге, где прочитал лекцию; 28-го мая — переехал из Эдинбурга в Бирмингем, где 29-го мая также прочитал лекцию. В Лондон он возвратился 30-го мая, где провел весь июнь. Однако 3 дня, с 16-го по 18-е июня, он гостил в Мейденхеде (Maidenhead, 30 миль к западу от Лондона). В понедельник, 18-го мая, он встречался также с делегацией членов ирландского парламента, и иногда устраиваемый им литературный «понедельник» в этот день не состоялся. [112] Alldritt K. W.B. Yeats: The Man and the Milieu. London, 1999, p.255. [113] Brown Terrence. The Life of W.B. Yeats: A Critical Biography. Oxford, 1999, pp.241-243. [114] ПСС-5, № 12. [115] Г. Струве. Неопубликованный автограф Гумилева. Русская мысль, 27 августа 1981 г. [116] Г. Кружков. «Загадка «Замиу». Николай Гумилев и графиня Кэтлин. В книгах: Кружков-2001, сс.212-230, 257-265; Кружков-2008, сс.172-191, 217-225. В последнюю книгу включено «Дополнение к «Загадке Замиу»», в котором рассказывается о судьбе пока еще не исследованного архива адресата дарственной надписи на книге Надежды Александровны Залшупиной, высказывается мнение автора о происхождении книги с дарственной надписью Гумилева. [117] Кружков-2001, сс.115, 119-120, 250. В указанных выше книгах Г. Кружкова многие страницы посвящены теме «Йейтс и русский неоромантизм» (Кружков-2001, сс.113-410), подробному исследованию «Йейтс и Россия» (Кружков-2008, сс.11-336). Ряд глав раскрывает «параллельность» творчества двух поэтов, Йейтса и Гумилева: «Загадка «ЗАМИУ»: Николай Гумилев и графиня Кэтлин» (в книге Кружков-2008: «Загадка «ЗАМИУ»: Приключения графини Кэтлин в России»); «Теория и игра маски: Гумилев и Йейтс»; «Гумилев, Йейтс и «А.Е.» (Лондон 1917)». Замечательно написанные книги, рекомендую их прочитать. В недавно вышедшее дополненное издание (Кружков-2008) вошло множество переводов Йейтса, в том числе и перевод пьесы «Графиня Кэтлин». [118] ПСС-3, №106. Стихотворение написано во Франции, после Лондона. [119] Библиотека А.А. Блока. Описание. Кн. 1, Л., 1984, с.254. Подробнее об этой «политике» Гумилева смотрите в комментариях Р. Тименчика к «Программе курса лекций по истории поэзии», которые Гумилев читал в Институте живого слова по возвращении в Россию: Тименчик-1990, сс.361-362, или Гумилев-1991-3, сс.333-334. [120] Kelly John S. A W.B. Yeats Chronology. London, 2003, p.193 — из неопубликованной работы Майкла Баскера. [121] Именно в этой галерее состоялась первая персональная выставка Бориса Анрепа. [122] Cournos J. The Death of Futurism // The Egoist. 1917, Vol. IV, №1, pp.6-7. Перепечатано под названием «Смерть футуризма» в 8-10-ом номерах журнала «Аполлон», с. 8-10, 30-33. Джон Курнос (Cournos, 1881 — 1966), американский поэт и журналист русского происхождения, был близким другом многих английских поэтов-имажистов, в том числе Ричарда Олдингтона и Эзры Паунда. Благодаря его переводам Сологуба, Андреева и Розанова английские читатели познакомились с современной русской литературой. В октябре 1917 г. Курнос приезжал в Петроград как член Англо-русской комиссии, встречался с Сологубом, Ремизовым и Корнеем Чуковским. Виделся он и с Ахматовой (его стихи вписаны в ее альбом). Так что укол в его адрес — не совсем справедлив. [123] Baring M. With the Russians in Manchuria. London, 1905. Все сведения о Беринге — из неопубликованной работы Майкла Баскера. [124] A Year in Russia (Год в России). London, 1907; Russian People (Русский народ). London, 1911; What I Saw in Russia (Что я видел в России). London, 1913. [125] Landmarks in Russian Literature (Вехи русской литературы). London, 1910; An Outline of Russian Literature (Очерк русской литературы). London, 1914. [126] Указанная антология, с.xxxvii. [127] Гилберт Кийт Честертон (Gilbert Keith Chesterton; 29 мая 1874, Лондон, Кенсингтон —14 июня 1936, Биконсфилд, графство Бакингемшир) — выдающийся английский христианский мыслитель, автор около 80 книг. Его перу принадлежат несколько сотен стихотворений, 200 рассказов, 4000 эссе, ряд пьес, несколько романов. Его биографию можно прочитать в любой энциклопедии. [128] Джозеф Хилэр Пьер Рене Беллок (Хилэр Беллок, англ. Hilaire Belloc, 27.7.1870—16.7.1953) был сыном англичанки и полуфранцуза-полуирландца. Родился он во Франции, но его увезли оттуда в раннем детстве. Позже он очень подчеркивал свое французское происхождение. Наиболее дотошные ученые называют его «Бэлок». Писатель и историк (с 1902 года подданный Великобритании), поэт, эссеист, автором юмористических стихотворений. Один из самых плодовитых английских писателей начала XX века. Был горячим приверженцем Римско-католической церкви, что оказало большое влияние на большинство его работ. Ближайший друг Г.К. Честертона. [129] Леди Джулиет Дафф (Juliet Duff, 1881—1965) — дочь графа Лонсдейлского. С 1903 по 1914 г. была замужем за сэром Робином Даффом, ее первый муж был убит на войне в 1914 году; с 1919 по 1926 г. — за майором Трэвером. Друг многих писателей, издала в 1916 г. антологию, куда входили их стихи. Между прочим, она была также хорошо знакома с Дягилевым, покровительствовала «русским балетным сезонам». [130] Letters of Aldous Huxley. New York, 1969. p.126. [131] Источник: The Autobiography of G.К. Chesterton. New York, 1936, pp.259-261. Перевод: Гилберт Кийт Честертон. Собрание сочинений в 5 томах. Том 5. Вечный человек. Автобиография. Эссе. Амфора, СПб., 2008. Этой встрече Гумилева с Честертоном посвящена не лишенная интереса (однако чересчур безапелляционная) публикация Н.Н. Боровко «Беседа под бомбами», размещенная на сайте: http://zhurnal.lib.ru/b/borowko_nikolaj_nikolaewich/besedapodbombami.shtml . Не со всеми трактовками автора можно согласиться, однако он затрагивает некоторые «болевые точки», которые будут обозначены ниже. [132] Полковник Чарльз Э. Реппингем (1858—1925) — военный историк и журналист. [133] Аристократический район Лондона [134] Поэт на войне-4. [135] Георгий Адамович. Литературные беседы. Книга 2. «Звено» 1926 — 1928. Алетейя, СПб., 1998, сс.94-95. [136] Вортицизм (англ. Vorticism) — течение в изобразительном искусстве начала ХХ столетия в Англии, близкое к футуризму. Вортицизм представлял собой исключительно английское культурное явление, и в равной степени противостоял как импрессионизму, так и классической художественной традиции. Предтечей вортицистов был знакомый нам уже английский художник Роджер Фрай, проложивший им дорогу своими выставками «Моне и постимпрессионизм» в 1910 году и «Вторая постимпрессионистская выставка английских, французских и русских художников» в 1912 году. Большое влияние на формирование вортицизма оказал итальянский футуризм. В 1914 году несколько английских художников, среди которых были Перси Уиндхем Льюис, Лоуренс Аткинсон, Дэвид Бромберг и поэт Эзра Паунд, создают художественное объединение, основанное на понимании решающей роли индустриального процветания и мегаполисов с будущим европейской цивилизации. Печатным органом этого художественного направления, просуществовавшего 2 года, был выпускавшийся Льюисом журнал «Blast», выходивший дважды, в июле 1914 и в июле 1915 года. Паунд был идейным вдохновителем течения. Вортицизм боролся с реалистическими тенденциями в живописи, отрицал моральный аспект искусства и настаивал на автономности каждого художественного творения. Вортицисты были антагонистами французской художественной школы и считали себя представителями нордического английского искусства. По их мнению, в духе современности чувствовался особый ритм, рожденный ураганом перемен. В то же время вортицисты видели всеобщий прогресс не в скоростных измерениях новых автомобилей и самолетов, а в изменении функциональных структур и внутренней организации общества. Свои работы представители вортицизма рассматривали как свой спор с современной индустриальной цивилизацией, в которой человек чувствует себя плененным огромными городами и массовыми промышленным производствами. Преклонение перед механическим движением, практикуемое итальянскими футуристами, вортицисты отклоняли как сентиментальный романтизм. Вортицизм как художественное течение угасло ко времени окончания Первой мировой войны. [137] ПСС-8, №158, с.201. [138] Статья «Война и религия» напечатана в «The New Age» вместе с первым из «Писем из России» Бехгофера (1914, Vol.XVI, №10, January 7, pp.239—240). Она была перепечатана в русском альманахе военного времени «В тылу» со значительными цензурными сокращениями. См. «Письмо» Бехгофера (1915, Vol.XVI1, №21, September 23, pp. 497-498). [139] ПСС-7, №72. В записной книжке имеется только начало статьи — о Бальмонте. По моему мнению, Гумилев начал ее писать в июне 1917 года, скорее всего, для журнала «The New Age», но не успел завершить, и продолжать не стал. О двухнедельном периоде его пребывания в Лондоне в июне 1917-го года сохранилось множество свидетельств, тогда как от трехмесячного его пребывания в Лондоне в начале 1918-го года, помимо редких, чисто деловых военных документов, не имеется почти ни одного «постороннего» свидетельства. Поэтому представляется маловероятным, как иногда утверждается, что статья эта писалась в 1918 году. [140] Излагать здесь биографии двух выдающихся русских художников, Н.С. Гончаровой (1881 — 1962) и М.Ф. Ларионова (1881 — 1964), — не имеет смысла. Хочется только напомнить об их «заочном» знакомстве с Николаем Гумилевым 23 апреля 1911 года на страницах «Синего журнала», №18. В редакционной статье было сказано: «Только что вернувшийся из путешествия по Абиссинии молодой поэт Н. Гумилев привез редкую коллекцию картин абиссинских художников и предоставил последнюю нам, для воспроизведения на страницах «Синего Журнала». Содержание картин приведено ниже. Интересно сопоставить их с помещаемыми в этом номере снимками с картин открывшейся в Петербурге выставки «союза молодежи». Право, по замыслу и по технике рисунка африканцы не только не уступают русским художникам-модерн, но даже превосходят их во многих отношениях. Впрочем, предоставляем читателям сделать должное заключение...» Редакция «Синего журнала» таким своеобразным образом раскритиковала (поместив репродукции картин) художников Михаила Ларионова и Наталью Гончарову. Смотрите воспроизведение этих страниц журнала в публикации: Степанов Е.Е. Неакадемические комментарии-2 в журнале Toronto Slavic Quarterly №18. [141] The Burlington Magazine, Vol. XXXIV, pp.112-118. [142] The New Age, 1922, Vol. XXX, №15, February 9,1922. pp. 195-196. [143] The New Age, 1922, Vol. XXX, №13, January 26, p.165. [144] Арундель Дель Ре, чей адрес также записан Гумилевым («ЗК-13»: Arundel del Re / Authors Club / 2 Whitehall Court / London S.W.1) — итальянский журналист и критик, связанный с футуризмом и Маринетти, писал статьи и переводил для нескольких английских журналов, некоторое время был редактором журнала «Поетри Ревью» и «Поетри энд Драма». Джованни Папини, рассказы которого печатались в «The New Age» в переводах Дель Ре, некоторое время был итальянским корреспондентом журнала символистов «Весы». [145] «ЗК-14» — Записка Arundel del Re к Giovanni Papini; «ЗК-15» — Записка A. del Re к L. Giovanola; «ЗК-16» — Записка A. del Re к P. Sgabellari. [146] Гумилев-Вашингтон-4, сс.544-545. [147] На самом деле — Мари-Жан-Леон Лекок, барон д’Эрве де Юшеро, маркиз д’Эрве де Сен-Дени (фр. — Marie-Jean-Léon Lecoq, Baron d’Hervey de Juchereau, Marquis d’Hervey de Saint-Denys, 5.5.1822, Париж — 2.11.1892, там же). Известный в XIX в. французский интеллектуал, филолог, синолог-самоучка, третий заведующий кафедрой китайского языка Коллеж де Франс (1874—1892), с 1878 г. — действительный член Академии надписей (Académie des Inscriptions et de Belles-Lettres). [148] ПСС-3, №72. [149] ПСС-3, №72. Почему-то у Гумилева (?) Саутгемптон пишется через «о» — Соутгемптон. Хотя можно было бы исправить, на ритм стихотворения это никак не влияет. [150] Василий Ставицкий. За кулисами тайных событий. Серия: Секретные миссии. Изд-во Терра-Книжный клуб, М., 2004. Твердый переплет, 464 стр. (Далее — Ставицкий-2004). [151] Ставицкий-2004, сс.3-4. [152] Там же, сс.4-5. [153] Там же, с.13. [154] Исключение составляла только отправка в августе 1917-го года артиллерийской бригады генерала Беляева для укомплектования 2-й Особой русской дивизии, участвовавшей в боевых действиях на Салоникском фронте, а до этого принявшей участие в подавлении мятежа в лагере Ля Куртин в сентябре 1917-го года. [155] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.61 об. Данное распоряжение относится к лету 1917-го года, когда у власти находилось Временное Правительство. [156] Поясню, что значит — «вне всякой вализы». Вализа — это специальная упаковка, то есть это распоряжение говорит о том, что командированные офицеры могли следовать через Скандинавию в своей военной форме. Запрещалось только везти с собой оружие. [157] ПСС-3, №77; при жизни не публиковалось. Это четверостишие вошло в «Альбом Струве» (Униженье — «Вероятно, в жизни предыдущей…»), но почему-то было исключено в сборнике «К синей звезде». [158] Интеллидженс сервис (англ. — Intelligence service) — собирательное наименование сети разведывательных и контрразведывательных служб Великобритании. В эту сеть входят центральный орган разведки Сикрет интеллидженс сервис (Secret Intelligence Service (SIS), или служба MI6), центральный орган контрразведки, Служба безопасности, разведывательные и контрразведывательные службы различных ведомств. Координационным органом Интеллидженс сервис является Объединенный комитет разведки при министерстве иностранных дел и по делам Содружества. Общее руководство деятельностью разведки осуществляет правительство. Английская разведка имеет давние традиции и ведет свой отсчет с конца 15 — начала 16 века. [159] Уильям Сомерсет Моэм (англ. William Somerset Maugham; 25.1.1874, Париж — 16.12.1965, Ницца) — английский писатель. Сомерсет Моэм родился в Париже, в семье юриста британского посольства во Франции. Родители специально подготовили роды на территории посольства, чтобы ребенок имел законные основания говорить, что родился на территории Великобритании: ожидалось принятие закона, по которому все дети, родившиеся на французской территории, автоматически становились французскими гражданами и, таким образом, по достижении совершеннолетия подлежали отправке на фронт в случае войны. В детстве Моэм говорил только по-французски, английский освоил лишь после того, как в 11 лет осиротел (мать умерла от чахотки в феврале 1882 г., отец умер от рака желудка в июне 1884 г.), и был отослан к родственникам в английский город Уитстебл в графстве Кент, в шести милях от Кентербери. Так как Уильям воспитывался в семье Генри Моэма, викария в Уитстебле, то он начал учебу в Королевской школе в Кентербери. Затем изучал литературу и философию в Гейдельбергском университете — в Гейдельберге Моэм написал свое первое сочинение — биографию немецкого композитора Меербера (когда оно было отвергнуто издателем, Моэм сжег рукопись). Затем поступил в медицинскую школу (1892) при больнице св. Фомы в Лондоне — этот опыт отражен в первом романе Моэма «Лиза из Ламбета» (1897). Первый успех на поприще литературы Моэму принесла пьеса «Леди Фредерик» (1907). Во время первой мировой войны сотрудничал с МИ-5, в качестве агента британской разведки был послан в Россию. Работа разведчика нашла отражение в сборнике новелл «Эшенден, или Британский агент» (1928, русский перевод 1992). [160] С. Моэм. Луна и грош. Записные книжки: Роман, эссе. Пер. с англ. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. [161] Романы Роберта Л. Стивенсона. [162] Яков Григорьевич Жилинский (15.3.1853 — 1918) — русский генерал от кавалерии. Родился в дворянской семье. В 1876 году окончил Николаевское кавалерийское училище. Выпущен в Кавалергардский полк, заведовал учебной командой полка. В 1883 окончил Николаевскую Академию Генерального Штаба по первому разряду. С 26 ноября 1885 старший адъютант штаба 1-й гренадерской дивизии. С 11 февраля 1887 младший, с 14 февраля 1894 — старший делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. Принимал участие в работах по изучению и исследованию иностранных государств, результатом чего явились многочисленные печатные труды, в большинстве не подлежавшие оглашению. Со 2 мая 1898 состоял в распоряжении начальника Главного штаба, был военным агентом при испанской армии на Кубе во время испано-американской войны (1898). О своих наблюдениях представил интересный и подробный отчет, в котором представил полную картину войны с выяснением причин поражений и неудач испанской армии. В 1899 был делегатом от военного министерства на Гаагской мирной конференции. С 18 августа 1899 — командир 52-го драгунского Нежинского полка. С 3 августа 1900 генерал-квартирмейстер, с 1 мая 1903 2-й генерал-квартирмейстер Главного штаба. 29 января 1904 назначен начальником полевого штаба наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева, на котором оставался до отзыва Алексеева и расформирования штаба в октябре 1904. С 5 января 1905 состоял в распоряжении военного министра. Командовал 14-й кавалерийской дивизией (с 27 января 1906), 10-м армейским корпусом (с 7 июля 1907). Генерал от кавалерии (18 апреля 1910). С 22 февраля 1911 начальник Генерального штаба. С 4 марта 1914 назначен командующим войсками Варшавского военного округа и Варшавским генерал-губернатором. 19 июля 1914 назначен Главнокомандующим армиями Северо-Западного Фронта (там, где начал свою военную службу Николай Гумилев). По итогам боев в Восточной Пруссии 3 сентября 1914 снят с поста Главнокомандующего армиями и генерал-губернатора и переведен в распоряжение военного министра. В 1915—1916 представлял русское командование в Союзном совете во Франции. Весной 1917-го года отозван в Россию. 19 сентября 1917 уволен со службы с мундиром и пенсией. После Октябрьской революции пытался выехать за границу, но был арестован и расстрелян большевиками. [163] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.5. Палицын Федор Федорович (28.10.1851 — 20.2.1923, Берлин, Германия), генерал от инфантерии (6.5.1907), был Представителем Его Императорского Величества при Французской армии. Образование получил в 1-м Павловском училище (1870) и Николаевской академии Генштаба (1877). С 1.1.1889 начальник штаба 2-й гвардейской кав. дивизии. С 19.11.1891 помощник начальника штаба войск гвардии и Петербургского ВО. С 19.4.1895 начальник штаба гвардейского корпуса. 31.5.1895 назначен начальником штаба генерал-инспектора кавалерии, которым был великий князь Николай Николаевич. Был одним из ближайших сотрудников великого князя, пользовался его протекцией. 21.6.1905 при поддержке великого князя занял пост начальника Генштаба, причем в это время Генштаб был самостоятельным органом, не подчиненным военному министру. В конце концов, борьба между великим князем и военным министром закончилась победой последнего, Генштаб был передан в состав Военного министерства, а Палицын 13.11.1908 потерял пост и был назначен членом Государственного совета. Во время войны — в распоряжении главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта. В сентябре 1915 сменил генерала Я. Г. Жилинского на посту представителя русской армии в Военном совете союзных армий в Версале. Снят вскоре после 1.5.1917. 11.10.1917 уволен от службы по прошению с мундиром и пенсией. В 1918-20 председатель Военно-исторического и статистического комитета при Русском политическом Совещании в Париже. Позже состоял членом Общества взаимопомощи офицеров Генштаба в Берлине; учредитель и 1-й председатель Общества взаимопомощи Союза офицеров в Париже. В конце жизни сильно нуждался. (К.А. Залесский. Кто был кто в первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь, М., 2003). [164] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.30, л.29 об. [165] Занкевич Михаил Ипполитович (17.09.1872 — 14.05.1942). (Отметим, что почему-то в большинстве посвященных Гумилеву публикаций его называют — Михаил Александрович). Генерал-майор (07.09.1914). Окончил Псковский кадетский корпус (1891), Павловское военное училище (1893) и Николаевскую академию Генерального штаба (1899). Военный агент в Румынии (01.1905 — 10.1910) и в Австро-Венгрии (10.1910 — 07.1913). Участник Первой Мировой войны: командир 146-го пехотного полка (03.1915 — 05.1916). С 20.05.1916 начальник штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Генерал-квартирмейстер Генштаба (07.1916 — 02.1917). Начальник военной охраны Петрограда в феврале — апреле 1917 года. Представитель русской армии во Франции с мая 1917 года до расформирования служб в начале 1918 года. В июле 1919 года вернулся в Россию, принял участие в Белом движении в штабе Русской армии Колчака (генерал-квартирмейстер), начальник штаба группы Северных армий (1-й и 2-й) генерала Н.А. Лохвицкого (08.1918 — 10.1919). Начальник штаба Ставки Главнокомандующего Русской армией адмирала Колчака (11.1919 — 01.1920). Эмигрант. Жил во Франции. Председатель объединения лейб-гвардейского Павловского полка, с 1934 — председатель объединения Псковского кадетского корпуса. Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. В некоторых справочных изданиях (например: Валерий Клавинг. Гражданская война в России: Белые армии. Военно-историческая библиотека, М., 2003) говорится, что Занкевич в феврале 1920 года попал в плен, содержался в Покровском лагере ГУЛАГа, был расстрелян большевиками. Видимо, это не соответствует действительности. [166] РГВИА, ф.15236, оп.1, д.7, л.2 и далее. [167] РГВИА, 15304, оп.2, д.40, л.87-111. Уже в марте 1917 года была издана брошюра: «Временное положение о военных комиссарах». [168] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.39 об. [169] В лице представителя Временного правительства при русских войсках во Франции генерала Занкевича, а также не подчинявшегося ему, но тесно с ним взаимодействовавшего, назначенного непосредственно Военным министром Керенским, Военного комиссара Е.И. Раппа. [170] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.7; приказ №213 по военному ведомству от 16/29 апреля 1917 г., там же, л.60-67; дополнение к этому приказу, приказ №271 от 8/21 мая, там же, л.68-73. [171] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.30, л.44 об. [172] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.30, л.46 об. [173] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19. [174] Евгений Иванович Рапп (1868 — 1946) был адвокатом по профессии, старым деятелем революционного движения, принадлежал к эсеровской партии. Вскоре его ближайшим помощником в Париже стал Николай Гумилев. О некоторых любопытных подробностях его биографии будет сказано ниже. [175] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.112. [176] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.114. [177] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.42. [178] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.119. [179] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.123. [180] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.120. [181] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.1-4, — в этом деле приводится «Устав Полкового комитета 1-го Особого пехотного полка», утвержденный после посещения полка Раппом 2 июня 1917 года. [182] Разберемся с «терминологией». Военный агент (так эта должность называлась до 1917 года в России, в дальнейшем — военный атташе) — представитель военного ведомства при дипломатическом представительстве назначившего его государства (аккредитуется при МИД страны пребывания). Одновременно является советником дипломатического представителя по военным вопросам, пользуется привилегиями и иммунитетами наравне с дипломатическим персоналом. Часто военный атташе (или атташе по вопросам обороны) имеет штат сотрудников, называемый военный атташат. Вспомните, как упоминавшийся выше В. Ставицкий, именующий себя «профессиональным контрразведчиком», «ввел» Гумилева в состав «военного атташата особого экспедиционного корпуса Российской армии». Гумилев при Игнатьеве никогда не служил. [183] РГВИА, ф.15304, оп.1, д.351. [184] Игнатьев-1986, с.644. [185] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19. [186] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.7. [187] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.1. [188] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.29, л.1. [189] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.42, л.2. [190] Смотрите: В. Авдеев, В.В. Карпов. Секретная миссия в Париже. Граф Игнатьев против немецкой разведки в 1915-1917 гг. Изд-во Вече, М., 2009. П.А. Игнатьев, полковник Генерального штаба, в конце 1915 года он был направлен лично императором Николаем II в Париж для того, чтобы наладить обмен информацией с разведывательными службами других стран Антанты и создать агентурную сеть русской военной разведки в Германии и Австро-Венгрии, что было им выполнено. Было собрано много важной секретной информации. [191] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.65. [192] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.142; ф.15304, оп.2, д.41, л.5. [193] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.41, л.22. Обратите внимание: когда в январе 1918-го года генерал Ермолов намеревался отправить Гумилева из Лондона в Россию, выдав ему под расписку 54 фунта, он руководствовался теми же расценками стоимости проезда из Англии; об этом будет сказано ниже. [194] Гапаранда — город в шведской провинции Норрботтен, или Лулео, у северного конца Ботнического залива, близ устья реки Торнео, напротив пограничного, когда-то русского города Торнео (ныне — Торнио в Финляндии). Город основан после присоединения Финляндии к России. [195] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.125. [196] РГВИА, ф.15304, оп.1, д.240, д.241, д.351. [197] Данилов-1933, сс.134-136. [198] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.3. [199] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.31. [200] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.4. [201] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19; ф.15223, оп.1, д.18, л.106. [202] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.46, л.9. [203] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.7, л.5 об. [204] Хранится в ГТГ; рисунок воспроизведен в книге: М. Ларионов и Н. Гончарова. Парижское наследие в Третьяковской галерее. М.: ГТГ, 1999, с.47 (репродукция) и с.91 (каталог). В каталоге указывается, что «в собрании ГТГ хранятся портретные зарисовки поэта (тушь), исполненные во время его последней поездки в Париж». Пока, к сожалению, не удалось выяснить, какие именно зарисовки хранятся в ГТГ. [205] Ларионов-1970, с.408. [206] Альма Эдуардовна Полякова — представительница династии московских банкиров, промышленников, строителей железных дорог. Яков Соломонович Поляков (1832—1909), финансист, учредитель Азовско-Донского Коммерческого банка, Донского земского банка и др. Не меньшей известностью в деловых кругах России пользовались его братья: Самуил Соломонович (1836—1888), подрядчик Козлово-Воронежско-Ростовской, Курско-Харьковско-Азовской и других железных дорог, и крупный финансист, основатель Московского Земского банка Лазарь Соломонович (1842—1927). (Из книги: Людмила Лопато, Александр Васильев. Волшебное зеркало воспоминаний. М., Захаров, 2003). [207] (Примечание Глеба Струве). «В моем гумилевском архиве имеется его визитная карточка, на которой напечатано: Е. RAPP — «Délégué du Ministre de la guerre russe» («Представитель русского военного Министра») и от руки приписано: «et du Soviet d'ouvriers et soldats» («И Совета рабочих и солдатских <депутатов>«). Внизу сбоку, слева и справа — адрес и номер телефона, а на обороте написано рукой самого Раппа: Mr. le S/Lt Goumileff est mon officier d'ordonnance, ce que je certifie. — E. Rapp. 3 Août 1917 (Г. Мл. лейтенант Гумилев, офицер для поручений, утверждено. — Е. Рапп. 3 августа 1917). Кто такая Анна Марковна Сталь, выяснить не удалось». О А.М. Сталь удалось найти у Игнатьева. Как всегда ища виновных, жалуясь на интриги вокруг его имени, он писал в своих мемуарах: «С трудом удалось узнать, что они исходили, главным образом, из салона некоей русской госпожи Сталь, уже немолодой, но считавшейся интересной женщины, проявившей, между прочим, особое покровительство Занкевичу. Муж ее, парижский адвокат Сталь, о котором до революции я и не слыхивал, оказался видным «революционным» деятелем и получил при Временном правительстве должность чуть ли не прокурора правительствуюшего сената, когда-то высшей судебной инстанции России» (Игнатьев-1986, с.660). [208] РГВИА, ф.15236, оп.1, д.7, л.43; ф.15304, оп.1, д.239. В деле сохранилось его письмо. [209] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [210] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.23 об. [211] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.24 об. [212] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.25 об. [213] Сергей Григорьевич Сватиков (1880 — 1942) — историк, общественный деятель. По окончании ростовской гимназии учился на юридическом факультете Петербургского университета. Был исключен за участие в студенческом движении. Завершил образование в Гейдельбергском университете, получив в 1904 звание доктора философии. Сотрудничал в журнале «Освобождение», издававшемся П.Б. Струве. Вступил в РСДРП, меньшевик. Весной 1907 встречался с Плехановым в Сан-Ремо, переписывался с ним, но вскоре перешел на позиции «ликвидаторства». «Сведущее лицо» в комиссиях при социал-демократических фракциях 2-й и 3-й Государственной думы, читал лекции в петербургских рабочих клубах по истории освободительного движения в России (в 1908 запрещены градоначальником), проводил экскурсии для рабочих в музеях. В 1905 издал книгу «Общественное движение в России» и брошюру «Созыв народных представителей». В письме Плеханову (февраль 1908) сообщал, что закончил книгу «Проекты и попытки изменения государственного строя в России (с 1801 по 1881 г.)» — на основе диссертации, изданной в Гейдельберге (1904, на нем. яз.). Статьи и рецензии Сватикова публиковались в журналах «Былое», «Голос минувшего», «Исторический вестник», «Русское богатство», «Современный мир», «Русская мысль». Ряд работ посвятил истории высших учебных заведений: «Русские университеты и их историческая биография»; «Увольнение В.И. Семевского и петербургское студенчество» (Голос минувшего, 1916, № 2): «Опальная профессура 80-х» (Там же, 1917, № 2). Подтвердив в России юридическое образование, стал помощником присяжного поверенного. В 1915 — 1917 преподавал на Бестужевских курсах. В период первой мировой войны оборонец. Активный участник февральской революции. 27 и 28 февраля он был комиссаром Временного комитета Государственной думы и Совета рабочих депутатов в Технологическом районе Петрограда. Уже 1 марта, то есть еще до образования Временного правительства занял место помощника Петроградского градоначальника по гражданской части. 18 марта 1917 назначен помощником начальника Главного управления по делам милиции. В мае 1917 направлен в качестве комиссара Временного правительства в западноевропейские страны для ликвидации заграничной агентуры Департамента полиции и проверки дипломатических служб. Во Франции Сватиков встречался с Раймоном Пуанкаре: допрашивал бывших секретных сотрудников парижского бюро охранки. Реабилитировал эсера М. Куриско и большевика Максима Литвинова. Посещал войска русского экспедиционного корпуса во Франции. По итогам командировки составил отчет Временному правительству (октябрь 1917). Написал также книгу «Русский политический сыск за границей» (Ростов на Дону. 1918; в 1941 была переиздана НКВД «для служебного пользования»). В ноябре 1917 уехал, чтобы избежать ареста, в Ростов-на-Дону. Сотрудничал в конце 1917 — начале 1918 г. с генералами Алексеевым и знакомым по Петрограду — Корниловым. В январе-феврале 1919 работал в отделе пропаганды при Особом совещании — правительстве генерала Деникина. К этой работе его привлек предприниматель и издатель Н.Е. Парамонов, одноклассник Сватикова. Сватиков и Парамонов вынуждены были уйти в отставку под давлением председателя Особого совещания генерала Драгомирова и других сторонников реставрации монархии. Намеревался организовать за границей с помощью Владимира Бурцева, которого знал с 1906, пропаганду в пользу белых (издание литературы, создание Российского телеграфного агентства); по-видимому, с этой целью выехал в феврале 1920 в Париж, где и остался после поражения Деникина. Был парижским представителем Русского заграничного архива в Праге, членом правления Русской библиотеки им. И.Тургенева. Сотрудничал в газете «Общее дело», в журналах «Родимый край», «Донская летопись» (Вена), в «Казачьем журнале», Читал в Сорбонне лекции по истории политических идей и студенчества в России. Участвовал в проведении литературных утренников для детей эмигрантов, Дней русской культуры, выступал с докладами и чтением произведений русских классиков. В 1924 в Белграде вышла книга — «Россия и Дон (1549-1917)» (1-я часть печаталась в конце 1919 — начале 1920 в Новочеркасске, но почти весь тираж погиб). В последующие годы Сватиков продолжал изучать историю общественного движения в России («Россия и Сибирь. К истории сибирского областничества в XIX в.». Прага, 1930; «Аркадий Гончаренко — основатель русской печати в Северной Америке». Париж, 1938). В октябре 1934 выступал свидетелем и экспертом на Бернском процессе по делу об авторстве «Протоколов сионских мудрецов». Доказывал на основании сведений, полученных им в 1917, что «Протоколы» — фальшивка. [214] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.51, л.3. [215] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.27. [216] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.22, л.2. [217] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.138-138 об. [218] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.140. [219] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.51, л.4. [220] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.39. [221] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.46, л.33; ф.15304, оп.2, д.40, л.127. [222] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19, л.106. Этот приказ о назначении Раппа был опубликован в только что учрежденной газете «Русский солдат-гражданин во Франции», №2 от 13/26 июля 1917 года, а распоряжение о полномочиях Комиссара — в №3 от 14/27 июля. В №5 газеты (от 16/29 июля) напечатано воззвание Е.И. Раппа ко всем русским солдатам во Франции. [223] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.30, л.177. [224] РГВИА, ф.15234, оп.2, д.5, л.8-8 об. [225] РГВИА, ф.15230, оп.1, д.30, л.167. [226] ф.15223, оп.1, д.57, л.7. [227] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.45. [228] Ларионов-1970, с.406. Опубликованные Глебом Струве письма М. Ларионова относятся к 1952-1953 годам. Хотя времени со дня описываемых в них событий прошло много, более 30 лет, изложенной в них информации вполне можно доверять, так как она косвенно подтверждается и другими источниками. [229] Примечание Г. Струве к публикации. — «В 4-м томе «Собрания сочинений» Гумилева под редакцией моей и Б.А. Филиппова напечатано письмо А. Цитрона в редакцию парижской газеты «Последние Новости» (полностью письмо Цитрона будет приведено ниже), в котором он писал, что живший у него Н.С. Гумилев оставил ему, уезжая из Парижа, ящик с книгами, а также «значительное количество картин, гравюр, рисунков и альбом, купленные в Париже». <…> Уже после выхода последнего тома нашего четырехтомника А.К. Томилина-Ларионова прислала мне копию следующего письма А. Цитрона к М.Ф. Ларионову от 5 января 1927 г. (жил Цитрон в это время уже не под метро «Пасси», а в Нейи): «Мой старый Ларионов, очень прошу позвонить мне, чтобы условиться о создании студии имени нашего покойного друга Н.С. Гумилева. Я обращусь к ряду его друзей с просьбой помочь создать эту студию, для которой подходящее помещение имеется! Хочу условиться заранее с тобою — и собрать воедино все его, священные для нас, вещи. Прошу позвонить мне в ближайший же день. С искренним и лучшим приветом А. Цитрон». Как это ни странно, нет никаких следов того, чтобы этому делу был дан какой-то ход. Нет никаких указаний и на то, чтобы первое письмо Цитрона, которое мне долго оставалось неизвестно, вызвало какие-нибудь отклики. Может быть, какие-нибудь следы переписки с Цитроном отыщутся в бумагах К.В. Мочульского. Разыскать следы самого Цитрона мне не удалось, и судьба хранившихся у него книг Гумилева неизвестна, как неизвестно и что именно он передал (если передал) М.Ф. Ларионову». Как удалось выяснить, Александр Львович Цитрон (даты жизни установить пока не удалось) в начале 1910-х годов жил в Петербурге, возможно, был как-то связан с окружением А. Блока, по крайней мере, его имя упоминается в блоковском томе «Литературного наследства»: том 92, книга 2, М., Наука, 1981, с.98. [230] Примечание Г. Струве к публикации. — «Речь идет о гумилевском альбоме с его стихами, который был в числе полученных мною от Б. В. Анрепа материалов. В него входили стихи, составившие цикл «К синей звезде», и некоторые другие». Во втором томе (Гумилев-Вашингтон-2, сс.273-275) г. Струве подробно описывает этот альбом Н.С. Гумилева, включивший в себя 76 стихотворений. Альбом включает в себя рисунки и оформление некоторых стихотворений, выполненное художниками Натальей Гончаровой, Михаилом Ларионовым и Дмитрием Стеллецким. Ниже, в Приложении 3, этот альбом будет описан подробно. [231] Примечание Г. Струве к публикации. — «Елена Карловна Дюбуше, дочь известного русско-французского хирурга. Вышла замуж за американца, уехала в Америку и жила впоследствии в Чикаго. Ей посвящены стихи сборника «К синей звезде», изданного в Париже посмертно (1923) заботами К.В. Мочульского. В одном из стихотворений сборника Гумилев писал шутливо о подаренном им Е.К. Дюбуше альбоме со своими стихами, который (говорил он) «Будет в библиотеке стоять / Вашего расчетливого внука / В год две тысячи и двадцать пять». Местонахождение этого альбома в настоящее время неизвестно; может быть, он и стоит среди книг внука Е.К. Дюбуше. Другой — видимо, не вполне идентичный — альбом с парижскими стихами, иллюстрированный Ларионовым, Гончаровой и Стеллецким, принадлежит Г.П. Струве (см. предыдущее примечание)». [232] Сад Тюильри в центре Парижа, радом с Лувром и аркой «Карусель». [233] Чтобы не вносить разнобой, в дальнейшем я буду придерживаться написания ее имени так, как сложилось — «Дюбуше», однако правильно было бы писать — «Дю-Буше». Именно так она сама подписывалась в обнаруженных в архиве документах. [234] Смотрите сайт: http://www.inbi.ras.ru/history/bach/vnuk-o-bache.pdf ; печатную публикацию найти не удалось. [235] Речь идет о повести В.П. Катаева «Маленькая железная дверь в стене». В ней Катаев рассказывает как о посещении кабинета Дюбуше в детстве, в Одессе, когда тот извлек из пальца Катаева проткнувший его вязальный крючок, так и о том, как в Париже Дюбуше спас травмированную ногу товарища Ленина по партии Инока (Иосифа Дубровинского). В своей повести Катаев пишет: «Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что я тоже знал знаменитого хирурга. Я даже был знаком с ним лично. Мы жили в Одессе, на так называемой даче «Отрада», где совсем недалеко от нас находилась больница Дюбуше, весьма популярная в городе, так как сам доктор Дюбуше слыл не только выдающимся хирургом, делавшим буквально чудеса, но также и очень «красным», как назывались в то время революционеры. Было известно, что в девятьсот пятом году, во время баррикадных боев, он оказывал медицинскую помощь раненым дружинникам и часто прятал их в своей больнице от полиции». [236] Э. Герштейн. Из воспоминаний. Письма Анны Ахматовой. «Вопросы литературы», 1989, №6, сс.252-253. [237] Ларионов-1970, сс.407-408. [238] Впервые весь цикл, видимо, по полученному публикатором (друг Гумилева — К.В. Мочульский) альбому, был напечатан в издательстве «Петрополис» в Берлине, в 1923 году. Сборник назывался: Гумилев Н.С. К синей звезде. Неизданные стихи 1918 г. [239] ПСС-3, №87. [240] Лигейя — героиня одноименного рассказа Э. По. Один из комментаторов (E. Rusinko. «K Sinej Zvezde». Gumilev’s Love Poems. Russian Language Journal. 1977, vol.31, №109, p.166) отмечает, что она, помимо чистоты, мудрости и возвышенной натуры, обладает «газельими глазами» — именно эту особенность своей «Синей звезды» Гумилев часто повторяет в стихах из альбома. [241] Журнал обозначен — Klin Khir. 1971, Jul;7: 88-90. Возможно — «Клиническая хирургия», №7, июль, 1971, сс.88-90. Однако найти его не удалось. Такой журнал существует, основан он в 1921 году, издается на Украине. [242] ПСС-8, №73. Это стихотворение в сборник «К синей звезде» не вошло, но в альбоме Струве оно есть. [243] Ларионов-1970, сс.406, 408-409. [244] Примечание Г. Струве к публикации. — «Феодора» — первоначальный замысел (а может быть и название) пьесы «Отравленная туника». [245] Примечание Г. Струве к публикации. — «Ларионов, очевидно, не знал, что «Гондла» был напечатан еще до приезда Гумилева на Запад — в первой книге «Русской Мысли» за 1917 год — в одном номере с «Возмездием» А. Блока». [246] ПСС-8, №169. Впервые опубликована Г. Струве в — Новое русское слово, 22 июля 1971. Сейчас хранится в ГТГ, архив М. Ларионова и Н. Гончаровой; ф.180, №61. Фонд полностью не разобран и не описан. [247] Примечание Г. Струве к публикации. — «Рисунки, изображающие Гумилева с С.П. Дягилевым и Гийомом Аполлинером, не были присланы мне Ларионовым. Фотокопии трех рисунков самого Гумилева я получил уже в 1969 г. от А.К. Томилиной-Ларионовой, вдовы М.Ф.». Часть этих рисунков была опубликована Глебом Струве в 3-м и 4-м томах собрания сочинений поэта, все они воспроизведены ниже. В настоящее время их оригиналы, видимо, хранятся в фонде Ларионова в ГТГ, но какие именно — выяснить пока не удалось. [248] «Пабло познакомился с ней в Риме: художник много времени проводил с балетной труппой Дягилева, путешествовал с ней по Италии. Не сразу эта девушка с царственной осанкой привлекла его внимание. А когда он ее «увидел», то уже не смог забыть. Пикассо вообще нравилось все русское. Как и многие иностранцы, он любил Достоевского и в каждой русской женщине видел Настасью Филипповну. Позднее художник понял, что ничего инфернального в его избраннице не было. Но это потом, а пока Ольга полонила его. Она очень отличалась от прежних его подружек. «В ней есть мудрость и спокойствие, — с удивлением и восторгом говорил он Игорю Стравинскому. — А это, если вдуматься, куда более редкий дар, чем умение танцевать». К тому же Ольга была сдержанна в общении. Не скрывала, что ее мало интересует живопись, совсем не проявляла внимания к его творчеству. Они много бродили по Риму, оставались наедине, но Ольга не давала повода для полного сближения. Пикассо был в растерянности: как завоевать эту женщину? «Она русская, — объяснял Дягилев. — На таких, как она, приходится жениться…» Легко сказать — жениться. Пикассо шесть лет назад похоронил любимую женщину. С тех пор у него не было серьезных привязанностей. Ему почти 40, а Ольга так молода, хороша. «Поглядела бы ты на ее гордую осанку, на неприступность поистине аристократическую», — писал художник писательнице Гертруде Стайн. Но все-таки он решился. А Ольга? Она не была влюблена. Более того, ее пугал горячий темперамент Пикассо, его необузданность. А еще ее пугал «завтрашний день». Шел 1917-й год. Первая мировая война, революция и гражданская война в России, невозможность вернуться на родину. Последней каплей в ее сомнениях был провал спектакля «Парад» в парижском театре «Шатле», после которого публика в зале начала кричать: «Смерть русским!». Дягилев вынужден был отправиться на гастроли в Латинскую Америку. Ольга покидает труппу и… переезжает к Пикассо. Венчание проходило по православному обряду в русской церкви в Париже на рю Дарю». (Анна Безелянская. Мадам Пикассо. «Студенческий меридиан», 26 января 2007). [249] Тименчик Р.Д. Гумилев — Футурист? Поэзия и живопись: сборник трудов памяти Н.И. Харджиева. М., 2000, сс.509-511. См. — http://gumilev.ru/about/63/ . [250] Приведенная информация предоставлена автору Ефимом Резваном и дается с его согласия. Изложена она в подготовленном проекте постановки балета «Гафиз. 1921» (на правах рукописи). [251] Ксерокопия этого рисунка Д. Стеллецкого была предоставлена автору Романом Тименчиком. Где находится в настоящее время оригинал — неизвестно. [252] Вот эти стихи, по ПСС-3: 1) Война — №15; 2) Наступленье — №14; З) Смерть — №16; 4) Виденье — №21 (Больной); 5) Солнце духа — №18; 6) Рабочий — №45; 7) В Северном Море — №68; 8) Травы — №44 (Детство); 9) Пятистопные ямбы — №33; 10) Третий год — №42 (Второй год); 11) Ода д'Аннунцио — №31; 12) Рай — №32. [253] Примечание Г. Струве к публикации. — «Две первые из этих акварелей Н.С. Гончаровой были в 1931 г., к десятилетию со дня смерти Гумилева, воспроизведены в парижской еженедельной газете «Россия и Славянство». Они были воспроизведены с этой газеты в предыдущем выпуске — «Поэт на войне-6». Как видно из письма Ларионова, эти две акварели в 1953 году были еще у М. Ларионова. Сейчас архив Ларионова и Гончаровой передан в ГТГ, до конца он не разобран и не описан. Возможно, они там и найдутся. Что же касается третьей акварели, то она попала в частное собрание. Впервые эта замечательная акварель была опубликована в сборнике трудов к 100-летию поэта: «Nikolaj Gumilev. 1886 — 1986. Berkeley Slavic Specialties, 1987». Хранится она сейчас в собрании Джона Стюарта в Лондоне; она была представлена на выставке в Русском музее «Время собирать…» в 2008 году и воспроизведена в каталоге этой выставки. [254] Гумилев-Вашингтон-4, с.591. Сам рассказ смотрите ПСС-6, №17. [255] ПСС-8, №108. [256] Гумилев-Вашингтон-1, с.XLIX. [257] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19, л.107. [000] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.42, л.28. [258] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.7, л.21-21 об. Любопытно, что через три дня в газете «Русский солдат-гражданин во Франции», №5 от 16/29 июля 1917 года, когда Рапп был в Бресте, опубликовано его воззвание к солдатам. Предполагаю, что к его тексту мог успеть приложить руку Гумилев — как было со многими подписанными Раппом приказами и распоряжениями. [260] РГВИА, ф.15304, оп.4, д.149. л.179. [261] «В истории со складами в Бресте еще в конце июня 1917 года было проведено расследование, материалы которого сохранились. Русское военное имущество постепенно приходило в негодность от небрежного хранения (тысячи ящиков с ржавыми касками, патронами, снарядами, автомобилями, гнилой конской сбруей). Все закупки на сумму в 20 миллиардов рублей и хранение приобретенного имущества находились в ведении графа Игнатьева, причем общая сумма ущерба от преступного недосмотра составила многие миллионы рублей». — Андрей Ганин. «Любимые женщины братьев Игнатьевых. Во что они обошлись России?» Журнал «Родина», №3, 2007. Смотрите сайт: http://ricolor.org/history/voen/bitv/xx/1_world_war/ganin/ . [262] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.29. [263] Лагерь Ля Курно расположен рядом с Бордо. В основном, там были размещены африканские части. После начавшегося разброда в русских бригадах французские власти, видимо, приравняли их к «африканцам». Сохранилась документальная хроника жизни в лагере Ля Курно во время Первой мировой войны. Смотрите сайт: http://www.youtube.com/watch?v=FJHfGG4_rqw . На кадрах хроники среди африканцев изредка мелькают и русские лица. [264] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.43. [265] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.131. [266] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.132-133. [267] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19; ф.15223, оп.1, д.18, л.85; ф.391, оп.2, д.44. [268] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.44. [269] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.47. [270] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.7, л.26 об. [271] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.129, л.23. [272] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.34, л.99. [273] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.34, л.121. [274] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.129, л.55. [275] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.129, л.56-56 об. [276] Подчеркнуто в тексте документа. [277] Слова «Г-н Штакельберг … продолжает исправно получать содержание», — подчеркнуты карандашом, и на полях написано: «выяснить и составить ответ». [278] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.129, л.52. Напомню читателю о «небольшой сумме» (в несколько сот миллионов), лежавшей на его личных счетах в банках Франции. [279] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.29, л.20. Подлинник. Машинопись. [280] Так в тексте, Гумилев был прапорщиком. [281] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.7, л.32-32 об. [282] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.50. [283] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.55. [284] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.1, л.119. [285] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.37, л.1. [286] ГА РФ, ф.Р-5881, оп.2, д.458, л.8–9. [287] ГА РФ, ф.Р-6167, оп.1, 55 ед. хр., 1917 — 1920. [288] «Русский солдат-гражданин во Франции», №21 от 5/18 августа 1917 года, с.7. [289] «Русский солдат-гражданин во Франции», №10 от 22.7/4.8 1917 года, с.5. [290] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.43, л.36. [291] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.43, л.33. [292] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4. [293] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.46, л.48. [294] ГТГ, архив М. Ларионова и Н. Гончаровой; ф.180, документ без номера. Фонд полностью не разобран и не описан. Сведения от переписавшего документы в этом фонде Сергея Сербина. [295] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.31, л.46. [296] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4. [297] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.50. [298] Смотрите о нем: Русские писатели-4, сс.79-84. [299] Н. Минский. Рецензия на «Огненный столп». «Новая русская книга», Берлин, №1, 1922, сс.14-16.
[300] Здесь Минский запамятовал. Гумилев в письме Брюсову из Парижа от 26 декабря 1906/8 января 1907 года писал (до этого рассказав о своем неудачном знакомстве с З. Гиппиус и Д. Мережковским): «Зато я нашел самый радушный прием у бывшего сотрудника «Весов» Щукина. У него я познакомился с Минским и, может быть, познакомлюсь с Бальмонтом…» Видимо, тогда знакомство было мимолетным, и Минский Гумилева не запомнил. [301] Подробнее о нем смотрите: Русские писатели-5, сс.507-509. Любопытный факт: известный советский поэт Михаил Светлов (настоящая фамилия — Шейнкман) получил свой псевдоним в честь этого Светлова. Псевдоним ему нашли, как он пишет в поэме «Юность. Вступление», сотрудники губкома комсомола: «Наконец натолкнулись / И, перебирая архивы, / Окрестили «Светловым» — / Покойным редактором «Нивы». Хотя в описываемый период «наш» Светлов был жив. С 1917 года он жил в Париже, сотрудничал в различных периодических изданиях («Возрождение», «Le Temps russe» в Париже, «Dancing Times» в Лондоне и др.), где помещал главным образом материалы по балету, выпустил на англ. и фр. языках монографии, посвященные Н. Павловой и Т.П. Карсавиной. [302] С. Лифарь. Дягилев. СПб., 1993, с.216. [303] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.208, л.369. [304] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.208, л.512. [305] Смотрите о нем: Русские писатели-4, сс.500-501. [306] Курляндский-2, сс.117-119; Курляндский-3, с.271. Все остальные публикации ссылаются исключительно на эти работы И. Курляндского, работавшего при их написании в РГВИА. [307] А.И. Серков. Парижская ажанда Зинаиды Гиппиус. В кн.: Записки отдела рукописей РГБ. Вып. 51. М.: 2000, сс.281-298. [308] РГАЛИ, ф.1496, оп.1, д.932. [309] Игнатьев-1986, с.642. [310] Л.Ю. Бердяева. Профессия: жена философа. Библиотека мемуаров. М., Молодая Гвардия, 2002, с.31. [311] Там же, сс.88, 119, 147, 153, 178, 200. [312] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.54 об. [313] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.55 об. [314] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.57. [315] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.134-134 об. [316] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19, л.139. [317] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.6-7; ф.15234, оп.1, д.46, л.101; ф.15234, оп.1, д.30, л.152 об. [318] Подчеркнуто в тексте. [319] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.46, л.102. [320] ПСС-8, №168. Автограф — РО ИРЛИ, р.1, оп.5, №499. [321] Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — историк литературы, критик. Друг Вяч. Иванова, он позднее с позиций последнего излагал эволюцию литературных установок Гумилева: «Самостоятельный, энергичный, вовсе не мечтатель, прямой, с умом простым и ясным, он почувствовал себя иным, чем поэты-символисты. С холодной сознательностью, твердо и спокойно разобравшись в тогдашних литературных течениях, Гумилев определил себе свой собственный путь. <...> Это значит, что все постороннее формам и красочности, вся запутанная осложненность идей и вообще мировоззрения, тревожность исканий, думы несвязные — все это сочтено посторонним. Повелась дружеская борьба против Вячеслава Иванова. <...> «Акмеизм» был только шагом назад, упрощением, отказом от трудной задачи, как в этом сознаются, сами того не замечая, его теоретики» (Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин, 1923, с. 108—109). (Гумилев-1991-3, с.342-343). [322] Мещерский Борис Алексеевич (1889 — 1957) — выпускник Александровского лицея, художник, участвовавший в росписи «Бродячей собаки» (Гумилев-1991-3, с.343). [323] С.Ю. Судейкин (1884 — 1946), художник, также расписывавший «Бродячую собаку», и его жена О.А. Глебова-Судейкина (1890 — 1945), актриса, художница по куклам, приятельница Ахматовой, одна из главных героинь ее «Поэмы без героя». [324] Трубников Александр Александрович (1883 — 1966) — искусствовед, прозаик (под псевдонимом «Андрей Трофимов»), сотрудник журнала «Старые годы» и «Аполлон» (Гумилев-1991-3, с.343). [325] Р. Тименчик. После всего. Неакадемические заметки. В журнале: Литературное обозрение, №5, 1989, с.23. [326] ПСС-3, №90. [327] Софья Иваницкая. О русских парижанах. «Сколько их, этих собственных лиц моих?» М.: Эллис Лак, 2006, сс.230-234. Софья Иваницкая в начале 1970-х годов вышла замуж за поляка и уехала из СССР в Польшу. В 1982 году, боясь вторжения войск в Польшу, перебралась в Париж, где вскоре познакомилась с Ириной Одоевцевой, став ее «доверенным» лицом. Некоторые эпизоды своей жизни, не вошедшие в книги «На берегах Невы» и «На берегах Сены», она поведала Софье Иваницкой. Большая часть книги — вольный (иногда слишком!) пересказ их бесед. Однако словам Одоевцевой о том, что она специально ходила на улицу Декамп, можно верить. [328] Начало стихотворения «Синяя звезда», ППС-3, №80. Входило в оба альбома, с разночтениями. [329] Гумилев-Вашингтон-2, с.306. [330] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.28, л.11-17. [331] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.7. [332] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.27, л.17. [333] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.59. [334] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.46, л.87. [335] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.65, л.384. [336] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.34, л.119. [337] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.60. [338] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.61. [339] Игнатьев-1986, с.652. [340] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.70. [341] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19, ф.15223, оп.1, д.18, л.45 — утвержденный Занкевичем приказ; ф.15223, оп.1, д.18, л.47-47об. — черновик, написанный рукой Гумилева, с исправлениями Раппа. [342] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.87. [343] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.55. [344] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.40, л.60 об. [345] 9 сентября Керенский объявил генерала Корнилова мятежником всей стране, издал указ о смещении генерала Корнилова с поста Верховного главнокомандующего, прекратил преследование большевиков и обратился за помощью к Советам. 10 сентября генерал Корнилов, видя всю глубину направленной против него провокации Керенского с обвинением Верховного Главнокомандующего в измене с якобы имевшим место ультимативным требованием о передаче «всей полноты гражданской и военной власти», решает отказать Керенскому в выполнении его требования (от 10 сентября) остановить движение на Петроград (отправленного туда ранее по решению Временного Правительства и самого Керенского) корпуса генерала Крымова, принимает решение: «выступить открыто и, произведя давление на Временное правительство, заставить его: 1. исключить из своего состава тех министров, которые по имеющимся (у него) сведениям были явными предателями Родины; 2. перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть». Воспользовавшись для этого все тем же уже движущимся по указанию Керенского на Петроград конным корпусом, Корнилов дает его командиру генералу Крымову соответствующее указание. В дальнейшем Керенский, триумвират Савинков, Авксентьев и Скобелев, петроградская дума с А. А. Исаевым и Шрейдером во главе и советы лихорадочно начали принимать меры к приостановке движения войск Крымова. Командующий корпусом генерал Крымов был обманным путем Керенским удален от войск, которые, в отсутствие командующего, были распропагандированы большевистскими агитаторами и сложили оружие. Генерал Крымов, осознав после встречи с Керенским в Петрограде, что его обманули, гневно обличает Керенского и, уйдя от него, кончает жизнь самоубийством (по другой версии генерал Крымов был застрелен). Победа Керенского в его противостоянии с генералом Корниловым стала «прелюдией большевизма», привела к разложению армии и усилению крайних левых партий. В октябре 1917 в результате вооруженного переворота власть в стране захватили большевики. Именно на таком фоне развивались события в Ля Куртин. И хотя во Франции, в отличие от России, временную победу одержали противоборствующие большевизму силы, общую ситуацию это уже не могло изменить. В этой прелюдии Гражданской войны принял участие и Николай Гумилев. [346] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.49-49а. Автограф, написанный рукой Гумилева. [347] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19. [348] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.54; ф.15234, оп.1, д.19. [349] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.46, л.103. [350] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.52. Автограф, написанный рукой Гумилева. [351] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.48. Автограф, написанный рукой Гумилева. [352] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.50-50 об. Автографы, написанные рукой Гумилева. [353] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.53. [354] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.19. [355] Константин Райн. Ля Куртин. Из архивов. В газете: Русская мысль, №2785, 9 апреля 1970 г., с.4. [356] Лисовенко-1960, с.188. [357] Малиновский-1988, с.306. [358] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.65. [359] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.56. [360] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, лл.57-66. Рукописный текст описания событий в Ля Куртин рукой Гумилева представлен на листах 57-58, 62, 62 об. Листы 59-61 и 63-66 написаны тоже от руки, но не Гумилевым. На листах 63-66 тот же черновой текст, что и у Гумилева, но другой рукой. [361] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, лл.69-71. [362] Курляндский-1, сс.36-38; Курляндский-2, сс.127-130; Курляндский-3, сс.280-283. [363] В РГВИА хранится любопытная рукопись (автор не обозначен) «О русских бригадах во Франции» (ф.15223, оп.1, д.18, лл.88-112). В частности, там сказано (л.93-94): «Газеты потекли в солдатскую массу. Одним из самых излюбленных приемов газет такого рода была искаженная перепечатка французских газет с указанием на источник или толкование короткой телеграммы, удачно искаженной переводом». [364] Подразумеваются проводившие агитацию среди русских солдат такие члены РСДРП(б), как Д.З. Мануильский, М.Н. Покровский и другие. [365] Это, пожалуй, единственное упоминание Ленина Гумилевым. Махаевщина — анархистское течение, проповедовавшее враждебное отношение к интеллигенции. Лидер махаевщины — польский социалист В.К. Махайский (1867 — 1926, псевдоним А. Вольский) выдвинул положение о том, что интеллигенция является паразитическим классом, который «монопольно владеет знаниями», живет за счет труда рабочих и готовит свое «грядущее мировое господство». Главной социальной базой революции, по мнению махаевцев, являлись деклассированные элементы. Как видно, Гумилев считал взгляды большевистских идеологов родственными махаевщине. Заметим, что последующее наше развития показало, что для этого у него были некоторые основания, из чего следует, что в политике он все-таки разбирался. [366] Из упомянутой выше статьи «Русские бригады во Франции» (л.104): «14 офицеров было отчислено из полков ввиду отсутствия доверия и даже явной враждебности к ним солдат. На пополнение идут новые офицеры из России, причем среди них много иск<люченных> ком<итетами> из полков; конечно, такие офицеры не имеют успеха у солдат». [367] Речь идет о приказе №213 по Армии и флоту — «О комитетах и дисциплинарных судах», от 27 апреля 1917 года, в котором вводилось два положения: «о полковых комитетах» и «о дисциплинарных судах», ознаменовавших введение демократических начал в армии (РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.69). [368] Лидером этого исполнительного комитета был руководитель восстания унтер-офицер Глоба. [369] Возглавлял отрядный комитет упоминавшийся ранее прапорщик Джинория. Этот отряд был вскоре переведен в лагерь Курно. [370] Гумилев здесь и далее называет 3-ю бригаду — «второй». О сложных взаимоотношениях между двумя бригадами было сказано ранее. [371] Речь идет об упоминавшемся выше приказе по русским войскам во Франции №15 от 24 июня/8 июля 1917 г. [372] Подчеркнуто в тексте. [373] Далее следует большой фрагмент ранее не публиковавшегося текста из машинописного экземпляра (РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, лл.69-71). [374] И этот важнейший фрагмент про приказ о возвращении в Россию ранее не публиковался и включен из машинописного экземпляра. [375] Телеграмма Керенского №4817 о прекращении доставки довольствия и выдачи продовольствия в лагерь Ля Куртин была отправлена из Петрограда еще 1/14 августа, однако к этой мере прибегли только в сентябре. [376] Подразумевается приказ №68 от 1/13 сентября 1917 г., подписанный Занкевичем и Раппом, фактически, повторяющий приведенный выше приказ №62 от 6 сентября, но переносящий срок истечения ультиматума на 10 часов 16 сентября 1917 года (РГВИА , ф.15234, оп.1, д.19). [377] Лисовенко-1960, сс.228-230. [378] Малиновский-1988, с.315. [379] Данилов-1933, сс.147-149. [380] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.65, лл.10-28. [381] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.46, л.109 и л.110. [382] Малиновский-1988, сс.307-308. [383] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.51-51 об. Автограф, написанный рукой Гумилева. [384] РГВИА, ф.3515, оп.1, д.522, л.746-746об. [385] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.65, л.17. [386] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20, л.8. [387] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.65, лл.1-9. [388] Константин Райн. Ля Куртин. Из архивов. В газете: Русская мысль, №2785, 9 апреля 1970 г., с.4. [389] Прапорщик Гумилев был в эти дни в Куртине, состоя в распоряжении Представителя Временного Правительства генерала Занкевича — примечание К. Райна. [390] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.35. [391] Корпус-2003, с.600, фото №925. [392] Архив Лукницкого в ИРЛИ, «Альбом III-7», №67, в папке, озаглавленной «Биографическая канва». [393] Труды и дни, с.273. [394] Письмо это упоминается в ответном, недошедшем до адресата письме Анны Энгельгардт в Париж — ПСС-8, письма Гумилеву, №48, — «Знаешь, я перепутала адрес (вернее, он был напутан в твоей последней телеграмме) и только получив твое письмо от 14 сентября (27 по н. ст.) узнала, что он совсем другой». Значит, была еще и телеграмма, отправленная из гостиницы «Galilée». [395] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.64, л.2. [396] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.22, л.14-15. [397] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.64, л.5. [398] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.40, л.20 об. [399] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.61 об. Ранее эта телеграмма уже цитировалась — в связи с сомнением в необходимости отъезда Гумилева из Петрограда в штатской одежде. [400] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.7, л.12. [401] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.54, л.23. [402] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.54, л.34. [403] Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки места возможного северного порта в 1912 году. Через три года в 1915 году, во время Первой мировой войны, на правом берегу Кольского залива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт. Его создание вызвано было стремлением России получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзнических держав в условиях блокады Черного и Балтийского морей. Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года. В этот день на невысоком холме, где сейчас располагается Дворец культуры и техники имени Кирова, состоялась торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского. Город стал последним городом, основанным в Российской империи, его назвали Романов-на-Мурмане. Через полгода, 3 апреля 1917 года, после Февральской революции, он принял свое нынешнее название — Мурманск. В 1917 году после победы Октябрьского восстания в Мурманске был создан временный революционный комитет, во главе которого встали большевики. Но уже в марте 1918 года с военных судов Антанты, которые еще до Февральской революции встали на якорь в Кольском заливе, был высажен на берег вооруженный десант. В 1919 году власть в городе перешла к белогвардейцам, а Временное правительство Северной области признало верховную власть адмирала Колчака. Осенью 1919 года войска Содружества были вынуждены эвакуироваться из Мурманска. 21 февраля 1920 года в городе произошло восстание, организованное большевиками, и власть опять перешла к ним. [404] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.58. [405] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.82. [406] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.32, л.109. [407] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.135. [408] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.136. [409] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.7, л.78. [410] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.7, л.92-95. [411] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.148. [412] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.17, д.58. Заверенная копия телеграммы. Машинопись. [413] РГВИА, ф.15304, оп.3,д. 17, л.59. [414] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.73. [415] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.81 об. [416] К. Парчевский. Гумилев в Париже. Неизданные стихотворения. Звено, Париж, 1924, № 49, 7 января. [417] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.77 об. [418] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.30, л.195. Заверенная копия. Машинопись. Оригинал см.: РГВИА, ф.366, оп.2, д.8, л.15. [419] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20, л.25. [420] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.4, л.97. [421] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.37, л.2. [422] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.37, л.3-4. Автограф на бланке Военного Комиссара Е.И. Раппа. [423] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.7, л.18-61 — протоколы заседаний Отрядного Съезда. [424] Там же, л.19. [425] Там же, л.30. [426] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.80 об. [427] Будущий командарм и маршал М.Н. Тухачевский начал войну в звании подпоручика в лейб-гвардии Семеновском полку, принимал участие в боях с австрийцами и немцами, был ранен, за проявленный героизм награжден 5-ю орденами за полгода. В феврале 1915 г. его рота была окружена, он сам взят в плен. После четырех неудачных попыток бегства из плена его отправили в лагерь для неисправимых беглецов в Ингольштадт, где он познакомился с Шарлем де Голлем. В сентябре 1917 г. пятая попытка бегства оказалась успешной, и в октябре 1917 Тухачевский оказался в Париже. В Русской миссии ему помогли вернуться в Россию. [428] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.9, л.1 [429] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.9, л.11 — оригинал. РГВИА, ф.15304, оп.7, д.39, л.83. Заверенная копия. [430] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.9, л.23. [431] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.30, л.177 об. [432] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.30, л.211. Автограф, написанный рукой Гумилева. [433] Ustinov Andrey. Two Episodes from the Biography of Nikolai Gumilev. A Sense of Place. Tsarskoe Selo and its Poets. Columbus, Ohio, 1993, pр.297-306. [434] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.149. Подлинник. Машинопись, на бланке офицера для поручений при Военном комиссаре. [435] Одоевцева-1988, сс.75 и 88. [436] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.20, л.2-10. [437] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20, л.76. [438] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.67. [439] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.68. [440] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.41, л.48. [441] Михаил Константинович Дитерихс (5.4.1874 — 9.10.1937) родился в семье офицера (обрусевшего чеха) и русской дворянки. В 1894 году окончил Пажеский корпус, выпущен во 2-ю лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. В 1900 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. После начала Русско-японской войны был назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 17-го Армейского корпуса. На фронт прибыл в августе 1904 года. Участвовал в сражениях под Ляояном, на реке Шахе, при Мукдене. Война завершилась для Дитерихса производством в подполковники и назначением на должность штаб-офицера для особых поручений при штабе корпуса. После Русско-японской войны вернулся в Московский военный округ. В 1913 году назначен начальником отделения в Мобилизационном отделе Главного управления Генерального штаба. В этой должности он встретил начало Первой мировой войны. В 1914-1916 годах был начальником штаба 3-й армии Юго-Западного фронта, который в марте 1916 возглавил генерал Брусилов. Под его руководством Дитерихс участвовал в разработке Брусиловского прорыва. В начале сентября 1916-го года Дитерихс отправился вместе с возглавляемой им 2-й Особой Бригадой из Архангельска в Салоники. В середине ноября 1916 года под его руководством были разбиты части болгарской армии, в результате чего союзники 19 ноября заняли город Монастырь. После Февральской революции был отозван в Россию и назначен начальником штаба Особой Петроградской армии. С сентября по ноябрь — генерал-квартирмейстером Ставки, а с 16 ноября по 20 ноября — начальник штаба генерала Духонина. 21 ноября бежал на Украину. С марта 1918 года — начальник штаба Чехословацкого корпуса, с которым он прошел до Владивостока (июнь 1918 года). Поддержал Колчака, который назначил его 17 января 1919 года руководителем комиссии по расследованию убийства Царской семьи. С 1 июля по 22 июля 1919 года был командующим Сибирской армией, с 22 июля по 17 ноября командующим Восточным фронтом и одновременно с 12 августа по 6 октября начальником штаба Колчака. Во время отступления в конце 1919 года создавал «Дружины Святого Креста» и «Дружины Зеленого Знамени». После поражения белых в конце 1919 эмигрировал в Харбин. 23 июля 1922 на Земском Соборе во Владивостоке Дитерихс избран Правителем Дальнего Востока и Земским Воеводой. В октябре 1922 был выбит из Владивостока и был вынужден бежать в Китай, где он проживал в Шанхае. В 1930 стал председателем Дальневосточного отдела Русского Общевоинского Союза. В Шанхае умер и похоронен. Автор книги «Убийство Царской Семьи и Членов Дома Романовых на Урале». [442] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.40, л.56-57. [443] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.40. [444] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.64, л.4. [445] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.65, л.226. [446] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.65, л.227. В одном из документов (РГВИА, ф.15304, оп.2, д.75, л.54) приводятся любопытные сведения о Владимире Яковлевиче Мартынове. Служа во французской армии, он получал жалованье, 500 рублей в месяц, от Степана Ивановича Макова, проживавшего в Москве, 3-я Мещанская улица, 49. Его адрес в Париже — 8, Avenue de Verzy (авеню Верзи), Paris. [447] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63. [448] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.40, л.60 об. [449] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [450] РГВИА, ф.15304, оп.1, д.351. [451] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.7, л.76. [452] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.154. [453] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.25. [454] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.24. [455] А Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918 — 1956. Книга 1. Часть 1. Paris, YMCA-PRESS, 1975, с.43. К сожалению, у Солженицына нет ссылок на соответствующие документы, скорее всего, документов таких и не было, были просто — «распоряжения». Гумилев успел «проскочить», так как вернулся раньше, в 1918-м году. Но вспомнить об этом в 1921 году вполне могли. [456] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.21. [457] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.30. [458] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.64, л.7. [459] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.7, л.81. [460] Алексеев Никандр Алексеевич (21.9/3.10.1891, дер. Пидели Псковской губ. — 30.09.1963, похоронен в Пскове на Мироносицком кладбище). Русский советский писатель. Родился в бедной крестьянской семье. В 13 лет отправился на заработки в Петербург. Первые стихи опубликовал в 1910 г. В 1916 г. в Петрограде вышла книга стихов «Весна». С 1916-го года воевал в составе русского экспедиционного корпуса во Франции, в Шампани. Во Франции находился до 1920-го года. В Париже издал три книги стихов: «Венок павшим» (1917), «Ты-ны-ны» (1919), «Ветровые песни» (1920). Его стихи постоянно публиковались в газете «Русский солдат-гражданин во Франции», начиная с самого первого номера. В 1920 году он «своим ходом» вернулся в Россию. О своем первом деле на Родине он рассказал сам, эти воспоминания обнаружила в архиве деда и опубликовала его внучка М.Н. Алексеева в газете «Новости Пскова» в феврале 1996 года, вот отрывок из этих, как я считаю, очень важных воспоминаний: «1920, Москва. Первое советское учреждение, куда постучался возвратившийся на родину солдат русских войск во Франции, был литературный отдел Наркомпроса. Я имел право явиться сюда. У меня уже было четыре книги стихов. В Гнездниковском переулке я поднялся по внутренней лестнице в кабинет заведующего, к поэту Брюсову. <…> — Вы любите Пушкина? — вдруг спросил Брюсов. Я знал, что Брюсов, несмотря на свой ранний символизм, сделался пушкинистом-исследователем творчества талантливейшего русского поэта. Я обронил гордую фразу: — Пушкин — мой земляк. <…> — Очень рад! Мы можем вам дать командировку. Правда, там фронт. А сейчас — где их, фронтов, нет? Везде. На Севере, на юге, на востоке, на западе... Поезжайте. Проверьте, что делается в Пушкинских местах. Луначарский тоже интересуется. Мы ничего не знаем. Кстати, там узнаете о своих родичах или повидаете... Мне был вручен мандат за подписью заведующего литературным отделом Наркомпроса В.Я. Брюсова. В нем внушалось всем советским учреждениям оказывать мне всяческое содействие в деле собирания дополнительных данных для более полной биографии А.С. Пушкина. Осталось получить пропуск в ВЧК: в прифронтовую полосу без пропуска не пустят. <…> И вот родина. Недалеко фронт... Прифронтовой Псков, очищенный Красной Армией от виселиц Булаховича. Зарегистрировав в особом отделе пропуск ВЧК и мандат, беспартийный командировочный поэт предстал перед работником губкома партии. <…> — Из Михайловского пришлите нам немедленно правдивую статью о пушкинских местах. Это первое. А второе — сразу же начните серию очерков о положении во Франции. Я согласился. <…> «Псковский набат» напечатал ряд очерков о Франции. Редактор при встрече говорил мне: побывавший в Пскове ответственный работник Губкома сообщил ему, что в ЦК партии читали очерки и рекомендовали шире использовать автора очерков о Франции. <…> О том, что моя статья о Пушкинских местах появилась в «Псковском набате», я узнал из «Правды» и «Известий», выходивших в то время на двух страницах на оберточной бумаге. Две главнейшие газеты между лаконичными сообщениями о положении на фронтах, международной информацией и политическими материалами посчитали необходимым высказать беспокойство по поводу состояния уголка, связанного с памятью о гениальнейшем русском поэте. <…> Телеграмма РОСТА сообщала о моей статье, в которой рассказывалось: село Михайловское сгорело со всеми строениями, вторично после гибели А.С. Пушкина, что единственный сохранившийся домик с Пушкинских времен — Домик няни обветшал, углы прогнили, он разваливается. Пушкинский вековой лес вырубается. Все выступления газет немедленно сказались. Пушкинский Дом из Петрограда немедленно прислал художника, по проекту которого был отреставрирован домик няни. Штаб Башкирской бригады, стоящей в резерве в Святых горах (ныне Пушкинские горы) организовал охрану Пушкинского леса и парка. Домик няни великого русского поэта восстанавливали с топорами, с пилами и молотками в руках красноармейцы-башкиры. <…> Вот когда было положено начало Пушкинскому заповеднику. <…> Я отчитался перед Москвой в командировке. Мне разрешили остаться в Пскове. <…> На страницах губернской газеты стали появляться стихи, в залах бывшего губернского уезда (ныне — областная библиотека) устраивались лекции, выступления, поэтические дискуссии, в Пушкинском театре поставили пьесу «Новые люди», написанную мной на современном деревенском материале». Так что на самом деле у истоков Пушкинского заповедника стоял не всем известный С.С. Гейченко, как считают многие, а вернувшийся из Франции Никандр Алексеев. В результате его командировки постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года Михайловское, Тригорское и могила А.С. Пушкина были объявлены заповедными местами. В дальнейшем Н. Алексеев организовал одну из первых крестьянских газет «Псковский пахарь», редактировал журнал «Северные зори», был председателем сибирского общества крестьянских писателей. Алексеев прожил достойную жизнь. У него вышло много книг стихов и прозы. В своих рассказах, многие из которых написаны для детей, Алексеев воспевал красоту родной природы, они полны тонких наблюдений над миром животных, проникнуты светлым мироощущением. [461] Расчеты жалованья — РГВИА, ф.15234, оп.3, д.20, л.2-10; д.43, лл.10, 36, 88. «Аттестат» Никандра Алексеева — ф.15234, оп.3, д.43, л.104. Список личного состава миссии на 12 февраля и Приказ об откомандировании от миссии — ф.15234, оп.2, д.33, лл.30, 35-37. [462] Смотрите: http://zhurnal.lib.ru/a/alekseew_n_w/wospominanijanikandraalekseewadoc.shtml . Как выяснилось, хранящийся у М.Н. Алексеевой в Пскове сборник Гумилева не был подарен ему самим поэтом. Вряд ли у Гумилева в Париже были сборники своих собственных стихов. В семье Н. Алексеева сохранился приобретенный им, видимо, вскоре после возвращения в Россию сборник «Шатер», издание 1922 года, Ревель, Библиофил. [463] «Русский солдат-гражданин во Франции», №98 от 4/17 ноября 1917 года, с.5. Любопытно, что ранее в этой же газете (№89; обратите внимание на дату выхода этой газеты — среда, 25 октября/7 ноября 1917 года!) была опубликована другая рецензия на тот же сборник. Ее автор — уже знакомый нам писатель и балетный критик В. Светлов. [464] Гумилев имеет в виду макаронизмы в стихах Алексеева, например: «Точно к ночи, точно к свету, // Стройна, гибка, как газель, // Мчится плавно по паркету // Quelle jolie demoiselle.» [465] Никандр Алексеев. Ты-ны-ны. Стихи. Париж, 1919, сс.13-15. Надпись на обложке: Издание этого сборника напечатано в кол-ве 2000 экземпляров, из которых 50 пронумерованы и подписаны автором. На 1-й странице книги сказано: «По делам, касающимся издания книг Никандра Алексеева и другим вопросам обращаться к Представителю автора в Париже П.П. Анненкову. M. Pierre Annenkoff, 11, Rue du Val de Grâce, Paris». Еще одно стихотворение этого сборника, «Приезжей» (с.23), имеет эпиграф — «Вы глядите так несмело, / Что вы видели во сне?», представляющий контаминацию двух строф стихотворения Гумилева «Сон (Утренняя болтовня)», само стихотворение воспроизводит метрический рисунок этой гумилевской строфы. [466] Как рассказала мне внучка поэта Марина Алексеева, до начала нашей переписки в семье считали, что хранящийся в доме дореволюционный сборник переводов Т. Готье выполнен «неизвестным переводчиком». Именно так отдельные переводы из него, вместе с переводами Никандра Алексеева, были представлены на сайте: http://zhurnal.lib.ru/a/alekseew_n_w/teofilxgotx1.shtml. У книги отсутствуют обложка, титульный лист с указанием имени переводчика и содержание. Скорее всего, это — не случайно. В таком же виде хранится в доме и упомянутый выше сборник Гумилева «Шатер». Ведь держать у себя книги, связанные с именем опального поэта, в «лихие годы» было не безопасно. В не так давно изданной книге «Теофиль Готье. Эмали и камеи» (составление, предисловие и комментарии Г.К. Косикова, М.: Радуга, 1989), включившей полный перевод Н. Гумилева, сказано, «что и по сей день [перевод Гумилева] остается единственным полным переводом «Эмалей и камей»». Оказывается, в рукописи существует еще один полный перевод — Никандра Алексеева. Когда был выполнен этот перевод — установить точно довольно сложно. Мне казалось, что наиболее вероятны «крайние» даты: заниматься он мог им либо вскоре после возвращения из Франции в Россию, в начале 1920-х годов, когда были еще свежи парижские воспоминания, либо в конце жизни, после 1956-го года, когда многие события жизни, как своей, так и всей страны, приходилось подвергнуть переоценке. В том числе в памяти мог тогда всплыть образ расстрелянного поэта, и Никандр Алексеев вновь обратился к переведенным Гумилевым стихам Теофиля Готье, повторив пройденный им переводческий, поэтический путь. «Семейные предания» подтвердили последнюю версию — Никандр Алексеев серьезно занимался этим переводом в последние годы жизни. Хотя это не исключает того, что сам замысел мог относиться еще к Парижу. Любопытен сохранившийся в семье французский оригинал сборника Теофиля Готье «Эмали и камеи». Как удалось выяснить, это французское издание 1930-х годов было специально заказано и получено Алексеевым из «Государственной библиотеки иностранной литературы» в Москве (об этом говорит библиотечный штемпель с дополнительной пометкой — «выдано на дом»), скорее всего, в 1950-е годы, когда сам он жил в Новосибирске. Перевод интересный, и его следовало бы донести до читателя — как память о когда-то знавших друг друга двух поэтах. То, что его осуществление было связано с памятью о Гумилеве, сомневаться не приходится. [467] Все-таки отмечу, что, к сожалению, и он не обошелся, после расстрела поэта, без «пинка» в его адрес. Вернувшись в Россию, став на страже «пролетарского духа», как он это называл, он помянул «покойного (расстрелянного за участие в заговоре проф. Таганцева) Н.Гумилева, в жизни – контрреволюционера, а в поэзии – служителя чистого искусства, этого «изысканного жирафа». — «На озере гад // Изысканный бродит жираф»». (Скорее всего, в цитате не опечатка, а — такая «своеобразная шутка»; опубликовано в журнале: Новая жизнь. Псков. 1922. №1-2, с168). Последняя информация из публикации: Роман Тименчик. К истории культа Гумилева-I. Тыняновский сборник. Выпуск 13: XII-XIII-XIV Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М.: Москва, 2009, сс.298-351. Возможно, обращение Никандра Алексеева в последние годы жизни к гумилевскому переводу Готье, явилось своеобразным «покаянием» за когда-то сказанные слова. [468] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.26, л.22. [469] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.36. [470] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.40. [471] Николай Николаевич Духонин (13.12.1876, Смоленская губерния — 3.12.1917, Могилев) — русский военачальник, генерал-лейтенант, исполнял обязанности верховного главнокомандующего русской армией в ноябре-декабре 1917 года. 9/22 ноября Ленин, Сталин и Крыленко вызвали Духонина по телефону, потребовав немедленно вступить в мирные переговоры с австро-германским командованием. Духонин отказался и заявил, что такие переговоры может вести только центральное правительство, но не командующий армией. Тогда ему объявили, что его снимают с поста главнокомандующего, но он должен продолжать выполнять свои обязанности до прибытия нового главнокомандующего Крыленко. 19 ноября/2 декабря Духонин распорядился освободить из тюрьмы в Быхове генералов Корнилова, Деникина и др., арестованных после корниловского мятежа. 20 ноября/3 декабря в Могилев прибыл Н.В. Крыленко, который отдал приказ о своем вступлении в должность Главковерха и передал Духонину, что он будет отправлен в Петроград в распоряжение СНК. Когда Духонин на автомобиле Крыленко прибыл на железнодорожный вокзал, чтобы следовать в столицу, он был растерзан разъяренной толпой. По другой версии, Духонин был убит матросами-охранниками нового верховного Главнокомандующего Н.В. Крыленко, имевшего воинское звание (и то сомнительное) — прапорщика. Во время войны Крыленко вел в войсках агитацию, постоянно уклонялся от службы, неоднократно подвергался арестам. [472] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.93. [473] Главное военно-техническое управление. [474] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.217, л.91. [475] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.41. На бланке Представителя Временного Правительства Занкевича. [476] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.42. На бланке Комиссара Временного Правительства Раппа. [477] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.43. [478] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.54, л.34. [479] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.47. [480] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.12. Михаил Александрович Михайлов был назначен Военным Комиссаром Временного Правительства при Русских войсках на Македонском фронте, при нем был офицер для поручений поручик Чупринин. В ноябре он перебрался в Париж и вскоре сменил Е. Раппа, занимая должность комиссара до марта 1918-го года. Проживал по адресу — Paris, 4, rue Lavoisier, Centre 98-52. Дальнейшая его судьба неизвестна, видимо, остался в Париже. [481] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.64, л.11. [482] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.55-56. [483] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20, л.110. [484] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.68. Монпелье (Montpellier), курортное местечко недалеко от Марселя на побережье, там находились на лечении и отдыхе русские солдаты и офицеры. [485] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.34, л.207-208. [486] Алексей Алексеевич Маниковский (1865 — 1920) — генерал от артиллерии (1916). Был близок к части думской оппозиции, один из лидеров которой, Н.В. Некрасов во время Февральской революции прочил Маниковского на роль военного диктатора. С 6 марта 1917 — помощник военного министра. Временно управлял военным министерством в конце апреля — начале мая и в октябре 1917 года. 25 октября 1917 был арестован в Зимнем дворце вместе с министрами Временного правительства. В конце октября освобожден и принял на себя техническое руководство военным ведомством при большевистской власти. Пытался сохранить остатки боеспособности армии, выступил против выборности командиров, но был обвинен в нелояльности и 20 ноября (3 декабря)1917 вновь арестован (вместе с начальником Генерального штаба В. В. Марушевским). Через 10 дней его освободили. Служил в Красной армии, в 1918-1919 — начальник Артиллерийского управления, Управления снабжения РККА. Был постоянным членом Артиллерийского комитета. Во многом именно ему большевики были обязаны созданием своей артиллерии и организацией системы снабжения армии боеприпасами. В январе 1920 был направлен в командировку в Ташкент; направляясь туда, погиб при крушении поезда. После гибели генерала Маниковского был опубликован написанный им капитальный исторический труд «Боевое снабжение русской армии в Мировую войну». [487] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.94. [488] Подчеркнуто в тексте. [489] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.93. [490] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.97. [491] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20, л.106. [492] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.101,102. [493] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20, л.107. [494] РГВИА, ф.2015, оп.1, д.26, л.66. [495] Васильева Л. Н. Саломея. В книге: Альбион и тайна времени. М., Современник, 1983, с.221-222. [496] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.43, лл.46-47. [497] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.1, л.99 об. Повестка на заседание Исполнительного комитета, состоявшееся 30 ноября 1917 года, включала в себя такие вопросы, как посылка членов Исполнительного комитета в Петроград, доклад подполковника Коллонтаева о деле писарей и др. [498] Здесь и далее подчеркнуто в тексте. [499] Все тот же пресловутый, постоянно упоминаемый приказ №213 уже не существующего Временного Правительства «О комитетах и дисциплинарных судах». [500] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.1, л.99-99 об. На заседании комитета от 17(30) ноября 1917 года была принята резолюция, осуждающая действия подполковника Крупского и требующая его замену другим лицом. Однако и в этой «битве» ведомство Игнатьева отвергло все обвинения подполковника Крупского в его адрес (ф.15304, оп.2, д.43, л.49—51). [501] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.34, л.5-5 об. [502] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.20, л.62. [503] РГВИА, ф.200, оп.2, д.1571, лл.131-136. [504] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.126. Документ частично отпечатан на машинке, а частично заполнен от руки. [505] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [506] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.153. [507] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.40, л.60 об. [508] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.64, л.9. [509] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.122. [510] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.29, л.2. [511] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.42, л.93. [512] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [513] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.90. [514] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20, л.130-131. [515] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [516] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.42, л.3-4 и 9. [517] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.46, л.224. [518] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [519] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.64, л.12. [520] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [521] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.34, л.3. [522] Отдел генерал квартирмейстера Главного управления Генерального штаба, ведавший военной разведкой и контрразведкой. [523] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.120. [524] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.122. [525] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.111. [526] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.112. [527] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.130. [528] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [529] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.9, л.86. [530] Архив М. Ларионова и Н. Гончаровой в ГТГ; ф.180, №61 (нумерация предварительная). Фонд полностью не разобран и не описан. [531] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.39. [532] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.34, л.39. [533] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.30-31. [534] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.28. [535] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.10. [536] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.36. [537] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. Там же — уточнения по этим поездкам в Приказе по русским войскам №6 от 10/22 января 1918 г. [538] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.29, л.8. [539] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [540] Гумилев-Вашингтон-1, с.L. [541] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [542] Примечание Глеба Струве в «Гумилев-Вашингтон-4, с.624: «Впервые, под названием «Записка об Абиссинии», вместе с послужным списком Н.С. Гумилева, в статье Г.П. Струве (и в его переводе с рукописи в анреповском архиве) в газете «Новое Русское Слово» (Нью-Йорк) от 16 декабря 1947 г. Оригинал по-французски, с довольно многочисленными орфографическими и несколькими грамматическими ошибками. Первая часть меморандума написана как будто писарской рукой, но, начиная со слов «Помимо того в Абиссинии...», почерк, несомненно, самого Гумилева. Был ли дан этому меморандуму какой-нибудь ход, мы не знаем. В подлиннике меморандум носит заглавие: «Mémoire concernant une possibilité éventuelle d'un recrutement de contingents de volontaires pour l'Armée Française en Abyssinie» («Докладная записка относительно одной возможной перспективы комплектования контингента добровольцев для Французской Армии в Абиссинии»). В переводе, по сравнению с первой публикацией, нами сделаны некоторые стилистические изменения». [543] Труди и дни, с.270. [544] Гумилев-Вашингтон-4, сс.439-440. [545] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.1 и 3. [546] Кратко о том, что представлял собой Персидский, или Месопотамский фронт, куда мог, но не попал Николай Гумилев. К концу 1916-го года численность британской экспедиционной армии в Месопотамии составила 55000 человек. К этому времени на сторону британцев перешло местное население: в это время уже началась Великая Арабская революция, и арабы повсюду встречали британские войска как освободителей. Командующий британскими войсками в Месопотамии генерал Фредерик Стенли Мод начал наступление 13 декабря 1916 года. Успешно сражаясь с турецкими войсками, британцы в феврале 1917 года вернули Эль-Кут, а 11 марта взяли Багдад. Город Эр-Рамади к западу от Багдада, в котором находился крупный османский гарнизон, удалось взять только со второй попытки. 18 ноября Мод умер от холеры, командование войсками перешло к генералу Вильяму Маршаллу. Весной 1918-го года англичане планировали решающее наступление с целью разгрома турок и взятия Палестины и Сирии, однако успехи немцев на Западном фронте заставили британское командование отложить свои планы. Турецко-германское командование также планировало наступление, чтобы отбросить англичан, угрожавших Сирии, Анатолии и Месопотамии, но для этого у турецкой армии уже не хватало сил. Выправив положение на Западном фронте, англичане перебросили в Палестину подкрепления и тщательно подготовились к наступлению. Оно началось 19-го сентября. Фронт был прорван. На следующий день британская кавалерия пробилась в Израэльскую долину и захватила Назарет. Турецкая армия была окружена и разбита. Это сражение вошло в историю как битва при Мегиддо. Завладев всей Палестиной, британцы вошли в Сирию. 1-го октября они взяли Дамаск, 26-го — Халеб. Основные боевые действия на Палестинском фронте завершились 30 октября с подписанием Мудросского перемирия. Однако военные действия в Месопотамии закончились лишь 14 ноября, когда британская армия, не встречая сопротивления, заняла Мосул. [547] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [548] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.1 об. и л.4; ф.15234, оп.1, д.72, л.9. [549] Ермолов Николай Сергеевич (28.9.1853 — ?), русский генерал-лейтенант (29.3.1909). Образование получил в Петербургском университете, затем выдержал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище. В 1883 году окончил по первому разряду, с отличием, Николаевскую академию Генштаба, одну из лучших в Европе. Служил старшим адъютантом штаба гвардейского корпуса, обер-офицером для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского ВО, начальником строевого отделения штаба Кронштадтской крепости. В 1891-м году, по приказу Александра III, был назначен военным агентом в Англию. Этот пост Ермолов занимал с небольшим двухгодичным перерывом на протяжении 26 лет вплоть до Октябрьской революции 1917 г., — беспрецедентный случай в истории русского военного атташата XIX — начала XX в. В промежутке был начальником военного статистического управления отделения управления Генерал-квартирмейстера Главного штаба (2.3.1905 — 10.5.1906). Фактически он был тогда поставлен во главе всей военной разведки России. С 20.2.1907 вновь был назначен Военным Агентом в Великобритании. Вполне понятно, что оценки и замечания сначала полковника, затем генерал-майора, а с 1909 г. генерал-лейтенанта Ермолова, доставлявшего все эти годы в Петербург ценнейшую информацию о положении дел в Британской империи, заслуживают пристального внимания. После Октябрьской революции остался в Лондоне, продолжая формально исполнять обязанности Военного Агента, входя в кабинет бывшего министра иностранных дел С.Д. Сазонова. К сожалению, неизвестна его судьба после 1918 г. Можно высказать лишь предположение, что Н.С. Ермолов остался в вынужденной эмиграции и умер вдали от Родины. (Из книги: В.М. Лурье, В.Я. Кочик. ГРУ: Дела и люди. — М., «Олма-Пресс», 2002, и других источников). [550] РГВИА, ф.15304, оп.1, д.351. [551] Гумилев-Вашингтон-1, с.L-LI. Рапорт написан от руки самим Гумилевым. [552] ПСС-3, №109. Первая публикация, с «цензурной» купюрой: К. Парчевский. Гумилев в Париже. Неизданные стихотворения. Звено, Париж, 1924, № 49, 7 января. [553] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.127-138. [554] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.77, л.3. [555] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.147. [556] РГВИА, ф.15234, оп.2, д.33, л.4. [557] РГВИА, ф.15236, оп.1, д.4, л.2. [558] РГВИА, ф.15236, оп.1, д.4, л.4. [559] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.152. [560] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.158, 172. [561] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [562] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.66-71. Упоминаемые в «Расчете» приложения: «Аттестаты №№440, 441 и 442 и расчет на содержание Прапорщику Гумилеву» — отсутствуют. [563] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.47, л.139. [564] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.7; ф.15234, оп.1, д.72, л.25. [565] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.8; ф.15234, оп.1, д.72, л.10 об. [566] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.34, л.39. [567] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.78, л.2; ф.15304, оп.3, д.87, л.18. Два идентичных машинописных документа на французском языке, на бланках Русского представительства при французской армии, подписанных полковником Бобриковым. [568] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.16; ф.15234, оп.1, д.78, л.3. Два идентичных машинописных документа на русском языке, на бланках Представителя Временного Правительства при Французских армиях, подписанных полковником Бобриковым. [569] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.10; ф.15234, оп.1, д.72, л.26, на обороте, л.26 об. — ходатайство за Перникова. [570] Гумилев-Вашингтон-1, с.L. «Послужной список Н.С. Гумилева». [571] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.78, л.4. [572] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.087, л.15-15 об. [573] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.72, л.26 об. [574] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.17. [575] Гумилев-Вашингтон-1, сс.LI-LII. [576] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.76. [577] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.53, л.6. [578] Гумилев-Вашингтон-1, с.LII. [579] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.23. [580] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.9. [581] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [582] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.127. [583] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.13. [584] Правильно: Булонь-сюр-Мер (фр. Boulogne-sur-Mer) — город на севере Франции, порт в департаменте Па-де-Кале, на берегу пролива Па-де-Кале, расположенный на кратчайшем расстоянии от Англии. [585] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.72, л.13; ф.15304, оп.3, д.87, л.5. [586] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.72, л.27 об.; ф.15304, оп.3, д.87, л.6. [587] Сохранилось два идентичных документа. Один из них хранится в РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.14. Командировочное удостоверение, выданное ему на руки, Гумилев оставил в Лондоне, и оно опубликовано Глебом Струве в — Гумилев-Вашингтон-1, с.LIII. Именно на этом удостоверении проставлен штемпель с датой его отплытия из Булони. [588] ПСС-8, №158, с.201. [589] Впервые это письмо было опубликовано в парижской газете «Последние Новости», № 444, 27 сентября 1921 г., с подзаголовком: «Наследство Н.С. Гумилева. (Письмо в редакцию)». Его воспроизвел Глеб Струве в 4-м томе, сс.632-633, сопроводив публикацию следующими комментариями: «Письмо А. Цитрона стало мне известно лишь недавно, благодаря Ю.А. Топоркову, который сообщил мне копию его. Ни о судьбе самого Цитрона, ни об оставшихся у него книгах Гумилева мне ничего не известно. Картины, по всей вероятности, находятся в собрании М.Ф. Ларионова — может быть, в музее основанного недавно «Общества друзей М. Ларионова» на юге Франции. Когда я переписывался с М.Ф. Ларионовым в связи с подготовкой тома «Неизданный Гумилев», он мне ничего об этих картинах, рисунках и альбоме не писал». [590] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.42. [591] Труды и дни, с.276. [592] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.46. [593] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.47-48. [594] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.25. [595] Имеется его рапорт — РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.19; капитан Лейб-Гвардии стрелкового полка. [596] Имеется его рапорт — РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.20; поручик 13-го Уланского Владимирского полка. [597] Имеется его рапорт — РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.22; поручик 17-го Драгунского Нижегородского полка, прикомандированный к 2-й Особой пехотной дивизии. [598] Имеется его рапорт — РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.22; ротмистр Татарского конного полка. [599] Только против фамилии Гумилева в списке имеется такая запись. [600] Это упоминавшийся нами ранее писатель Светлов, друг С. Дягилева, занимавшийся балетом. [601] Последняя фамилия вписана от руки. [602] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.43. [603] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.43, л.125. [604] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [605] Гумилев-Вашингтон-1, с.LIV. [606] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.72, л.14; ф.15304, оп.3, д.87, л.2 и л.9. [607] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.72, л.14 об.; ф.15304, оп.3, д.87, л.11. [608] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.72, л.28 об.; ф.15304, оп.3, д.87, л.12. [609] Гумилев-Вашингтон-1, сс.LIII-LIV. [610] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20. [611] Там же. Как было сказано выше, газета тогда устояла, просуществовала она до апреля 1920-го года, вышло всего 465 номеров. [612] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.44, л.9. [613] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.78, лл.13-14; ф.15304, оп.3, д.87, л.26-26 об. [614] РГВИА, ф.15304, оп.3, д.87, л.42. [615] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.20; ф.15234, оп.1, д.85, л.55. [616] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.88. [617] РГВИА, ф.15234, оп.3, д.38, л.2. [618] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.70. [619] РГВИА, ф.15304, оп.1, д.351, л.192. [620] РГВИА, ф.15234, оп.2, д.33, лл.35-37. [621] РГВИА, ф.15236, оп.1, д.5, л.396. [622] РГВИА, ф.15236, оп.1, д.4, л.286-301 и 479-494. [623] РГВИА, ф.15236, оп.1, д.5, л.457. [624] Воспоминания Ирины Куниной, в замужестве Александр (1900 — 2003), озаглавленные «Моя гумилевская весна», опубликованы в журнале Литературное обозрение, 1991, №9, сс.97-101. [625] Смотрите, например, статью в Википедии, посвященную роду Врангелей: http://ru.wikipedia.org/wiki/Врангель. [626] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.52, л.4. [627] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.63, л.69; ф.15234, оп.1, д.52, л.51-54. [628] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.52, л.56-59. [629] РГВИА, ф.15234, оп.1, д.52, л.64. [630] Всеобщее внимание Михаил Александрович впервые привлек к себе тайным вступлением против воли Николая II и императорской фамилии в морганатический брак с дважды разведенной дочерью московского адвоката Наталией Сергеевной Шереметьевской (1880—1952). Н.А. Врангель остался верным своему высокому покровителю, смотрите: http://magazines.russ.ru/october/1998/11/vospo.html . [631] Смотрите «Неакадемические комментарии-2» в журнале Toronto Slavic Quarterly, №№18. [632] Тименчик-1990, с.309. [633] ГТГ, архив М. Ларионова и Н. Гончаровой; ф.180, №61а. Фонд полностью не разобран и не описан. Сведения от переписавшего документы в этом фонде Сергея Сербина. [634] О чем идет речь, пока не ясно. [635] Анреп-1970, с.412. [636] Гумилев-Вашингтон-1, с.LV. [637] ПСС-8, Письма Гумилеву, №49. Впервые письмо Льдова с посланными с ним стихами и комментариями опубликованы Глебом Струве в статье «Неизданные материалы для биографии Гумилева и истории литературных течений», журнал «Опыты», Нью-Йорк, №1, 1953, сс.181-190. Константин Льдов (настоящее имя и фамилия — Витольд-Константин Николаевич Розенблюм, 1.5.1862 — 3.2.1937, Брюссель), поэт, прозаик, переводчик. Первые его публикации приходятся на конец 1870-х годов, то есть еще задолго до рождения Гумилева. Вначале печатался в юмористических изданиях «Будильник», «Шут», «Осколки», «Стрекоза». Как поэт начал печататься в конце 1880-х годов в журнале «Восход». С 1880-х годов получили известность неоднократно переиздававшиеся вплоть до революции сборники рассказов и стихов для детей: «Большая книжка для малых деток», «У дедушки в деревне», «Барабан», «Двадцать проказников и десять шалунов», «Цирк клоуна Фипса» и др. Участвовал в составлении словаря Брокгауза (статья «Диккенс», понравившаяся Л. Толстому). В первом сборнике стихов, «Стихотворения» (1890), проявил себя как последователь С.Я. Надсона. Важным для Льдова оказалось сближение с журналом «Северный вестник», где начал публиковаться с 1888 года. С июня 1896 года и до закрытия «Северного вестника» выполнял обязанности секретаря журнала, сменив на этом посту еще одного парижского знакомого Гумилева Н. Минского. Одним из знаков солидарности Льдова с представителями «новой поэзии» стало его участие в модернистски ориентированном сборнике «Молодая поэзия» (1895). Однако в послесловии к сборнику «Отзвуки души» (1899) назвал ошибочным мнение тех, кто приписывал ему «преднамеренное тяготение к «символистической школе» и даже — к уродливому «декадентству»». В 1890-е годы дебютировал также как прозаик романом «Лицедеи». В 1900-е годы литературная активность Льдова спала, печатался в периодике. В 1910-е годы занялся даже композиторской деятельностью, сочиняя романсы и музыкальные пьесы для фортепьяно. Хронически нуждавшийся в деньгах, Льдов вместе с тем коллекционировал произведения искусства и помогал дирекции Эрмитажа в приобретении картин вплоть до 1917 года. В 1914-м году переехал на постоянное жительство в Париж, где начал издавать газету «Иностранец». С началом войны издание газеты прекратилось. На некоторое время Льдов вернулся в Россию, но в 1915-м году был опять во Франции, больше в Россию не возвращаясь. В Париже, как следует из письма Гумилеву, продолжал коллекционировать картины. Возможно, именно с этим его увлечением было связано их знакомство. В 1918-м году переезжает из Парижа в Женеву, а затем в Брюссель, где в 1926-м году вышел его последний сборник на русском языке «Против течения. Из сказанного и недосказанного за 50 лет». На обложке помещен список изданных в Бельгии книг Льдова на французском языке, среди которых два сборника стихов и прозы, а также несколько монографий о русских писателях и поэтах: А.К. Толстом, Тютчеве, Полонском, Фете, Герцене. Публикуя письмо, Глеб Струве писал: «<…> В 90-х годах Льдов сотрудничал в «модернистском» «Северном Вестнике» А.Л. Волынского и Л.Я. Гуревич, и народническое «Русское богатство» даже провозгласило его символистом. <…> В дальнейшем Льдов оказался, однако, совершенно вне символистского течения и стоял далеко от тех литературных кругов, к которым принадлежал Гумилев. <…> Из его письма можно заключить, что и со стихами Гумилева он познакомился лишь в Париже, после личного знакомства с ним. <…> Из письма явствует, что в Париже Льдов имел обстановку и даже ценные картины, которые собирался продавать с аукциона. <…> В письме Льдова на том же листке были переписаны <…> четыре его собственных стихотворения. Эти свеженаписанные стихотворения он посылал на суд Гумилеву. Как и вся поэзия Льдова, они большой поэтической ценности не имеют, но любопытны, как свидетельство того, что этот совсем не молодой (Льдову тогда было 55 лет) и в сущности далекий от всякого «модернизма» поэт подпал — очевидно, в результате личного общения — под влияние самого Гумилева. Влияние это особо чувствуется в стихотворениях «Кабилы» и «Поэма», отчасти в «Державине». В «Поэме» в типично-банальную «нивскую» поэзию врываются гумилевские нотки. В «Кабилах» чувствуется гумилевская фактура, не говоря уже о самой теме <…>». [638] Возможно, в письме ошибка, не А.Н., а А.М. В конце 90-х годов Льдов познакомился с дочерью известного скульптора и художника М.О. Микешина Анной Михайловной, по мужу Баумгартен. Новая привязанность оказалась в жизни Льдова сильной и продолжительной. Он посвящал Анне Михайловне стихи и книги, завещал ей право собственности на все свои труды и сочинения, утверждал, что «еще не было на свете женщины, способной так улавливать мельчайшие оттенки и изгибы художественного слова и философской мысли». Других подруг Льдова обнаружить не удалось. [639] Гумилев-Вашингтон-1, сс.LV-LVI. [640] Анреп-1970, с.411. [641] «Гумилев иногда из «экономии» даже посвящал свои мадригалы различным лицам. Всем, например, известно — об этом уже не раз говорилось в печати — что «Приглашение в путешествие» посвящалось многим, с измененной строфой, смотря по цвету волос воспеваемой: «Порхать над царственною вашей // Тиарой золотых волос…», то: «Порхать над темно-русой вашей // Прелестной шапочкой волос…» — были и «роскошные», и «волнистые» шапки волос, и «атласно-гладкие» шапочки волос. Сам Гумилев в минуты откровенности рассказывал мне, сколько раз это «приглашение» ему «служило», как и второе его «ударное» стихотворение, «С тобой мы связаны одною цепью». В моем альбоме их, конечно, не было, но в нем рукой Гумилева были записаны почти все его лирические стихи, сочиненные им в это время, вплоть до «Моим читателям»» (Одоевцева-1988, с.267). Еще один вариант «Приглашения в путешествие» сохранился в письме О. Арбениной от 15 марта 1920 года, ПСС-8, №178. [642] Одоевцева-1988, с.117. [643] Гумилев-Вашингтон-2, сс.174-176, 325-328. [644] Все эти варианты смотрите в ПСС-3, сс.189-191, 272-275. Еще один вариант приведен в письме Ольге Арбениной от 15 марта 1920 года, ПСС-8, №178. [645] Гумилев-Вашингтон-2, №333, примечание на с.319; смотрите ПСС-3, №84. [646] ПСС-3, с.289. [647] ЗК Ахматовой, с.251, 359. [648] ПСС-4, №53, комментарии на сс.323-326. Н.Я. Мандельштам вспоминала, что незадолго до своего ареста, когда «Нарбута уже не было. Маргулиса уже не было. Клычкова уже не было. Многих уже не было. О.М. бормотал гумилевские строчки — «горе, горе, страх, петля и яма», но потом снова радовался жизни и утешал меня, что все образуется» (Н.Я. Мандельштам. Воспоминания. М.: Книга, 1989, с.269). [649] Гумилев-Вашингтон-2, сс.273-275. [650] В приведенных выше отрывках из писем Глебу Струве (Ларионов-1970, сс.404 и 407) М. Ларионов подтверждает слова Струве о его описании альбома и объясняет появление на его обложке даты 1916 год: «Альбом Николая Степановича, помеченный 1916 г., был начат им в Петербурге, но только начат — все, что там переписанного и заново написанного относится к 1917 году. <…> Я думаю, посмотрите альбом, наверное, российского происхождения. Во всяком случае, рисунок Наталии Сергеевны сделан в Париже и в 1917 году, так как уехали мы из Москвы в июне 1915 года. Рисунки Стеллецкого сделаны, по-моему, также в Париже — потому что Ник. Степ, часто здесь с ним видался и, насколько я помню, Стеллецкий рисовал ему в альбом. <…> Те, что Вы послали фото, совершенно точно: это ее и мой рисунок. [651] Желающие «полистать» оригинал этого издания книги могут это сделать, обратившись к ссылке: http://gumilev.ru/books/pavilion.html . [652] Гумилев-Вашингтон-2, сс.303-308. [653] Приведенная далее рецензия К. Мочульского, а также его статья об этой книге «Последние стихи Гумилева» перепечатаны в сборнике: Константин Мочульский. «Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты». Водолей, Томск, 1999. [654] В рецензии явная ошибка, следует читать — «в 1917 г.» [655] Гумилев-Вашингтон-2, сс.267-270; комментарии на сс.345-346. В комментариях сказано, что «они печатаются с исправлением многочисленных у Гумилева ошибок в орфографии и пунктуации, по текстам в записных книжках Гумилева в архиве Г.П. Струве». [656] ПСС-1, №104. Стихотворение «Камень» посвящено матери поэта — А.И. Гумилевой, ранее оно было послано в письме Брюсову 24.1/6.2 1908 года, ПСС-8, №33. Выполненный «обратный» перевод полностью соответствует по смыслу и по числу строф русскому стихотворению. [657] ПСС-3, №13. Стихотворение впервые было опубликовано в «Русской мысли», 1914, №7. [658] Гумилев-Вашингтон-2, с.346. [659] Стихотворение «Персидская миниатюра» впервые было опубликовано в сборнике «Огненный столп», ПСС-4, №31; самый ранний его русский автограф включен в хранящийся в РГАЛИ альбом «Стихотворения. 1919», РГАЛИ, ф.147, оп.1, ед. хр.4, лл.16-17. [660] Н. Гумилев. Стихотворения. Посмертный сборник. 2-е изд., доп. Пг.: Мысль, 1923. [661] ПСС-8, №158, с.201. [662] Гумилев-Вашингтон-3, сс.245-250. [663] Как предполагает Р. Тименчик, выполненная Павлом Лукницким копия трагедии «Отравленная туника» попала в руки ГПУ после его ареста и трехдневного заключения в конце июня 1929-го года; это пресекло его деятельность по собиранию наследия Гумилева и прервало общение с Анной Ахматовой. «Отравленная туника» «была использована как часть «легенды» разведчика. Она была доставлена в Париж из СССР вторично отправившимся в эмиграцию в 1930 году масоном и советским агентом М.М. Артемьевым-Бренстедом». — Из публикации: Роман Тименчик. К истории культа Гумилева-I. Тыняновский сборник. Выпуск 13: XII-XIII-XIV Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М.: Водолей, 2009, сс.298-351. О том, что какое-то время рукопись, а затем снятая с нее копия пьесы хранились у П. Лукницкого, говорит запись в его дневнике 1928 года: «28 февраля. Позавчера — неприятность — открытка от А.Н. Гумилевой с просьбой принести ей рукопись «Отравленной Туники». Вчера был у нее. — «Тунику» на верное исчезновение, на пропажу, принес ей. Она все так же ужасна — кукла с коротким заводом. И труслива и идиотична». — П.Н. Лукницкий. Дневник 1926 года. Acumiana/ 1928-1929. Публикация и комментарии Т.М. Двинятиной. В книге: Лица. Биографический альманах-9. СПб., Феникс, 2002, с.357. Там же — об аресте Лукницкого в июне 1929-го года, сс.342-343. [664] Примечание Г. Струве: «Фраза в скобках на присланном мне экземпляре зачеркнута. Над нею карандашом рукой Маковского надписано: (Посмертное издание)». [665] Примечание Г. Струве: «О существовании такого книгоиздательства мне неизвестно. Возможно, что оно проектировалось, или же марка эта была придумана ad hoc (лат. — «к данному случаю»). [666] Примечание Г. Струве: «Ю. Терапиано. «Отравленная Туника». «Новое Русское Слово», 22 октября 1950 г. Терапиано писал, что на первой странице полученной им рукописи было написано Гронским: «Переписано мною в июле 1934 года с копии копии подлинника для невесты моего друга. Н. Гронский». Первые 46 страниц текста были настуканы на машинке, страницы 47—53 написаны рукой самого Гронского. На эту статью в той же газете отозвалась в № от 12 ноября 1950 г. К.В. Деникина, которая писала, что у Гронского было две копии «ОТ». На первой, сделанной им в 1930 г. (дата эта расходится с датой, даваемой Львовым), была помета рукой Гронского: «Маргарите на память от Николая. 12 сентября 1930 г.» В этой машинописи было 42 страницы. На второй копии, переписанной в 1934 г., было надписано: «II экземпляр рукописи Отравленная Туника. Трагедия в 5 действиях Н. Гумилева». На последней странице машинописи Гронский написал: «Рукопись переписана мною в 1930 г. с копии подлинника». Из дальнейшего письма Терапиано вытекало, что Гронским было сделано не две, а, по крайней мере, три копии. Ссылка Гронского на 1930 год, дважды повторенная, показывает, что либо он получил рукопись раньше Л.И. Львова, либо последний ошибся в годе. Нет никаких оснований думать, что копии Гронского восходили к другому «подлиннику». Я видел только ту копию Гронского, которая оказалась у Терапиано». [667] Из более поздних писем Ларионова Глебу Струве следует, что к написанию пьесы Гумилев приступил сразу же, как попал в Париж, в июле 1917-го года, вначале в связи с либретто для балета Дягилева. [668] Примечание Г. Струве: «Георгий Иванов, «Гумилев», «Дни», 11 октября 1925 г.» [669] Труды и дни, сс.278, 281. [670] Подробнее об этом аресте Лукницкого и его последствиях смотрите публикацию: П.Н. Лукницкий. Дневник 1928 года. Acumiana. 1928-1928. Публикация и комментарии Т.М. Двинятиной; в книге: Лица. Биографический альманах-9. Феникс, СПб., 2002, сс.342-344. [671] Гумилев-Вашингтон-3, сс.266-272. [672] Гумилев-1991-1, с.397; ПСС-5, с.341; Гумилев-Вашингтон-3, №415, сс.223-224. [673] Труды и дни, сс.275-276. [674] ПСС-8, №№156, 157. [675] Гумилев-Вашингтон-4, с.557. [676] Диаграмма воспроизведена Р. Тименчиком в книге: Тименчик-1990, с.359. [677] Современные записки. Париж, 1922, № 9, с.314. Цитируется по Тименчик-1990, с.359. [678] Впервые опубликован в журнале «Сполохи» (Берлин), 1922, №10, сс.20-21. [679] Труды и дни, с.269. [680] Гумилев-Вашингтон-4, сс.591-595. [681] ППС-6, №18, с.184. [682] РГВИА, ф.15223, оп.1, д.18, л.88-112. [683] Александр Эткинд. Хлыст. Секты, литература и революция. Кафедра славистики Университета Хельсинки. Новое литературное обозрение. М., 1998, сс.131-132. [684] Помимо бумаг, Гумилев прихватил из Лондона своеобразный «гардероб», в котором будет иногда щеголять, шокируя голодный Петроград, об этом будет сказано ниже несколько слов. [685] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.40, л.176; ф.15304, оп.2, д.50, л.12. [686] Ставицкий-2004, с.28. [687] Исторические чтения на Лубянке: 1997 — 2007. М.: Кучково поле, 2008. — 368 стр. В выходных данных сказано: «Издание осуществлено при финансовой поддержке Региональной общественной организации «Объединение выпускников Высшей школы КГБ»». [688] Указанная книга, сс.140-148. [689] Там же, сс.17-18. [690] Там же, с.20. [691] ПСС-4, №27. [692] Труды и дни, с.276. Когда Лукницкий работал над «Трудами и днями», в 1920-е годы, паспорт, по которому Гумилев вернулся из Англии, еще существовал, по моим сведениям, в семье Лукницкого он хранился, по крайней мере, до начала 1980-х годов. Во временных описях переданного в Пушкинский Дом архива Лукницкого обнаружить его не удалось. Уцелел ли паспорт, и где он сейчас находится — сказать трудно. Известно, что В.К. Лукницкая передала далеко не весь архив своего мужа в Пушкинский Дом. Однако сейчас, после смерти ее сына Сергея, установить судьбу остававшихся в семье бумаг — затруднительно. [693] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.50, л.68. [694] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.50, л.34. [695] РГВИА, ф.15304, оп.2, д.50, л.32. Документ на французском языке, адресованный Игнатьеву 7 апреля 1918-го года. [696] РГВИА, ф.15236, оп.1, д.6, л.39. [697] Гумилев-Вашингтон-1, с.XXIX. [698] Струве Г.П. Неизданный Гумилев. Нью-Йорк, 1952, с.10. [699] Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991, с.86. [700] Анреп-1970, с.411. [701] Лукницкий-I, с.34. [702] Мозаика воспроизведена в «Неакадемических комментариях-4» — http://www.utoronto.ca/tsq/22/stepanov22.shtml. [703]
ПСС-4, №45. На эту мозаику Бориса Анрепа впервые указал в своей неопубликованной
работе Майкл Баскер. Мозаика и семейный портрет Анрепов воспроизведены ниже по
изданию: Lois Oliver.
Boris Anrep. The National
Gallery Mosaics. National Gallery Company, London, 2004. [704] Анреп-1970, с.410. [705] Ларионов-1970, сс.404-409. [706] Выделено в письме Ларионовым. [707]
Ustinov Andrey. Two Episodes from the Biography of Nikolai Gumilev. A Sense of
Place. Tsarskoe Selo and its Poets. Columbus, Ohio, 1993, p.300. [708] Ben Hellman. An aggressive imperialist? The controversy over Nikolaj Gumilev's war poetry. В книге: Nikolaj Gumilev. 1886 — 1986. Papers from the Gumilev Centenary Symposium. Held at Ross Priory, University of Strathclyde, 1986. Edited, with an introduction, by Sheelagh Duffin Graham. Berkeley Slavic Specialties, 1987, pp.152-154. [709] Поначалу казалось, что упоминание в начале поэмы парка Dartnell поможет уточнить место службы Вадима Гарднера, следовательно, и остальных обитателей «India House». Но оказалось, что единственная реалия с таким названием (улица Park Road) расположена в селе West Byfleet, на юго-западной окраине большого Лондона, примерно в 20 милях от центра города. Как это место связано с биографией Гарднера — установить не удалось. [710] Ассиро-Вавилонский эпос. Переводы с шумерского и аккадского языков В.К. Шилейко. СПб.: Наука, 2007, сс.353-358. Сам перевод вышел в марте 1919 года. [711] Труды и дни, с.276. [712] Одоевцева-1988. Упоминаний очень много, поэтому страницы не указываю. [713] Там же, сс.205-206. [714] Там же, с.177. [715] РГАЛИ, ф.232, оп.1, ед.хр.57, л.114 об., 116 об. [716] Труды и дни, с.278-279. [717] Хроника-1920-х годов, том1, часть 1, с.187. Объявление об этом вечере появилось в газете «Дело народа» 10 мая. В «Записных книжках» Блока об этом вечере сказано: «Люба читает «Двенадцать». Отказались Пяст, Ахматова и Сологуб». (Александр Блок. Записные книжки. 1901 — 1920. М.: Художественная литература, 1965, с.406). [718] Там же, с.124. [719] ЗК Ахматовой, с.486. [720] Марина Цветаева, История одного посвящения, в 4 томе Собрания сочинений в семи томах. Эллис Лак. М., 1994, с.142. [721] Хроника-1920-х годов, том1, часть 2, с.142. [722] РГВИА, ф.15304, оп.1, д.191, л.54-56. [723] ПСС-8, №48. Впервые опубликовано Глебом Струве в Гумилев-Вашингтон-4, сс.545-548. [724] РГВИА, ф.15304, оп.1, д.53, л.83, 94-95. [725] Примечание Г. Струве: «Среди бумаг, оставленных Гумилевым Б. Анрепу в Лондоне и находящихся сейчас в архиве Глеба Струве, есть листок, на котором на одной стороне набросан черновик этого стихотворения. В черновике шесть строф, и два последних четверостишия явно совсем другие, но кроме отдельных слов не поддаются расшифровке. В первых строфах, написанных более разборчиво, есть мелкие разночтения. Под стихотворением, написанным чернилами, карандашом нарисована десятиконечная звезда. На другой стороне этого же листка — четыре строки из поэмы «Два сна» и Оглавление этой поэмы (см. примечание №397)». — Гумилев-Вашингтон-2, сс.290 и 342-343. [726] Хроника-1920-х годов, том1, часть 1, с.219 и 222. [727] Юрий Терапиано. Встречи. «Блистательный Монпарнас». В книге: Русский Париж. Изд-во МГУ, 1998, с.158. Ю. Терапиано, рассказывая о знаменитом парижском кафе La Closerie des Lilas («Клозри де Лиля») на бульваре Монпарнас, 171, пишет: «Бывая в Париже перед войной, Гумилев в честь Леконта де Лиля устроил там свою штаб-квартиру». Если это и было, то, конечно, не перед войной, а во время войны. Хотя, скорее всего, — это отголоски чьих-то рассказов о гумилевском Париже 1906-1908 годов. Смотрите, например, воспоминания Александра Биска «Русский Париж 1906-1908 годов» в той же книге, с.45-53. Автор выражает благодарность Майклу Баскеру, Н.М. Иванниковой, Е.А. Резвану, Р.Д. Тименчику и Сергею Сербину за помощь в работе, предоставленные материалы, ценные замечания и дополнения. © E. Stepanov
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Department of Slavic Languages and Literatures.
© Toronto Slavic Quarterly · Copyright Information Contact Us · Webmaster: Ivan Yushin · Design Number from 34 to 53: Andrey Perensky (ImWerden, Вторая литература) · Design: Serguei Stremilov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||